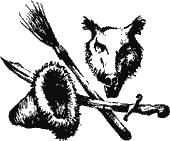– А этот, душегуб, кровопивец, что здесь был, – вспомнила она о Семене Иванове, – сохрани, говорит, Агафья Тихоновна! Лисит, злодей, тоже добрым прикидывается… Погоди, лисий хвост, сохраню я тебе твою полюбовницу, так сохраню, что и сам наищешься… Кажись, и он был, как тащили Аленушку, будто бы я его видела… Так и есть, видела… Как пить дать он и есть… Семь-ко я отомщу за Аленушку… Надругались над ней, ненаглядной, сгубили во цвете лет касаточку… Надругаюсь и я над полюбовницей изверга… Умерла моя кралечка… пусть и эта околеет, проклятая!..
В глазах старухи сверкнул какой-то адский огонь. С протянутыми вперед костлявыми руками бросилась она на лежавшую Елену Афанасьевну и правою рукою с такой неимоверною силою сжала ей горло, что глаза несчастной широко раскрылись в предсмертной агонии, а язык высунулся на половину изо рта.
Раздался предсмертный крик, и Аленушки не стало.
Агафья Тихоновна как бы окаменела над трупом задушенной ею женщины, и, сидя на полу, все сильнее и сильнее сжимала ей горло.
Она, казалось, с наслаждением впивалась глазами в искаженное лицо лежавшей и вдруг… в ужасе отняв руку, отскочила от мертвой.
– А кажись, это и впрямь… Аленушка! – диким голосом вскрикнула Агафья и остановясь посреди комнаты, стала снова тихо подходить к лежавшей, пристально рассматривая ее. – Да… да… вестимо, Аленушка…
Она подскочила к трупу и стала срывать с нее платье и рубашку.
На груди умершей блеснул золотой крест с четырьмя изумрудами.
– Она… она… Ах я окаянная! – простонала старуха, к которой на минуту явилось полное сознание.
Эта минута показалась ей страшно продолжительной. Весь ужас совершенного ею преступления восстал перед ней. Своими руками она убила ту, которая ей была дороже и милее всего на свете… убила свою… Аленушку.
Светлый промежуток миновал, но сознание, что перед ней ее питомица Елена Афанасьевна, осталось.
Она стала тормошить труп.
– Аленушка, касаточка, встань, очнись, ненаглядная… это я, твоя здесь нянюшка, Агафья… встань ты, дитятко, проснись… Что ж ты глядишь на меня, словно испугалася… язык-то спрячь… красавица…
Труп действительно глядел на нее во все глаза, в которых отразился весь ужас неожиданной смерти.
– Встань же, родимая… пойдем, милушка, в твою горенку, положу я тебя на постель пуховую, расправишь ты свои косточки усталые. Встань же… очнись!
Агафья Тихоновна то приподнимала труп в своих объятиях, то снова опускала его на пол, трясла за руки, а слезы ручьем текли из ее старческих глаз.
Снова наступил момент сознания.
– Умерла, умерла Аленушка, убила я ее, проклятая…
Она упала на труп, обливая его горячими слезами и огласила комнату дикими воплями.
Вдруг она остановилась, и какая-то блаженная улыбка появилась на ее губах.
– Это хорошо… кровопивцу она не достанется… она… Христова невеста… теперь у Него, Батюшки, в обители, а я с ней сейчас свяжусь…
Над лавкой, около которой лежал труп, на стене была перекладина, видимо оставшаяся от полки, на которой стояла серебряная посуда, украденная опричниками, сломавшими и самую полку. С быстротой молодой девушки вскочила старуха на лавку, привязала бывшую у ней в руках веревку с петлей, просунула в последнюю голову и быстрым движением опрокинув лавку, повисла на веревке.
Тяжелая дубовая лавка с такою силою упала на труп Аленушки, что рассекла ей лоб. Кровь не брызнула.
Среди невозмутимой тишины горницы раздался лишь протяжный крик удавленницы, и затем все смолкло.
Глаза старухи тоже широко открылись и как бы впились в глаза лежавшей под опрокинутой лавкой мертвой Аленушки.
Вид мертвой Агафьи Тихоновны с прикушенным до половины языком был страшен.
Не прошло и десяти минут после совершившейся ужасной катастрофы, как дверь в горницу дома Горбачева отворилась и на ее пороге с улыбкой радостного ожидания на губах появился Семен Иванов Карасев.
Взглядом, полным неподдающегося описанию ужаса, окинул он эти два обезображенных трупа и как подкошенный без чувств повалился у порога того дома, куда еще так недавно мечтал войти счастливым женихом.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
В глазах старухи сверкнул какой-то адский огонь. С протянутыми вперед костлявыми руками бросилась она на лежавшую Елену Афанасьевну и правою рукою с такой неимоверною силою сжала ей горло, что глаза несчастной широко раскрылись в предсмертной агонии, а язык высунулся на половину изо рта.
Раздался предсмертный крик, и Аленушки не стало.
Агафья Тихоновна как бы окаменела над трупом задушенной ею женщины, и, сидя на полу, все сильнее и сильнее сжимала ей горло.
Она, казалось, с наслаждением впивалась глазами в искаженное лицо лежавшей и вдруг… в ужасе отняв руку, отскочила от мертвой.
– А кажись, это и впрямь… Аленушка! – диким голосом вскрикнула Агафья и остановясь посреди комнаты, стала снова тихо подходить к лежавшей, пристально рассматривая ее. – Да… да… вестимо, Аленушка…
Она подскочила к трупу и стала срывать с нее платье и рубашку.
На груди умершей блеснул золотой крест с четырьмя изумрудами.
– Она… она… Ах я окаянная! – простонала старуха, к которой на минуту явилось полное сознание.
Эта минута показалась ей страшно продолжительной. Весь ужас совершенного ею преступления восстал перед ней. Своими руками она убила ту, которая ей была дороже и милее всего на свете… убила свою… Аленушку.
Светлый промежуток миновал, но сознание, что перед ней ее питомица Елена Афанасьевна, осталось.
Она стала тормошить труп.
– Аленушка, касаточка, встань, очнись, ненаглядная… это я, твоя здесь нянюшка, Агафья… встань ты, дитятко, проснись… Что ж ты глядишь на меня, словно испугалася… язык-то спрячь… красавица…
Труп действительно глядел на нее во все глаза, в которых отразился весь ужас неожиданной смерти.
– Встань же, родимая… пойдем, милушка, в твою горенку, положу я тебя на постель пуховую, расправишь ты свои косточки усталые. Встань же… очнись!
Агафья Тихоновна то приподнимала труп в своих объятиях, то снова опускала его на пол, трясла за руки, а слезы ручьем текли из ее старческих глаз.
Снова наступил момент сознания.
– Умерла, умерла Аленушка, убила я ее, проклятая…
Она упала на труп, обливая его горячими слезами и огласила комнату дикими воплями.
Вдруг она остановилась, и какая-то блаженная улыбка появилась на ее губах.
– Это хорошо… кровопивцу она не достанется… она… Христова невеста… теперь у Него, Батюшки, в обители, а я с ней сейчас свяжусь…
Над лавкой, около которой лежал труп, на стене была перекладина, видимо оставшаяся от полки, на которой стояла серебряная посуда, украденная опричниками, сломавшими и самую полку. С быстротой молодой девушки вскочила старуха на лавку, привязала бывшую у ней в руках веревку с петлей, просунула в последнюю голову и быстрым движением опрокинув лавку, повисла на веревке.
Тяжелая дубовая лавка с такою силою упала на труп Аленушки, что рассекла ей лоб. Кровь не брызнула.
Среди невозмутимой тишины горницы раздался лишь протяжный крик удавленницы, и затем все смолкло.
Глаза старухи тоже широко открылись и как бы впились в глаза лежавшей под опрокинутой лавкой мертвой Аленушки.
Вид мертвой Агафьи Тихоновны с прикушенным до половины языком был страшен.
Не прошло и десяти минут после совершившейся ужасной катастрофы, как дверь в горницу дома Горбачева отворилась и на ее пороге с улыбкой радостного ожидания на губах появился Семен Иванов Карасев.
Взглядом, полным неподдающегося описанию ужаса, окинул он эти два обезображенных трупа и как подкошенный без чувств повалился у порога того дома, куда еще так недавно мечтал войти счастливым женихом.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Судные дни Великого Новгорода окончились.
Слова Семена Иванова Карасева запали глубоко в душу Иоанна. Он приказал прекратить следствие по изменному делу. Опричники были собраны и усажены в слободах, назначенных для их постоя. Царь на другой же день призвал к себе Бориса Годунова.
– Что в несчастном городе? – спросил он его.
– Боятся, государь, верить покуда минованию ужасов…
– О, Господи! Что мне делать преступнику!? – воскликнул царь, и крупные слезы покатились из его глаз.
– Во-первых, государь, благоволишь ободрить заутра уцелевших… Во-вторых, разошлем помянники по обителям о поминовении страдальцев и страдалиц от Малютиной злобы… и коварства.
– Моленье о душах их наша обязанность, но не сильны они смыть с души моей злодейства рабов моих.
– Государь, жертвы не встают… но за то грабителей, притеснителей, ради корысти пустившихся на доносы, да не пощадит твое правосудие.
– Делай с ними что знаешь… и с Малютой.
– Ты не увидишь его более, государь… разве что доведется ему честно сложить голову в бою.
– О нем не напоминай… Приготовь все к выезду нашему… да собрать людей новгородских… хочу уверить их в безопасности.
Наступило утро, в полном смысле великопостное, сырое, промозглое, туманное. Небольшими и редкими кучками удалось расставить горожан, унылых, робких, загнанных, уцелевших от казней. Как живые тени, стояли эти остатки недавно еще густого и бодрого населения.
– Едет! Едет! – торопливо закричали десятники стрелецкие, равняя ряды приведенных. Последние сняли шапки и опустились на колени.
Иоанн въехал в круг их и дрожащим от волнения голосом заговорил:
– Ободритесь, граждане новгородские, пусть судит Бог виновных пролития крови! Зла отныне не будет никому, ни единого. Узнал я, но поздно… злодейство. Кладу на душу мою излишество наказания, допущенное по моему неведению… Оставляю правителей справедливых… но памятуя, что человеку сродно погрешить, я повелел о делах ваших доносить мне прежде выполнения карательных приговоров…
Слова милости еще звучали в ушах не бывших в состоянии придти в себя горожан, а царь и царевич со свитою уже скрылись из виду.
Слова Бориса Годунова относительно Малюты исполнились – он умер честною смертью воина, положив голову на стене крепости Вигтенштейна, как бы в доказательство того, что его злодеяния превзошли меру земных казней.
Злоба его не коснулась Федосея Афанасьевича, который, получив после брата оставшееся имущество, передал торговые дела второму сыну, а сам после отъезда Иоаннова из слободы, перебрался в Москву, в которой дожил до глубокой старости, схоронив жену, женив сыновей и выдав замуж дочерей, дождался не только внуков, но и правнуков.
В Юрьевом Новгородском монастыре, золоченые главы которого и до сих пор блестят на солнце, пленяя взор путешественника и вливают в его душу чувство благоговения, среди уцелевшей братии появился новый, строгий к себе послушник, принявший обет молчания. Слава о его святой жизни скоро разнеслась в народе, сотнями стекавшемся посмотреть на «молчальника».
Через несколько лет этот послушник принял схиму, под именем отца Зосима.
Это был никто иной, как Семен Иванов Карасев, оставшийся в живых и поседевший в одну ночь, проведенную в беспамятстве, около трупа несчастной Аленушки и не менее несчастной Агафьи Тихоновой.
В помянниках Иоанна Грозного эти две жертвы новгородского погрома записаны не были.
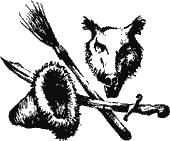
Слова Семена Иванова Карасева запали глубоко в душу Иоанна. Он приказал прекратить следствие по изменному делу. Опричники были собраны и усажены в слободах, назначенных для их постоя. Царь на другой же день призвал к себе Бориса Годунова.
– Что в несчастном городе? – спросил он его.
– Боятся, государь, верить покуда минованию ужасов…
– О, Господи! Что мне делать преступнику!? – воскликнул царь, и крупные слезы покатились из его глаз.
– Во-первых, государь, благоволишь ободрить заутра уцелевших… Во-вторых, разошлем помянники по обителям о поминовении страдальцев и страдалиц от Малютиной злобы… и коварства.
– Моленье о душах их наша обязанность, но не сильны они смыть с души моей злодейства рабов моих.
– Государь, жертвы не встают… но за то грабителей, притеснителей, ради корысти пустившихся на доносы, да не пощадит твое правосудие.
– Делай с ними что знаешь… и с Малютой.
– Ты не увидишь его более, государь… разве что доведется ему честно сложить голову в бою.
– О нем не напоминай… Приготовь все к выезду нашему… да собрать людей новгородских… хочу уверить их в безопасности.
Наступило утро, в полном смысле великопостное, сырое, промозглое, туманное. Небольшими и редкими кучками удалось расставить горожан, унылых, робких, загнанных, уцелевших от казней. Как живые тени, стояли эти остатки недавно еще густого и бодрого населения.
– Едет! Едет! – торопливо закричали десятники стрелецкие, равняя ряды приведенных. Последние сняли шапки и опустились на колени.
Иоанн въехал в круг их и дрожащим от волнения голосом заговорил:
– Ободритесь, граждане новгородские, пусть судит Бог виновных пролития крови! Зла отныне не будет никому, ни единого. Узнал я, но поздно… злодейство. Кладу на душу мою излишество наказания, допущенное по моему неведению… Оставляю правителей справедливых… но памятуя, что человеку сродно погрешить, я повелел о делах ваших доносить мне прежде выполнения карательных приговоров…
Слова милости еще звучали в ушах не бывших в состоянии придти в себя горожан, а царь и царевич со свитою уже скрылись из виду.
Слова Бориса Годунова относительно Малюты исполнились – он умер честною смертью воина, положив голову на стене крепости Вигтенштейна, как бы в доказательство того, что его злодеяния превзошли меру земных казней.
Злоба его не коснулась Федосея Афанасьевича, который, получив после брата оставшееся имущество, передал торговые дела второму сыну, а сам после отъезда Иоаннова из слободы, перебрался в Москву, в которой дожил до глубокой старости, схоронив жену, женив сыновей и выдав замуж дочерей, дождался не только внуков, но и правнуков.
В Юрьевом Новгородском монастыре, золоченые главы которого и до сих пор блестят на солнце, пленяя взор путешественника и вливают в его душу чувство благоговения, среди уцелевшей братии появился новый, строгий к себе послушник, принявший обет молчания. Слава о его святой жизни скоро разнеслась в народе, сотнями стекавшемся посмотреть на «молчальника».
Через несколько лет этот послушник принял схиму, под именем отца Зосима.
Это был никто иной, как Семен Иванов Карасев, оставшийся в живых и поседевший в одну ночь, проведенную в беспамятстве, около трупа несчастной Аленушки и не менее несчастной Агафьи Тихоновой.
В помянниках Иоанна Грозного эти две жертвы новгородского погрома записаны не были.