Страница:
Телохранители раскинули плащ и отошли. Викинги сдвинулись поближе к ярлу, но ни один не решился переступить ближе десяти шагов. Оттар запустил руку в мешочек и вытащил несколько белых палочек длиной в четверть. На каждой была выжжена одна руна.
Вот «половина стрелы» – , «лаугр», или «вода».
, «лаугр», или «вода».
Вот «двуножие» – , «ур», или «искра».
, «ур», или «искра».
И «еловая ветка» – , «ос», или «вход».
, «ос», или «вход».
Все эти знаки хороши при гадании.
Но на следующих, оказавшихся в горсти, читалось совсем иное.
Вот «виселица» – , «каун», или «чума».
, «каун», или «чума».
И «распятый на столбе» – , «гагль», он же «град».
, «гагль», он же «град».
Оба эти знака очень плохи, они предвещают беду со всех сторон: от моря, от камней и с неба. На последней палочке был знак, похожий на открывшего объятия друга – , «науд», он же «близость». Хороший знак, когда нет «кауна» и «гагля», но очень опасный, когда следует за ними.
, «науд», он же «близость». Хороший знак, когда нет «кауна» и «гагля», но очень опасный, когда следует за ними.
Зная, что на него смотрят, не спуская глаз, больше шестисот так или иначе взволнованных викингов, ярл медленно сел на плащ и закрылся полой.
Перед чтением гадания, которое решит судьбу похода в неведомые моря, нидаросский ярл вступал в общение с Вотаном.
Оттар размышлял. Гнездо будущего короля викингов можно устроить дальше, прикрывшись дурным фиордом, как щитом. Но эта неприступность будет лишь временной. Лапоны-гвенны создавали наибольшую часть богатства Нидароса. Здесь безлюдно. Чтобы впоследствии победить Черного и бондэров, нужно богатство и богатство. Через год у Оттара будет больше тысячи викингов, через семь или восемь лет – столько же тысяч сколько пройдет лет. Тогда он устроит Рагнаради для Черного и бондэров. Да, а на что же кормить и баловать викингов, строить драккары? Одних набегов мало, нужны богатые населенные земли.
Оттар незаметно положил обратно в мешочек опасные руниры «гагль» и «каун». Общение с Вотаном закончилось. Ярл откинул плащ и бросил палочки на черное сукно. Викинги надвинулись, как стадо голодных быков к корму.
Для тех, кто не мог подойти ближе или не понимал знаков, Эстольд громко возглашал руну за руной:
– Вода. Вход. Близость. Искра! Успех – несомненный – ждет – смелого!
Редко случалось, чтобы руниры ложились столь благополучно. Оттар закричал:
– На борт!
Кормчие повторили приказ. В числе первых, кто охотно побежал к «Черной Акуле», Оттар заметил варяга Горика. Хороший гребец и, вероятно, верный меч, он будет полезен.
Оттар внимательно присматривался к своим новым викингам: трусливые и слабые не нужны Нидаросу.
В других руках Горик был бы осужден вечно носить ошейник, хотя он не был купленным или взятым в бою траллсом. Но жадному Оттару было невыгодно заставить носить ошейник человека, выброшенного морем в подарок. Конечно, если он годился на лучшее, как Горик. Настоящего клейменого траллса ярл никогда бы не освободил.
Уже все были на местах и ждали своего ярла, вновь послушные и гибкие.
– Как вы могущественны, о руниры! – с иронией произнес Оттар начало всех заклинаний священными знаками. Он верил в гадания. Но еще больше верил в свою волю, в свой разум.
Ярлы и викинги взаимно клялись в соблюдении общих интересов, но отнюдь не в какой-либо другой, отвлеченной верности. Бывали случаи отказа викингов от похода, что не считалось предательством. Оттар хотел управлять не простым понуждением.
…Через три дня и ветер и течение понесли драккары на восток, а земля по-прежнему была справа. Пять дней флотилия неслась на восток, бессознательно огибая северный край земли фиордов. Затем ветер потянул с севера, а перед носами драккаров по-прежнему простиралось открытое море и земля по-прежнему лежала на правой руке!
Викинги поняли, что они окружили землю фиордов. Где они? Не Гандвик ли это, таинственное море колдунов, о котором никто ничего не знал?
В воде теснились стада неисчислимых китов и кашалотов. А птицы, тюлени, моржи летели и плыли прямо на юг. Эстольд посоветовал оторваться от пустынного, безлюдного берега и последовать примеру животных. На пятый день с того утра, когда флотилия вошла в Гандвик, с высокой мачты «Дракона» был замечен берег и на воде – несколько лодок, похожих на лапонские.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Часть первая
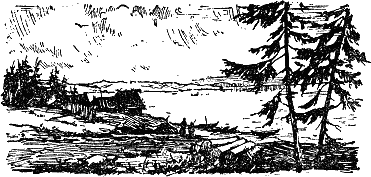
Глава первая
1
2
3
Глава вторая
1
2
3
Вот «половина стрелы» –
 , «лаугр», или «вода».
, «лаугр», или «вода».Вот «двуножие» –
 , «ур», или «искра».
, «ур», или «искра».И «еловая ветка» –
 , «ос», или «вход».
, «ос», или «вход».Все эти знаки хороши при гадании.
Но на следующих, оказавшихся в горсти, читалось совсем иное.
Вот «виселица» –
 , «каун», или «чума».
, «каун», или «чума».И «распятый на столбе» –
 , «гагль», он же «град».
, «гагль», он же «град».Оба эти знака очень плохи, они предвещают беду со всех сторон: от моря, от камней и с неба. На последней палочке был знак, похожий на открывшего объятия друга –
 , «науд», он же «близость». Хороший знак, когда нет «кауна» и «гагля», но очень опасный, когда следует за ними.
, «науд», он же «близость». Хороший знак, когда нет «кауна» и «гагля», но очень опасный, когда следует за ними.Зная, что на него смотрят, не спуская глаз, больше шестисот так или иначе взволнованных викингов, ярл медленно сел на плащ и закрылся полой.
Перед чтением гадания, которое решит судьбу похода в неведомые моря, нидаросский ярл вступал в общение с Вотаном.
Оттар размышлял. Гнездо будущего короля викингов можно устроить дальше, прикрывшись дурным фиордом, как щитом. Но эта неприступность будет лишь временной. Лапоны-гвенны создавали наибольшую часть богатства Нидароса. Здесь безлюдно. Чтобы впоследствии победить Черного и бондэров, нужно богатство и богатство. Через год у Оттара будет больше тысячи викингов, через семь или восемь лет – столько же тысяч сколько пройдет лет. Тогда он устроит Рагнаради для Черного и бондэров. Да, а на что же кормить и баловать викингов, строить драккары? Одних набегов мало, нужны богатые населенные земли.
Оттар незаметно положил обратно в мешочек опасные руниры «гагль» и «каун». Общение с Вотаном закончилось. Ярл откинул плащ и бросил палочки на черное сукно. Викинги надвинулись, как стадо голодных быков к корму.
Для тех, кто не мог подойти ближе или не понимал знаков, Эстольд громко возглашал руну за руной:
– Вода. Вход. Близость. Искра! Успех – несомненный – ждет – смелого!
Редко случалось, чтобы руниры ложились столь благополучно. Оттар закричал:
– На борт!
Кормчие повторили приказ. В числе первых, кто охотно побежал к «Черной Акуле», Оттар заметил варяга Горика. Хороший гребец и, вероятно, верный меч, он будет полезен.
Оттар внимательно присматривался к своим новым викингам: трусливые и слабые не нужны Нидаросу.
В других руках Горик был бы осужден вечно носить ошейник, хотя он не был купленным или взятым в бою траллсом. Но жадному Оттару было невыгодно заставить носить ошейник человека, выброшенного морем в подарок. Конечно, если он годился на лучшее, как Горик. Настоящего клейменого траллса ярл никогда бы не освободил.
Уже все были на местах и ждали своего ярла, вновь послушные и гибкие.
– Как вы могущественны, о руниры! – с иронией произнес Оттар начало всех заклинаний священными знаками. Он верил в гадания. Но еще больше верил в свою волю, в свой разум.
Ярлы и викинги взаимно клялись в соблюдении общих интересов, но отнюдь не в какой-либо другой, отвлеченной верности. Бывали случаи отказа викингов от похода, что не считалось предательством. Оттар хотел управлять не простым понуждением.
…Через три дня и ветер и течение понесли драккары на восток, а земля по-прежнему была справа. Пять дней флотилия неслась на восток, бессознательно огибая северный край земли фиордов. Затем ветер потянул с севера, а перед носами драккаров по-прежнему простиралось открытое море и земля по-прежнему лежала на правой руке!
Викинги поняли, что они окружили землю фиордов. Где они? Не Гандвик ли это, таинственное море колдунов, о котором никто ничего не знал?
В воде теснились стада неисчислимых китов и кашалотов. А птицы, тюлени, моржи летели и плыли прямо на юг. Эстольд посоветовал оторваться от пустынного, безлюдного берега и последовать примеру животных. На пятый день с того утра, когда флотилия вошла в Гандвик, с высокой мачты «Дракона» был замечен берег и на воде – несколько лодок, похожих на лапонские.

КНИГА ТРЕТЬЯ
«МОЛОТАМИ КОВАНО»
Я прошел через моря, где еще никто не
ходил. Поэтому здесь все – мое!
Скандинавские саги
Не только документы, но, что еще важнее, быт, нравы, государственность средневековой и новой Западной Европы явственно, неоспоримо показывают глубину исторического воздействия скандинавских пиратов…
Напор скандинавских завоевателей на Восток оказался неудачным. Союзы приильменских славян решительно и раз навсегда отбросили скандинавов. Но напор скандинавов на Запад, происходивший в VIII, IX и Х веках, оказался успешным. Эти события представляются весьма важными в мировой истории.

Часть первая
БЕДА ХУЖЕ СМЕРТИ
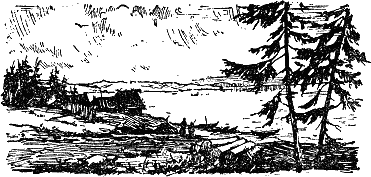
Глава первая
1
Две тяжело груженные расшивы издалека шли вниз по реке Ваге, гребли по течению, спешно махали тяжелыми веслами, спускались на Двину. Поморянский старшина Одинец вместе с товарищами кузнецами, подмастерьями и работниками возвращался из поездки за железной землей.
Идет одиннадцатое лето с того времени, когда Доброгина ватага новгородских повольников вышла на Вагу из Черного леса. Железная земля-руда была найдена умельцами на болотах немного выше памятных острожков с пушниной, подаренной ватаге первым старшиной Доброгой.
Эти болота, такие дорогие для осевших по Ваге, Двине и на морском берегу новгородцев, обширны и мелководны. По ним, на кочкарнике и мхах, вперемежку с березняком и осинником, корежится кривой ельник.
Руду копают из-под корней. Она по виду черная с кровяно-красным, будто к жирному лиственному перегною примешалась мука от крепко обоженных и толченых горшечных черепков. Горсть руды тяжела, куда больше тянет, чем такая же горсть речного песка.
Уже восьмое лето расшивы поморянских и других кузнецов приходят на железные болота. Место известное, обжитое.
Стоят избушки, чтобы было где спать в рабочие недели, и берестяные вежи биарминов. Биармины тоже собирают руду. Здесь хранится рудная снасть – широкие, долбленные из комлей ступы, тяжелые песты. Для осушения болот прокопаны канавы.
Все лишнее – листву, щепу, корешки и перегной – выжигают из руды на кострах. Золу тщательно толкут в ступах и веют деревянными лопатами.
В остатке, в крепком черном порошке, скрывается железо. Порошок собирают в лубяные короба и грузят в расшивы.
Этой весной досадливые затяжные дожди мешали поморянам прокаливать и веять руду. Кузнецы сверх обычного задержались на болотах. Ныне семейным домовитым людям хотелось поскорее попасть домой, и они гребли вниз по течению без остановок, без заездов к знакомым и родичам.
Пробежали мимо места, названного Доброгиной заимкой, против которой было выжжено первое памятное поле, огнище, по старому сухостою. Местные жители подплывали к расшивам на лодках побеседовать с поморянами.
При огнище остался починок, а городка, о котором в светлой первой радости владения вольной рекой горячо помечтал Доброга, этого городка не получилось.
Близ мыса, где новгородцы впервые встретились с биарминами и счастливо подружились с отцом жены Сувора Бэвы, у слияния Ваги с Двиной, устроился второй починок, побольше первого.
Вскоре поморянские расшивы прошли мимо третьего памятного места, где повольники сражались и мирились с биарминами.
Здесь, на двинском берегу, отдали души восемь повольников, с которыми уснул и Радок, брат ненаглядной для Одинца Заренки.
Одинец торопил расшивы, ему было тошно, он стосковался вдали от своего двора. Поморянского старшину все почитают, все любят. И на поморье, и на Двине нет у него врагов и недоброжелателей. Ему как будто в жизни удалось все. Однако же он невесел. Почему? Об этом трудно рассказать, он сам об этом не сказал бы.
Как бы человека ни мучила жажда, как бы ни томил голод, – утолил их и забыл. Но чем Одинцу утишить беспокойное чувство сердца? Есть такая пища но не каждому дано к ней прикоснуться.
Расшивы спустились до колмогор – местности, откуда нижнее течение Двины разливалось разделенными островами протоками.
Здесь расположилось самое большое поселение, Колмогорянский пригородок. Новгородцы привыкли звать пригородами или пригородками все свои города, кроме главного, Новгорода. Место это по-биарминовски звалось Калма-ваары – Могилы-бугры, за древние могилы, лежавшие в слабо холмистой местности. Осваивая названия новых для них мест, новгородцы по легкости и по своему произношению переиначили биарминовское название.
В колмогорах нашлись отличные места для пашен хорошие луга для нагула скота, доброе сено на зиму! Одинец помнил, как ватажники первый раз спускались к морю, помнил каждое слово Доброги. Явился бы первый старшина и порадовался. Прочно осели новгородцы на новых местах, нашли не только железную руду, но и удобные речные пути, переволоки к Новгороду.
Ниже колмогор Двина течет слабо, а в приливную морскую волну и совсем останавливается. Близится поморянский городок Усть-Двинец. Скоро и дома.
Поморские места богаты зверовыми, пушными и рыбными ловлями. Поморяне подучились выходить в море, бить китов и кашалотов, брать тюленей. А с хлебом на морских берегах дело не пошло. Хлеб и вымокал, и ранние осенние заморозки били на корню зеленые колосья. Не годится для хлеба поморская земля. У колмогорян же и выше, по Двине и по Ваге, земля родила хорошо. Поморяне привыкли выменивать хлеб у верховых – это выгоднее, чем держать свои пашни.
Идет одиннадцатое лето с того времени, когда Доброгина ватага новгородских повольников вышла на Вагу из Черного леса. Железная земля-руда была найдена умельцами на болотах немного выше памятных острожков с пушниной, подаренной ватаге первым старшиной Доброгой.
Эти болота, такие дорогие для осевших по Ваге, Двине и на морском берегу новгородцев, обширны и мелководны. По ним, на кочкарнике и мхах, вперемежку с березняком и осинником, корежится кривой ельник.
Руду копают из-под корней. Она по виду черная с кровяно-красным, будто к жирному лиственному перегною примешалась мука от крепко обоженных и толченых горшечных черепков. Горсть руды тяжела, куда больше тянет, чем такая же горсть речного песка.
Уже восьмое лето расшивы поморянских и других кузнецов приходят на железные болота. Место известное, обжитое.
Стоят избушки, чтобы было где спать в рабочие недели, и берестяные вежи биарминов. Биармины тоже собирают руду. Здесь хранится рудная снасть – широкие, долбленные из комлей ступы, тяжелые песты. Для осушения болот прокопаны канавы.
Все лишнее – листву, щепу, корешки и перегной – выжигают из руды на кострах. Золу тщательно толкут в ступах и веют деревянными лопатами.
В остатке, в крепком черном порошке, скрывается железо. Порошок собирают в лубяные короба и грузят в расшивы.
Этой весной досадливые затяжные дожди мешали поморянам прокаливать и веять руду. Кузнецы сверх обычного задержались на болотах. Ныне семейным домовитым людям хотелось поскорее попасть домой, и они гребли вниз по течению без остановок, без заездов к знакомым и родичам.
Пробежали мимо места, названного Доброгиной заимкой, против которой было выжжено первое памятное поле, огнище, по старому сухостою. Местные жители подплывали к расшивам на лодках побеседовать с поморянами.
При огнище остался починок, а городка, о котором в светлой первой радости владения вольной рекой горячо помечтал Доброга, этого городка не получилось.
Близ мыса, где новгородцы впервые встретились с биарминами и счастливо подружились с отцом жены Сувора Бэвы, у слияния Ваги с Двиной, устроился второй починок, побольше первого.
Вскоре поморянские расшивы прошли мимо третьего памятного места, где повольники сражались и мирились с биарминами.
Здесь, на двинском берегу, отдали души восемь повольников, с которыми уснул и Радок, брат ненаглядной для Одинца Заренки.
Одинец торопил расшивы, ему было тошно, он стосковался вдали от своего двора. Поморянского старшину все почитают, все любят. И на поморье, и на Двине нет у него врагов и недоброжелателей. Ему как будто в жизни удалось все. Однако же он невесел. Почему? Об этом трудно рассказать, он сам об этом не сказал бы.
Как бы человека ни мучила жажда, как бы ни томил голод, – утолил их и забыл. Но чем Одинцу утишить беспокойное чувство сердца? Есть такая пища но не каждому дано к ней прикоснуться.
Расшивы спустились до колмогор – местности, откуда нижнее течение Двины разливалось разделенными островами протоками.
Здесь расположилось самое большое поселение, Колмогорянский пригородок. Новгородцы привыкли звать пригородами или пригородками все свои города, кроме главного, Новгорода. Место это по-биарминовски звалось Калма-ваары – Могилы-бугры, за древние могилы, лежавшие в слабо холмистой местности. Осваивая названия новых для них мест, новгородцы по легкости и по своему произношению переиначили биарминовское название.
В колмогорах нашлись отличные места для пашен хорошие луга для нагула скота, доброе сено на зиму! Одинец помнил, как ватажники первый раз спускались к морю, помнил каждое слово Доброги. Явился бы первый старшина и порадовался. Прочно осели новгородцы на новых местах, нашли не только железную руду, но и удобные речные пути, переволоки к Новгороду.
Ниже колмогор Двина течет слабо, а в приливную морскую волну и совсем останавливается. Близится поморянский городок Усть-Двинец. Скоро и дома.
Поморские места богаты зверовыми, пушными и рыбными ловлями. Поморяне подучились выходить в море, бить китов и кашалотов, брать тюленей. А с хлебом на морских берегах дело не пошло. Хлеб и вымокал, и ранние осенние заморозки били на корню зеленые колосья. Не годится для хлеба поморская земля. У колмогорян же и выше, по Двине и по Ваге, земля родила хорошо. Поморяне привыкли выменивать хлеб у верховых – это выгоднее, чем держать свои пашни.
2
Город Усть-Двинец сидел на месте первого острожка, поставленного при Доброге. Поморяне не построили укрепления, о котором заботился Доброга. Старый ров завалился, а бревна с тына люди понемногу растащили для других дел.
С биарминами дружили и не думали ссориться, а никого другого здесь, на краю света, не было и быть не могло.
Тем, кто знает новгородскую жизнь, просторный и богатый двор поморянского старшины Одинца сильно напомнил бы двор знатного железокузнеца Изяслава. Такого же вида теплые избы и клети, такое же мощение двора и крытый второй двор. Углы строений резаны в новгородский крюк и в прочную кривую лапу.
Дворы Карислава, Сувора, Вечерки, Янши и другие тоже были очень похожи на новгородские. Поморянское строение рубилось из сосны да ели, а новгородское – из дуба. Для взора в этом-то и была, пожалуй, главная разница…
Недаром затейливо пошучивал рыжий Отеня, который поселился на морском берегу вместе со своей женой-биарминкой:
– Видать, не одни птенцы, оперившись и войдя в силу, себе вьют точь-в-точь такие же гнездышки, как те, в которых они разевали желтые клювы и растили на голой коже первый пух.
Но все же в укладе жизни у поморян есть большие отличия от Новгорода. Во дворе Изяслава живут его младшие братья с семьями, женатые сыновья, дочери с мужьями. Немало нанятых подмастерьев и работников, но своих кровных больше.
А у Одинца было бы пусто, не поселись с ним одним родом его бывшие первые подмастерья биармины Онг, Тролл и Болту. Они пообрусели и прижились к главному мастеру.
Из четырех первых биарминов, постигших все тайны новгородского железного умельства, отстал один Расту. Овладев мастерством, он жил со своим родом по морю на закат от Усть-Двинца.
На дворе Одинца нашлось место и для Гинока, одного из первых повольников, который, как Сувор, женился на доброй миловидной биарминке и через жену породнился чуть ли не с четвертью всех биарминов.
Городок Усть-Двинец в первые же три лета разросся дворов на сорок и на том почти остановился. Новгородские выходцы не забыли общего решения поставить один, главный и сильный городок, пригород Новгорода, но не исполнили.
На одиннадцатое лето от прихода новгородцев, по рекам Двине, Ваге, Мезени и по морскому берегу жило до трехсот семей, и поодиночке – заимками и кучками – починками. Раздробленности содействовали богатство охоты в новом краю и, как уже поминалось, безопасность жизни.
И первые пришельцы, былые ватажники, и новые выходцы из Города рассыпались по удобным местам, охотно перемешивая свои дворы с дружескими стойбищами биарминовских родов.
Биармины уже не молятся железу. Водяные люди хорошо пообзавелись топорами, теслами, гарпунами и всей прочей железной снастью и оружием. По примеру новгородцев, биармины научились по-настоящему обрабатывать дерево.
Мало-помалу менялся быт.
На летних оленных пастбищах и на зверовых ловлях биармины по-прежнему довольствовались кожаными и берестяными вежами, на зимовьях же иные уже срубили настоящие дома…
Усть-двинецкие поморяне выбежали к пристани встречать старшину и своих, всем людством дружно выносили короба с рудой и уставляли на телеги.
Вместе со взрослыми поспевали помогать мальчики и девочки. В первой телеге повел лошадь под уздцы Изяславик, сын Сувора и Бэвы. С ним вместе старался другой мальчик, тремя или четырьмя годами поменьше, – Гордик.
Изяславик вел одной рукой лошадь, а другой – Гордика. Мальчики оглядывались назад. Изяславик успел приласкаться к дяде Одинцу, а Гордик побывал у отца на руках.
Мальчата ошиблись, им бы все палить да палить железные печи-домницы. Нет, подождете. Одинец пошел не за телегами, а к своему двору. Гордик вырвался и припустил за отцом. Побежал бы и Изяславик, но нельзя, он не маленький, ему недавно пошло уже одиннадцатое лето. Как бросить лошадь? Дорога, вишь, какая, еще вывернется телега-то. Уж коль взялся за дело так делай, – это сам дядя Одинец говорил.
С биарминами дружили и не думали ссориться, а никого другого здесь, на краю света, не было и быть не могло.
Тем, кто знает новгородскую жизнь, просторный и богатый двор поморянского старшины Одинца сильно напомнил бы двор знатного железокузнеца Изяслава. Такого же вида теплые избы и клети, такое же мощение двора и крытый второй двор. Углы строений резаны в новгородский крюк и в прочную кривую лапу.
Дворы Карислава, Сувора, Вечерки, Янши и другие тоже были очень похожи на новгородские. Поморянское строение рубилось из сосны да ели, а новгородское – из дуба. Для взора в этом-то и была, пожалуй, главная разница…
Недаром затейливо пошучивал рыжий Отеня, который поселился на морском берегу вместе со своей женой-биарминкой:
– Видать, не одни птенцы, оперившись и войдя в силу, себе вьют точь-в-точь такие же гнездышки, как те, в которых они разевали желтые клювы и растили на голой коже первый пух.
Но все же в укладе жизни у поморян есть большие отличия от Новгорода. Во дворе Изяслава живут его младшие братья с семьями, женатые сыновья, дочери с мужьями. Немало нанятых подмастерьев и работников, но своих кровных больше.
А у Одинца было бы пусто, не поселись с ним одним родом его бывшие первые подмастерья биармины Онг, Тролл и Болту. Они пообрусели и прижились к главному мастеру.
Из четырех первых биарминов, постигших все тайны новгородского железного умельства, отстал один Расту. Овладев мастерством, он жил со своим родом по морю на закат от Усть-Двинца.
На дворе Одинца нашлось место и для Гинока, одного из первых повольников, который, как Сувор, женился на доброй миловидной биарминке и через жену породнился чуть ли не с четвертью всех биарминов.
Городок Усть-Двинец в первые же три лета разросся дворов на сорок и на том почти остановился. Новгородские выходцы не забыли общего решения поставить один, главный и сильный городок, пригород Новгорода, но не исполнили.
На одиннадцатое лето от прихода новгородцев, по рекам Двине, Ваге, Мезени и по морскому берегу жило до трехсот семей, и поодиночке – заимками и кучками – починками. Раздробленности содействовали богатство охоты в новом краю и, как уже поминалось, безопасность жизни.
И первые пришельцы, былые ватажники, и новые выходцы из Города рассыпались по удобным местам, охотно перемешивая свои дворы с дружескими стойбищами биарминовских родов.
Биармины уже не молятся железу. Водяные люди хорошо пообзавелись топорами, теслами, гарпунами и всей прочей железной снастью и оружием. По примеру новгородцев, биармины научились по-настоящему обрабатывать дерево.
Мало-помалу менялся быт.
На летних оленных пастбищах и на зверовых ловлях биармины по-прежнему довольствовались кожаными и берестяными вежами, на зимовьях же иные уже срубили настоящие дома…
Усть-двинецкие поморяне выбежали к пристани встречать старшину и своих, всем людством дружно выносили короба с рудой и уставляли на телеги.
Вместе со взрослыми поспевали помогать мальчики и девочки. В первой телеге повел лошадь под уздцы Изяславик, сын Сувора и Бэвы. С ним вместе старался другой мальчик, тремя или четырьмя годами поменьше, – Гордик.
Изяславик вел одной рукой лошадь, а другой – Гордика. Мальчики оглядывались назад. Изяславик успел приласкаться к дяде Одинцу, а Гордик побывал у отца на руках.
Мальчата ошиблись, им бы все палить да палить железные печи-домницы. Нет, подождете. Одинец пошел не за телегами, а к своему двору. Гордик вырвался и припустил за отцом. Побежал бы и Изяславик, но нельзя, он не маленький, ему недавно пошло уже одиннадцатое лето. Как бросить лошадь? Дорога, вишь, какая, еще вывернется телега-то. Уж коль взялся за дело так делай, – это сам дядя Одинец говорил.
3
Одинцов двор богат, но что хозяину в богатстве! Он не искал богатства, не гнался, оно само пришло.
Двор поморянского старшины был бы пуст без поселившихся по-братски биарминов и Гинока. И совсем не быть бы своему двору, не выполни Одинец сокровенную от других волю покойного побратима Доброги.
Тому минуло семь лет, как Одинец ходил за переволоки в Новгород и отдал старшинам виру, что на нем тяготела за убийство нурманнского гостя Гольдульфа. Одинец ступал чужаком по мощеным улицам и площадям города и недолго загостился у тестя Изяслава. Его тянуло поскорее вернуться домой, к двинским и морским берегам. И Заренка не просила мужа подольше погостить у кровных.
Отрезанный ломоть не пристает к караваю, у родительского очага быстро холодеет место, оставленное девушкой. Самой же ей любо быть хозяйкой и править своим домом. Заренка держала свой дом властной рукой, жена Гинока и другие биарминки ей ни в чем не перечили, жизнь шла без свар и помехи твердым русским порядком и уставом.
Заренка встретила мужа по обычаю низким поклоном, сняла с хозяина кафтан. Одинец знал, что хозяйка озаботилась и баню затопить, как только услышала о возвращении. Из печи торопились горшки, из погребов будто сами бежали моченые и соленые прикуски. Наполнялись ковши.
Все усть-двинецкие прибежали почествовать счастливое прибытие своего старшины. Радостно сиял Ивор, Иворушка, приемный сын Одинца, дитя, рожденное Заренкой от крови Доброги. Все верили, что в теле Ивора, пришедшего в мир после смерти отца, жила смелая душа первого ватажного старосты. Но для Одинца он был не пасынком, а сыном.
Кого еще нужно Одинцу, что нужно! Взгляни на него – радостен хозяин, радостен муж и отец. Но чем ему насытить сердце, если оно хочет самого простого, доступного в жизни для всех, а для него одного невозможного, об этом он знает один. Принимая из рук Заренки ковш, Одинец встал, по русскому обряду поцеловал жену-хозяйку в губы и до дна осушил первую чашу.
Двор поморянского старшины был бы пуст без поселившихся по-братски биарминов и Гинока. И совсем не быть бы своему двору, не выполни Одинец сокровенную от других волю покойного побратима Доброги.
Тому минуло семь лет, как Одинец ходил за переволоки в Новгород и отдал старшинам виру, что на нем тяготела за убийство нурманнского гостя Гольдульфа. Одинец ступал чужаком по мощеным улицам и площадям города и недолго загостился у тестя Изяслава. Его тянуло поскорее вернуться домой, к двинским и морским берегам. И Заренка не просила мужа подольше погостить у кровных.
Отрезанный ломоть не пристает к караваю, у родительского очага быстро холодеет место, оставленное девушкой. Самой же ей любо быть хозяйкой и править своим домом. Заренка держала свой дом властной рукой, жена Гинока и другие биарминки ей ни в чем не перечили, жизнь шла без свар и помехи твердым русским порядком и уставом.
Заренка встретила мужа по обычаю низким поклоном, сняла с хозяина кафтан. Одинец знал, что хозяйка озаботилась и баню затопить, как только услышала о возвращении. Из печи торопились горшки, из погребов будто сами бежали моченые и соленые прикуски. Наполнялись ковши.
Все усть-двинецкие прибежали почествовать счастливое прибытие своего старшины. Радостно сиял Ивор, Иворушка, приемный сын Одинца, дитя, рожденное Заренкой от крови Доброги. Все верили, что в теле Ивора, пришедшего в мир после смерти отца, жила смелая душа первого ватажного старосты. Но для Одинца он был не пасынком, а сыном.
Кого еще нужно Одинцу, что нужно! Взгляни на него – радостен хозяин, радостен муж и отец. Но чем ему насытить сердце, если оно хочет самого простого, доступного в жизни для всех, а для него одного невозможного, об этом он знает один. Принимая из рук Заренки ковш, Одинец встал, по русскому обряду поцеловал жену-хозяйку в губы и до дна осушил первую чашу.
Глава вторая
1
Чтобы уберечься от пожаров, и в Новгороде и во всех поселениях места для варки железа всегда отводились подальше от строений. Усть-двинецкие поморяне держали свои домницы выше городка, вблизи речного протока.
Старинную русскую печь для выплавления – варки – железа из руды называли домницей, а почему – кто знает.
Работа мехами звалась дманием. Отсюда пошло слово надменный, надутый, в применении к человеку. Оно, как и ошеломленный, то есть оглушенный ударом по шелому, по шлему, осталось до нашего времени в русском языке.
Быть может, первоначально плавильные печи звались дманицами, каковая кличка превратилась в легче произносимое, более звучное слово домница, домна. Говорят, что к железоплавильной печи пристало примененное в шутку женское имя Домна.
Это неверно. На Руси греческое имя Домна появилось с распространением восточноправославного христианского вероисповедания, а плавить руду в домницах славянские и иные племена на Руси умели за многие века до появления на их землях первого греческого монаха.
Усть-двинецкие печи-домницы были сложены из диких колотых камней на растворе песка с глиной. Снизу внутрь печей для воздуха, гонимого мехами, были проведены тонкие трубки из обожженной глины. Каждая домница была высотой по шею человеку, а толщиной в три обхвата.
Домницу обряжали чистым и крупным березовым углем, отсеянным от пыли и мелочи, и железной рудой, смешанной с крупным речным песком и печной золой, мытой в воде. На печной под уже был заложен зажженный древесный трут для запала угля. Домницу грузили в четыре ковша раз за разом – как бы не задохнулся трут!
После наполнения домницы одни работники начинали тут же работать мехами – дмать домницу, – а другие закладывали горло каменным сводом с дырой – продухом.
Палить домницы, варить железо было таким же великим умельством, тонким мастерством, как калить кованое изделие. Вначале следует сильно поработать мехами, чтобы разжечь угли. Но если продолжать быстро «гнать домницу», можно погубить все дело. Скородельное железо получается каменно-жестким и колким; оно, сколько его ни разогревай в горне, крошится под молотом. За негодность такое железо звали свиным. Его куски годились лишь для навески к сетям вместо каменных или глиняных грузил.
Никак нельзя и медленно, слишком осторожно вести домницу. При слабой работе мехами, «малом дмании», железо совсем не вываривалось из руды. Оно срасталось в орехи и рассыпалось бурой тяжелой окалиной – опять пропали труды!
Плохой, небрежный мастер мог губить плавку за плавкой. Потому-то настоящие мастера всегда окружались почетом: не счастьем, не удачей, как в иных делах, – успех в плавильном деле достигался сознательным умельством и в своей трудности считался доступным не каждому, но лишь особо способному человеку.
Пока домница не доведена до конца, от нее нельзя ни отойти, ни прекратить работу мехов – дмание.
В домницу не заглянешь, не пощупаешь железо. О творящейся тайне выделения из руды драгоценного металла, без которого в жизни не ступишь шага, мастер соображал по времени, по горячему тяжелому духу из продуха в своде и, главное, по своему умельству.
В полдень Заренка пришла кормить работников. Детишки, материны помощники, притащили горшки с горячим варевом, миски, ложки. Ивор в холстинном мешке принес каравай хлебушка.
Близ домниц была построена работницкая изба с очагом, чтобы мастерам было где отдохнуть и согреться в сырые холодные дни. В избе – большой тесовый стол и лавки.
Человеку пища дается с трудом, и, как считали новгородцы, непристойно принимать пищу кое-как, без порядка-обряда.
Сидя за выскобленным ножом и добела отмытым дресвой столом, работники ели чинно и строго. Они бережно держали ломти хлеба, чтобы ни крошки не сронить на землю, осторожно макали в солонку – не рассыпать бы соль.
Из всего, что берут люди от Матери Земли, самое честное и самое дорогое – хлеб. Он дорог не ценой: где запахло хлебным духом, там дом, там родной очаг. Ни о чем так не мечтает забредший в Черный лес охотник, как о хлебе. По русскому обычаю, гостю в почет подносят не золото, не самоцветные камни, не серебро и пушные меха, а хлеб. С хлебом подносят соль, потому что она от Солнышка. Хлеб и соль – человеческий труд, согретый и порожденный добрым Солнцем-богом.
Старинную русскую печь для выплавления – варки – железа из руды называли домницей, а почему – кто знает.
Работа мехами звалась дманием. Отсюда пошло слово надменный, надутый, в применении к человеку. Оно, как и ошеломленный, то есть оглушенный ударом по шелому, по шлему, осталось до нашего времени в русском языке.
Быть может, первоначально плавильные печи звались дманицами, каковая кличка превратилась в легче произносимое, более звучное слово домница, домна. Говорят, что к железоплавильной печи пристало примененное в шутку женское имя Домна.
Это неверно. На Руси греческое имя Домна появилось с распространением восточноправославного христианского вероисповедания, а плавить руду в домницах славянские и иные племена на Руси умели за многие века до появления на их землях первого греческого монаха.
Усть-двинецкие печи-домницы были сложены из диких колотых камней на растворе песка с глиной. Снизу внутрь печей для воздуха, гонимого мехами, были проведены тонкие трубки из обожженной глины. Каждая домница была высотой по шею человеку, а толщиной в три обхвата.
Домницу обряжали чистым и крупным березовым углем, отсеянным от пыли и мелочи, и железной рудой, смешанной с крупным речным песком и печной золой, мытой в воде. На печной под уже был заложен зажженный древесный трут для запала угля. Домницу грузили в четыре ковша раз за разом – как бы не задохнулся трут!
После наполнения домницы одни работники начинали тут же работать мехами – дмать домницу, – а другие закладывали горло каменным сводом с дырой – продухом.
Палить домницы, варить железо было таким же великим умельством, тонким мастерством, как калить кованое изделие. Вначале следует сильно поработать мехами, чтобы разжечь угли. Но если продолжать быстро «гнать домницу», можно погубить все дело. Скородельное железо получается каменно-жестким и колким; оно, сколько его ни разогревай в горне, крошится под молотом. За негодность такое железо звали свиным. Его куски годились лишь для навески к сетям вместо каменных или глиняных грузил.
Никак нельзя и медленно, слишком осторожно вести домницу. При слабой работе мехами, «малом дмании», железо совсем не вываривалось из руды. Оно срасталось в орехи и рассыпалось бурой тяжелой окалиной – опять пропали труды!
Плохой, небрежный мастер мог губить плавку за плавкой. Потому-то настоящие мастера всегда окружались почетом: не счастьем, не удачей, как в иных делах, – успех в плавильном деле достигался сознательным умельством и в своей трудности считался доступным не каждому, но лишь особо способному человеку.
Пока домница не доведена до конца, от нее нельзя ни отойти, ни прекратить работу мехов – дмание.
В домницу не заглянешь, не пощупаешь железо. О творящейся тайне выделения из руды драгоценного металла, без которого в жизни не ступишь шага, мастер соображал по времени, по горячему тяжелому духу из продуха в своде и, главное, по своему умельству.
В полдень Заренка пришла кормить работников. Детишки, материны помощники, притащили горшки с горячим варевом, миски, ложки. Ивор в холстинном мешке принес каравай хлебушка.
Близ домниц была построена работницкая изба с очагом, чтобы мастерам было где отдохнуть и согреться в сырые холодные дни. В избе – большой тесовый стол и лавки.
Человеку пища дается с трудом, и, как считали новгородцы, непристойно принимать пищу кое-как, без порядка-обряда.
Сидя за выскобленным ножом и добела отмытым дресвой столом, работники ели чинно и строго. Они бережно держали ломти хлеба, чтобы ни крошки не сронить на землю, осторожно макали в солонку – не рассыпать бы соль.
Из всего, что берут люди от Матери Земли, самое честное и самое дорогое – хлеб. Он дорог не ценой: где запахло хлебным духом, там дом, там родной очаг. Ни о чем так не мечтает забредший в Черный лес охотник, как о хлебе. По русскому обычаю, гостю в почет подносят не золото, не самоцветные камни, не серебро и пушные меха, а хлеб. С хлебом подносят соль, потому что она от Солнышка. Хлеб и соль – человеческий труд, согретый и порожденный добрым Солнцем-богом.
2
Первая смена кончила трапезовать, хозяйка кликнула другую.
Ивор попросился:
– Отче? Позволь и мне подмать!
Вместе с Ивором за мехи взялся Изяславик; мальчата-ровесники старались изо всех сил. И Гордик хватался помогать. Малый совсем, тем двум по одиннадцатому лету пошло, а ему едва седьмое. Одинец взял сынка на руки:
– Погоди-ка малость, подрасти прежде.
Мехи сипят и сопят, прогоняют воздух через трубки-сопла, вмазанные снизу в домницу. Паренькам мешают длинные волосы, падают на лица, лезут в глаза. Малые встряхивают головами, но не выпускают рукояток, боятся, вдруг им скажут: «Будет вам, отходите».
Заренка, глядя на ребят, встала на пороге работницкой избы. Лицо у жены поморянского старшины спокойное, взгляд прямой, строгий. Всегда такой, всегда, всегда… Одинец не знает другого взгляда.
Гордик завозился на отцовских руках, мальчику уже надоело, просится к матери. Одинец пустил малого. Гордик любит мать, и Заренка любит Одинцова сына никто другого не скажет, нет…
Старший мастер ощупал свод домницы и, узнавая, что делается внутри, на себя отмахнул дух. За ним проверили домницу Тролл и Онг. Свод пылкий, пылкость жаркая, тонкая, знойная, но не жжет. Дух чистый, острый, сухой. Над продухом воздух дрожит.
– Теперь бросай дмать, – распорядился Онг.
– Я не утомился, отче, – возразил Ивор, глядя на Одинца.
– Да уж домница-то поспела, Иворушка. Дошло железо. Докончили.
Мальчонок знает, что Одинец ему не кровный отец. Ивор любит слушать рассказы былых ватажников о Доброге, славном вожаке повольников, кому были наперед ведомы все пути-дороженьки и чье сердце было, как море широкое. А Одинца без принуждения зовет отцом и на любовь отчима отвечает искренней сыновней любовью.
Гордик больше тянется к матери. Иворушка же к Заренке холоднее, ему бы все быть неотступно при отчиме. Зоркие соседи-поморяне тому не дивятся: ведь в малом живет душа Одинцова побратима Доброги.
Внизу домницы был вмазан большой камень. Спекшуюся в пазах глину с песком отбили ломиками и вывалили заслонный камень. Внутри черно пышет ярым жаром, тонким облачком вылетела белая зола.
Гинок запустил в пасть длинные, двухаршинные клещи. Руки мастера защищены кожаными рукавицами, лицо отворачивает. Горячо, горячо… То-то у кузнецов бороды покороче, чем у других людей. Как ни берегись, волосы курчавеют и трещат.
Гинок выдернул железную крицу – черный ноздреватый камень величиной с детскую голову. Перехватил клещи, крякнул и выставил крицу на наковальню, на валун дикого камня. Тут же в два тяжелых молота Тролл и Онг принялись охаживать горячее сырое железо. Ухают мастера и подлетают за молотами на раскоряченных здоровенных ногах, как в буйной пляске. Глаза горят, целя без ошибки, бороды вздыбились, а молоты – как богатырские кулаки.
Эх, и любо же весело смотреть на кузнецов, когда они спешат, пока крица горяча, осадить и уплотнить дорогое железо быстрой и могучей ковкой!
По правилу каждую крицу оковывают в шар и разрубают зубилом, чтобы проверить доброту железа.
Тем временем подмастерья торопятся осмотреть каменную кладку стен домницы, продуть и прочистить железными прутами сопла и вновь заправить печь.
Беспрестанной работой, от восхода и до восхода, с домницы берут две крицы.
Из крицы, если ковать, например, одни топоры, их выходит четыре-пять.
В зимние стужи работа на домницах не только чрезмерно тяжела, но и само железо часто не доваривается, а иной раз выходит свиным. Поэтому мастера каждое лето стараются наготовить побольше сырых криц и, пользуясь светлыми ночами, гонят домницы, не давая им отдыха. Зимами же переделывают железо в изделия.
Кажется, можно было бы наготовить железа и отдохнуть. Нет, из лета в лето все больше требуется железных изделий, не напасешься. Как видно, думал Одинец, не ему одному с другими мастерами, но и детям и внукам-правнукам хватит железной работы на веки веков.
Ивор попросился:
– Отче? Позволь и мне подмать!
Вместе с Ивором за мехи взялся Изяславик; мальчата-ровесники старались изо всех сил. И Гордик хватался помогать. Малый совсем, тем двум по одиннадцатому лету пошло, а ему едва седьмое. Одинец взял сынка на руки:
– Погоди-ка малость, подрасти прежде.
Мехи сипят и сопят, прогоняют воздух через трубки-сопла, вмазанные снизу в домницу. Паренькам мешают длинные волосы, падают на лица, лезут в глаза. Малые встряхивают головами, но не выпускают рукояток, боятся, вдруг им скажут: «Будет вам, отходите».
Заренка, глядя на ребят, встала на пороге работницкой избы. Лицо у жены поморянского старшины спокойное, взгляд прямой, строгий. Всегда такой, всегда, всегда… Одинец не знает другого взгляда.
Гордик завозился на отцовских руках, мальчику уже надоело, просится к матери. Одинец пустил малого. Гордик любит мать, и Заренка любит Одинцова сына никто другого не скажет, нет…
Старший мастер ощупал свод домницы и, узнавая, что делается внутри, на себя отмахнул дух. За ним проверили домницу Тролл и Онг. Свод пылкий, пылкость жаркая, тонкая, знойная, но не жжет. Дух чистый, острый, сухой. Над продухом воздух дрожит.
– Теперь бросай дмать, – распорядился Онг.
– Я не утомился, отче, – возразил Ивор, глядя на Одинца.
– Да уж домница-то поспела, Иворушка. Дошло железо. Докончили.
Мальчонок знает, что Одинец ему не кровный отец. Ивор любит слушать рассказы былых ватажников о Доброге, славном вожаке повольников, кому были наперед ведомы все пути-дороженьки и чье сердце было, как море широкое. А Одинца без принуждения зовет отцом и на любовь отчима отвечает искренней сыновней любовью.
Гордик больше тянется к матери. Иворушка же к Заренке холоднее, ему бы все быть неотступно при отчиме. Зоркие соседи-поморяне тому не дивятся: ведь в малом живет душа Одинцова побратима Доброги.
Внизу домницы был вмазан большой камень. Спекшуюся в пазах глину с песком отбили ломиками и вывалили заслонный камень. Внутри черно пышет ярым жаром, тонким облачком вылетела белая зола.
Гинок запустил в пасть длинные, двухаршинные клещи. Руки мастера защищены кожаными рукавицами, лицо отворачивает. Горячо, горячо… То-то у кузнецов бороды покороче, чем у других людей. Как ни берегись, волосы курчавеют и трещат.
Гинок выдернул железную крицу – черный ноздреватый камень величиной с детскую голову. Перехватил клещи, крякнул и выставил крицу на наковальню, на валун дикого камня. Тут же в два тяжелых молота Тролл и Онг принялись охаживать горячее сырое железо. Ухают мастера и подлетают за молотами на раскоряченных здоровенных ногах, как в буйной пляске. Глаза горят, целя без ошибки, бороды вздыбились, а молоты – как богатырские кулаки.
Эх, и любо же весело смотреть на кузнецов, когда они спешат, пока крица горяча, осадить и уплотнить дорогое железо быстрой и могучей ковкой!
По правилу каждую крицу оковывают в шар и разрубают зубилом, чтобы проверить доброту железа.
Тем временем подмастерья торопятся осмотреть каменную кладку стен домницы, продуть и прочистить железными прутами сопла и вновь заправить печь.
Беспрестанной работой, от восхода и до восхода, с домницы берут две крицы.
Из крицы, если ковать, например, одни топоры, их выходит четыре-пять.
В зимние стужи работа на домницах не только чрезмерно тяжела, но и само железо часто не доваривается, а иной раз выходит свиным. Поэтому мастера каждое лето стараются наготовить побольше сырых криц и, пользуясь светлыми ночами, гонят домницы, не давая им отдыха. Зимами же переделывают железо в изделия.
Кажется, можно было бы наготовить железа и отдохнуть. Нет, из лета в лето все больше требуется железных изделий, не напасешься. Как видно, думал Одинец, не ему одному с другими мастерами, но и детям и внукам-правнукам хватит железной работы на веки веков.
3
Едва мастера разрубили крицу, как заслышался необычайный шум голосов. К домницам от Усть-Двинска пришли свои поморяне и притащили двух незнакомых молодых биарминов, которые едва держались на ногах.
– Старшина, старшина где?!
– Здесь старшина. За каким делом прибежали?
Биармин, который был пободрее, объяснил, что их обоих прислал к Одинцу-старшине его друг кузнец Расту. Послал сказать поморскому старшине весть – на море ходят невиданные лодьи. Расту велел с этой вестью бежать морем к Одинцу и нигде совсем не отдыхать. И они оба гребли два восхода солнца, сильно гребли. Потому что никто не видывал таких лодей, самые старые старики-родовичи не слыхали. Таких лодей не бывало.
– А какие же те лодьи?
И хочет объяснить гонец, и нет у него нужных слов для рассказа о невиданной ранее вещи. Он старался, досадовал на свое неумение, злился на Одинца, на поморян, что его не понимали. Биармин стучал по голове кулаком, но слова не шли.
– Старшина, старшина где?!
– Здесь старшина. За каким делом прибежали?
Биармин, который был пободрее, объяснил, что их обоих прислал к Одинцу-старшине его друг кузнец Расту. Послал сказать поморскому старшине весть – на море ходят невиданные лодьи. Расту велел с этой вестью бежать морем к Одинцу и нигде совсем не отдыхать. И они оба гребли два восхода солнца, сильно гребли. Потому что никто не видывал таких лодей, самые старые старики-родовичи не слыхали. Таких лодей не бывало.
– А какие же те лодьи?
И хочет объяснить гонец, и нет у него нужных слов для рассказа о невиданной ранее вещи. Он старался, досадовал на свое неумение, злился на Одинца, на поморян, что его не понимали. Биармин стучал по голове кулаком, но слова не шли.
