Страница:
— Мы вас тоже приглашаем осмотреть наше купе. — Инга незаметно толкнула меня локтем. — Да, отец?
— Ну разумеется… Вот только как бы нам не увезти фрау Маргарет прямиком в ФРГ.
И словно в подтверждение высказанного мною опасения, прозвучал свисток. Экспресс медленно, как бы нехотя, отшвартовался от перрона.
Мы прощались уже на ходу.
Захлопнулись створки пневматических дверей. Инга побежала в купе и долго махала в окно. Потом повернулась ко мне.
— Какие прекрасные люди! — Она подозрительно закашлялась, словно у нее запершило в горле. — Прямо не хочется расставаться!
Ого! А ведь Инга никогда не страдала избытком чувствительности.
— Мог бы быть полюбезнее с ними, отец, — упрекнула она. — Ты прямо одеревенел на прощанье.
Я промолчал.
— Что с тобой?
— Абсолютно ничего, дочка. — Не хватало еще посвящать ее в свои заботы! — Просто мысленно я уже в Инсбруке. Как там нас встретят, где поместят?
— С чего вдруг тебя это забеспокоило?
Она осуждающе хмыкнула и отвернулась.
Нет, мои мысли были не в Инсбруке — гораздо ближе. Я думал о предстоящих двух часах, в течение которых наш экспресс должен проходить по территории ФРГ.
Я не знал еще, с чем встречусь и что буду делать.
Но я твердо знал, чего не следует делать: ни в коем случае нельзя покидать вагона!..
Переезд из Австрии в ФРГ произошел незаметно. То ли я, погруженный в думы, проморгал границу, то ли она здесь не была четко обозначена. Во всяком случае, я не заметил ни проволочных рядов, ни шлагбаумов, ни каких-либо других пограничных сооружений.
Горы незаметно отступили в сторону. За окном потянулись сытые, ухоженные поля. Не пестрые заплатки, характерные для мелких крестьянских хозяйств. Пшеница так пшеница, кукуруза так кукуруза — целый неохватный массив.
Здесь, в Баварии, вблизи Мюнхена, землей владели либо гроссбауэры — по-нашему, кулаки, — либо поставленные на промышленную, основу большие сельскохозяйственные фирмы.
Странное дело: экспресс наш шел быстро, а время словно остановилось. Я то и дело посматривал на часы. Стрелки двигались еле-еле. Даже юркая секундная и та, казалось, потеряла свою завидную бойкость.
Приближались строения. Колеса вагона, зажатые между тормозными колодками, недовольно загудели.
При подъезде к станции неожиданно заговорил деревянный, без всяких интонаций голос поездного радио:
— Сходить на территории Федеративной Республики разрешается лицам, имеющим ее гражданство или соответствующие визы в проездных документах… Повторяю: сходить на территории Федеративной Республики…
Станция маленькая, стояли мы здесь всего две-три минуты. Никто сходить не стал. Вдоль вагонов по перрону, обмахиваясь сложенной газетой, степенно прошагал западногерманский полицейский.
И опять весело застучали освобожденные от тормозов колеса. Опять сытая пшеница сменяла кукурузу, кукуруза пшеницу. На крохотных полустанках все ухожено, все прибрано, никакое отклонение от строгого геометрического порядка нигде не колет глаз.
Следующая остановка — последняя на территории Западной Германии. Судя по расписанию, вывешенному в коридоре, экспресс стоит здесь десять минут.
Серое здание вокзала, увитое плющом, медленно подплыло, остановилось прямо против нашего окна. Перрон был огорожен изящной, тонко плетенной проволочной сеткой с несколькими проходами; вероятно, для того, чтобы легче направлять в нужном направлении потоки пассажиров.
Здесь было полюднее: железнодорожники, группы молодых людей с рюкзаками и зачехленными гитарами, несколько крестьянок в национальных костюмах с плетеными корзинами. Из соседнего вагона, придерживаясь за поручень, осторожно спускался, ощупывая предварительно ногой каждую ступеньку, какой-то чистенький беленький старичок в коротких штанишках на помочах. Его встречали с цветами.
Мирная картина! Ни одного полицейского, даже ни одного таможенника!
Но что-то мешало мне воспринимать вокзальную идиллию за окном, что-то настораживало, зажигало огонек тревоги. Я хмурил лоб, пытаясь понять, напряженно вглядывался сквозь стекло.
Не чудится ли мне? Вот есть, есть какая-то нарочитая заданность в расстановке людей на перроне!
Нет, не всех. Паренек, который, дурачась, растянулся на расставленных в один ряд рюкзаках, — это естественно! Смеющиеся крестьянки перебрасываются шутками с кем-то, стоящим на тамбурной площадке и невидимым мне отсюда, из купе, — тоже в порядке вещей…
А вот этот рослый мужчина в охотничьей шляпе с пером? Почему он так ни разу и не повернулся лицом к поезду? Стоит спиной и глазеет в сторону вокзала. Что он там увидел? Что там могло его заинтересовать? Высокие узкие окна? Голуби на краю крыши?
Или те двое, в проходе, Пат и Паташонок: один — маленький, крепко сбитый, кривоногий, другой — длинный, тощий, с пышными усами. До чего ж они увлечены разговором! Ни разу за все время ни один из них не посмотрел в сторону поезда. А ведь все-таки экспресс. Что за народ едет? Разве не интересно?
Ну хотя бы раз посмотрели. Один-единственный раз!
Нет, говорят, говорят, не меняя позы, профилем к вагонам, словно спешат наговориться на всю жизнь.
Или до отхода экспресса?..
Что-то было в этом очень похожее на массовки в плохих провинциальных театрах, когда режиссер, организовывая толпу на сцене, распределяет статистов: одному стоять у самой рампы и смотреть вверх на воображаемую луну, другому прислониться к колонне, третьему, стоя спиной к зрительному залу, с интересом изучать рекламную афишу на бутафорской тумбе… Пока следишь за главными действующими лицами, все это не слишком заметно. Но стоит немного отвлечься, как искусственность созданной на сцене ситуации начинает тотчас же сама лезть в глаза.
Прошло уже и положенных десять минут остановки, и еще пять сверх этого, а экспресс все стоял и стоял. Людей на перроне стало больше: пассажиры повыходили из вагонов и толпились возле дверей.
А статисты все играли свои маленькие роли. Интересно, кто же режиссер? И здесь ли он?
Инга, которая до сих пор тоже смотрела в окно, вдруг поднялась со своего места.
— Куда? — Я старался говорить по возможности спокойно.
— Пойду потопчу своими изящными туфельками вековечную германскую землю.
— Не надо.
— Почему?
— Ты же слышала, что объявляли по радио.
— Объявляли на той станции, а не на этой.
— Все равно. Здесь тоже ФРГ.
— Да ты посмотри в окно! Весь личный состав нашего поезда прохлаждается на перроне.
— Пусть. А ты не ходи.
— Ну и ну! — Инга осуждающе покачала головой. — Не отец, а тиран и деспот!..
Она двинулась к выходу. Я опередил ее, захлопнул стеклянную дверь.
— Пусти!
— Нет, дочка. Нельзя.
— Но мне жарко, понятно? Нечем дышать.
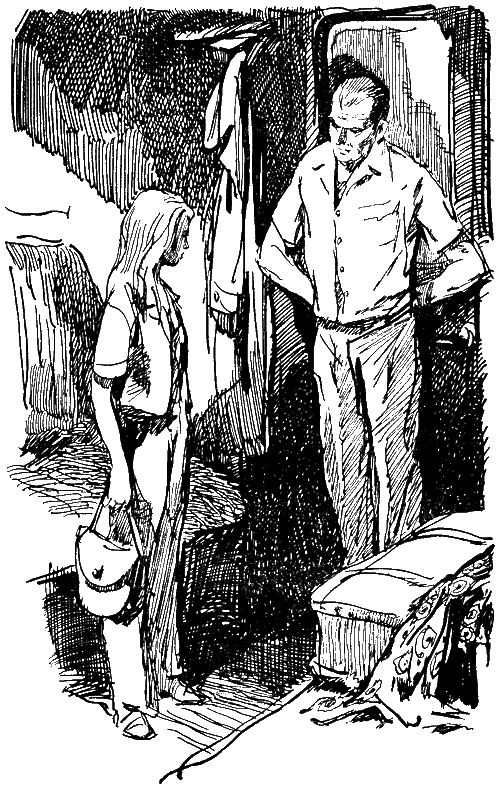 — Потерпи. Это не смертельно.
— Потерпи. Это не смертельно.
В вагоне работал кондиционер, воздух был свежим и чистым.
— Я перестаю тебя понимать, отец! — Инга начинала злиться всерьез. — Ни с того ни с сего ты вдруг прибегаешь к настоящему акту насилия. Не хочешь — сиди тут, я тебя не тащу за собой. Но почему ты не даешь мне поступать так, как я считаю нужным? Ведь мне не три и даже не восемнадцать?
Вопрос вполне уместный и поставлен разумно. К сожалению, я не имел возможности так же разумно ответить на него.
— Потому что нельзя. Запрещено правилами. И нечего их нарушать.
— Это не объяснение. Твои правила — чистейшая формальность. Видишь — проволока? Вот за нее выходить действительно запрещено. Туда я и не пойду. Пусти!
Она сделала попытку оттолкнуть меня.
— Инга, перестань! — Не без усилия я снял ее руку с дверной рукоятки.
— Ах так!
Она кинулась на мягкое сиденье, порылась в своей сумочке. Вытащила пачку сигарет и, нервно чиркнув спичкой, закурила.
Закурила впервые у меня на глазах. Да и вообще курила ли она раньше? Потому что после первой же затяжки поперхнулась дымом и сильно закашлялась.
Я отнял у нее пачку с сигаретами, спички.
— Наш вагон для некурящих. Видишь, перечеркнутая крест-накрест сигарета?
— Отдай! Слышишь, отдай!
— Потом.
— Может, ты еще ударишь меня? Как тогда?
Был в моей отцовской биографии такой прискорбный момент.
Шестилетняя Инга впервые в жизни самостоятельно отправилась за покупкой в гастрономический магазин — он помещался рядом, в соседнем доме. Я вручил ей стеклянную банку под сметану, сетку, деньги. Улыбающаяся, румяная, счастливая, она отправилась через двор, помахав мне рукой, — я наблюдал за ней в окно.
Проходит полчаса, час — Инги нет. Я начинаю беспокоиться, но доказываю себе, что ничего особенного, что время дня сейчас такое, что стоит очередь. Еще через полчаса нервы мои сдают, я отправляюсь в магазин.
В молочном отделе пусто, Инги нигде нет. Ищу ее по всему магазину, по двору, забегаю к подружкам.
Нет!
Может быть, вернулась домой, пока я искал?
Кидаюсь в свой подъезд, взлетаю на одном дыхании на третий этаж.
Нет!
Еще через час мое волнение приближается уже к десяти баллам. Ребенок исчез! Какие тут еще раздумья! Нужно немедленно бежать в милицию!
И во дворе натыкаюсь на Ингу — такую же счастливую, румяную, улыбающуюся. Та же сетка, те же деньги, та же пустая банка под сметану.
«Уф! Все магазины вокруг обегала. Нигде сметаны нет. Говорят, будет только к вечеру».
Вот тогда это и случилось…
А экспресс все еще стоит. И статисты, бедные, совсем изныли под тяжестью своих затянувшихся ролей.
Наконец прозвучало:
— Внимание! Экспресс «Моцарт» отправляется…
Пассажиры, которые успели разбрестись по всему перрону, бросились к вагонам, а я к окну. И когда поезд тронулся, я был наконец вознагражден: трое статистов, как по команде, повернулись и уставились нам вслед.
И все-таки режиссера я так и не увидел. Режиссеры, как правило, на сцену не выходят. Разве что только на премьере после занавеса, на поклон.
А может быть, этот режиссер был очень-очень далеко отсюда?..
Инга объявила мне полный бойкот.
— Инга… Послушай, дочка…
Ни слова в ответ. Ни даже движения, которое показало бы, что мои слова услышаны.
Но мне нужно было поговорить с ней. Если и сказать, хотя бы немного, лишь самое главное, то только сейчас, в поезде, под стук колес, когда шансов быть подслушанным неизмеримо меньше, чем в гостинице или на городских улицах.
Хотя полностью подслушивание не исключено и здесь. Купе слева пустует, там никого — я уже проверял. А вот справа едет молодая пара с трехлетним ангелочком с розовым бантом на белокурой головке. Правда, сели они еще до Зальцбурга. Но кто знает?..
Сейчас они прогуливали своего ангелочка по коридору. Мама с одного конца, папа с другого, и дочка с довольным визгом носится взад и вперед.
— Инга, у меня есть основания полагать, что на станции была расставлена ловушка.
В глазах еще ледяное презрение. Но, сдается мне, я уловил едва заметный огонек интереса.
— Ситуация может повториться, и я хочу, чтобы между нами на этот случай была полная ясность.
Ага! Огонек разгорается, лед начинает таять.
— Что за бред!
Все! Статуя заговорила. Это самое главное. Что она произносит, не имеет ни малейшего значения.
— От тебя требуются две вещи. Чтобы ты не реагировала на мои некоторые, как тебе покажется, странности. И чтобы, на всякий случай, держала в тайне, что знаешь латышский.
— А это еще почему?
— Не догадываешься?
— Слушай, отец, а не кажется ли тебе, что…
Я не дал ей договорить:
— Нет, не кажется. А если кажется, то тем лучше… Прошу тебя, Инга! Мне нужны прочные тылы. Тогда будет намного легче справиться.
Долгое молчание.
Счастливая семья вернулась из коридора в свое купе. Теперь возня, сопровождаемая смехом и визгом, продолжалась за тонкой перегородкой.
Инга снова принялась за свою сумочку. Отыскала шариковую авторучку, блокнот. Написала что-то быстро, выдрала лист, положила, не глядя на меня, на столик.
Я прочитал:
«Есть еще и такой способ общения».
Я кивнул.
Умница! Правда, она ничего еще не знает про телекамеру в венской квартире, но все равно — умница! Хотя бы потому, что сразу поверила мне.
Теперь лишь бы только не пересолила. А то начнет озираться на каждом шагу.
Не пересолить — это теперь самое главное.
Хотя и особенно таиться тоже нечего. Мне больше нельзя играть роль страуса, воткнувшего голову в песок…
— Давай поедим, отец. Что-то я проголодалась.
— Уже?.. А по-моему, тебе просто хочется взглянуть, что Лиззль нам дала на дорогу.
Инга беспечно рассмеялась:
— И это тоже! Но я и есть хочу, честное слово! Ее кнедлики будто из воздуха сделаны…
Экспресс уже мчал по Австрии. Снова с юга стали надвигаться горные цепи. Не мягкими, то поднимающимися, то вновь ниспадающими округлыми линиями, как возле Зальцбурга, а сразу, крутой стеной, с резко очерченными пугающими нагромождениями зубчатых скал, закрывших добрых полнеба. А потом и с северной стороны возле окон тоже замелькали поросшие кустарником и мхом подножия отвесных серых выступов.
Эти две горные стены — северная и южная — сходились все ближе и ближе, словно пытаясь поймать наш экспресс, а он, ускользая, вился между ними. Нас качало и бросало из стороны в сторону, как на море в славный шторм.
Неожиданно стены раздвинулись, показывая обнаженное сердце Альп. Бело-розовые зубчатые пики величаво плыли над пенистой рябью облаков.
Дав нам кратковременную передышку, горные стены быстро пошли на сближение, снова пытаясь зажать юркую змейку экспресса. Теперь горы наступали уже с трех сторон: навстречу поезду тоже приближалась скалистая гряда, закупоривая выход из узкой долины.
Но именно там, впереди, на фоне быстро растущего голубовато-дымчатого хребта, возникали легкие еще, точно намеченные пунктиром, очертания колоколен, башен, современных многоэтажных строений.
С каждой минутой они проявлялись все отчетливее.
Город.
Инсбрук…
— Ну разумеется… Вот только как бы нам не увезти фрау Маргарет прямиком в ФРГ.
И словно в подтверждение высказанного мною опасения, прозвучал свисток. Экспресс медленно, как бы нехотя, отшвартовался от перрона.
Мы прощались уже на ходу.
Захлопнулись створки пневматических дверей. Инга побежала в купе и долго махала в окно. Потом повернулась ко мне.
— Какие прекрасные люди! — Она подозрительно закашлялась, словно у нее запершило в горле. — Прямо не хочется расставаться!
Ого! А ведь Инга никогда не страдала избытком чувствительности.
— Мог бы быть полюбезнее с ними, отец, — упрекнула она. — Ты прямо одеревенел на прощанье.
Я промолчал.
— Что с тобой?
— Абсолютно ничего, дочка. — Не хватало еще посвящать ее в свои заботы! — Просто мысленно я уже в Инсбруке. Как там нас встретят, где поместят?
— С чего вдруг тебя это забеспокоило?
Она осуждающе хмыкнула и отвернулась.
Нет, мои мысли были не в Инсбруке — гораздо ближе. Я думал о предстоящих двух часах, в течение которых наш экспресс должен проходить по территории ФРГ.
Я не знал еще, с чем встречусь и что буду делать.
Но я твердо знал, чего не следует делать: ни в коем случае нельзя покидать вагона!..
Переезд из Австрии в ФРГ произошел незаметно. То ли я, погруженный в думы, проморгал границу, то ли она здесь не была четко обозначена. Во всяком случае, я не заметил ни проволочных рядов, ни шлагбаумов, ни каких-либо других пограничных сооружений.
Горы незаметно отступили в сторону. За окном потянулись сытые, ухоженные поля. Не пестрые заплатки, характерные для мелких крестьянских хозяйств. Пшеница так пшеница, кукуруза так кукуруза — целый неохватный массив.
Здесь, в Баварии, вблизи Мюнхена, землей владели либо гроссбауэры — по-нашему, кулаки, — либо поставленные на промышленную, основу большие сельскохозяйственные фирмы.
Странное дело: экспресс наш шел быстро, а время словно остановилось. Я то и дело посматривал на часы. Стрелки двигались еле-еле. Даже юркая секундная и та, казалось, потеряла свою завидную бойкость.
Приближались строения. Колеса вагона, зажатые между тормозными колодками, недовольно загудели.
При подъезде к станции неожиданно заговорил деревянный, без всяких интонаций голос поездного радио:
— Сходить на территории Федеративной Республики разрешается лицам, имеющим ее гражданство или соответствующие визы в проездных документах… Повторяю: сходить на территории Федеративной Республики…
Станция маленькая, стояли мы здесь всего две-три минуты. Никто сходить не стал. Вдоль вагонов по перрону, обмахиваясь сложенной газетой, степенно прошагал западногерманский полицейский.
И опять весело застучали освобожденные от тормозов колеса. Опять сытая пшеница сменяла кукурузу, кукуруза пшеницу. На крохотных полустанках все ухожено, все прибрано, никакое отклонение от строгого геометрического порядка нигде не колет глаз.
Следующая остановка — последняя на территории Западной Германии. Судя по расписанию, вывешенному в коридоре, экспресс стоит здесь десять минут.
Серое здание вокзала, увитое плющом, медленно подплыло, остановилось прямо против нашего окна. Перрон был огорожен изящной, тонко плетенной проволочной сеткой с несколькими проходами; вероятно, для того, чтобы легче направлять в нужном направлении потоки пассажиров.
Здесь было полюднее: железнодорожники, группы молодых людей с рюкзаками и зачехленными гитарами, несколько крестьянок в национальных костюмах с плетеными корзинами. Из соседнего вагона, придерживаясь за поручень, осторожно спускался, ощупывая предварительно ногой каждую ступеньку, какой-то чистенький беленький старичок в коротких штанишках на помочах. Его встречали с цветами.
Мирная картина! Ни одного полицейского, даже ни одного таможенника!
Но что-то мешало мне воспринимать вокзальную идиллию за окном, что-то настораживало, зажигало огонек тревоги. Я хмурил лоб, пытаясь понять, напряженно вглядывался сквозь стекло.
Не чудится ли мне? Вот есть, есть какая-то нарочитая заданность в расстановке людей на перроне!
Нет, не всех. Паренек, который, дурачась, растянулся на расставленных в один ряд рюкзаках, — это естественно! Смеющиеся крестьянки перебрасываются шутками с кем-то, стоящим на тамбурной площадке и невидимым мне отсюда, из купе, — тоже в порядке вещей…
А вот этот рослый мужчина в охотничьей шляпе с пером? Почему он так ни разу и не повернулся лицом к поезду? Стоит спиной и глазеет в сторону вокзала. Что он там увидел? Что там могло его заинтересовать? Высокие узкие окна? Голуби на краю крыши?
Или те двое, в проходе, Пат и Паташонок: один — маленький, крепко сбитый, кривоногий, другой — длинный, тощий, с пышными усами. До чего ж они увлечены разговором! Ни разу за все время ни один из них не посмотрел в сторону поезда. А ведь все-таки экспресс. Что за народ едет? Разве не интересно?
Ну хотя бы раз посмотрели. Один-единственный раз!
Нет, говорят, говорят, не меняя позы, профилем к вагонам, словно спешат наговориться на всю жизнь.
Или до отхода экспресса?..
Что-то было в этом очень похожее на массовки в плохих провинциальных театрах, когда режиссер, организовывая толпу на сцене, распределяет статистов: одному стоять у самой рампы и смотреть вверх на воображаемую луну, другому прислониться к колонне, третьему, стоя спиной к зрительному залу, с интересом изучать рекламную афишу на бутафорской тумбе… Пока следишь за главными действующими лицами, все это не слишком заметно. Но стоит немного отвлечься, как искусственность созданной на сцене ситуации начинает тотчас же сама лезть в глаза.
Прошло уже и положенных десять минут остановки, и еще пять сверх этого, а экспресс все стоял и стоял. Людей на перроне стало больше: пассажиры повыходили из вагонов и толпились возле дверей.
А статисты все играли свои маленькие роли. Интересно, кто же режиссер? И здесь ли он?
Инга, которая до сих пор тоже смотрела в окно, вдруг поднялась со своего места.
— Куда? — Я старался говорить по возможности спокойно.
— Пойду потопчу своими изящными туфельками вековечную германскую землю.
— Не надо.
— Почему?
— Ты же слышала, что объявляли по радио.
— Объявляли на той станции, а не на этой.
— Все равно. Здесь тоже ФРГ.
— Да ты посмотри в окно! Весь личный состав нашего поезда прохлаждается на перроне.
— Пусть. А ты не ходи.
— Ну и ну! — Инга осуждающе покачала головой. — Не отец, а тиран и деспот!..
Она двинулась к выходу. Я опередил ее, захлопнул стеклянную дверь.
— Пусти!
— Нет, дочка. Нельзя.
— Но мне жарко, понятно? Нечем дышать.
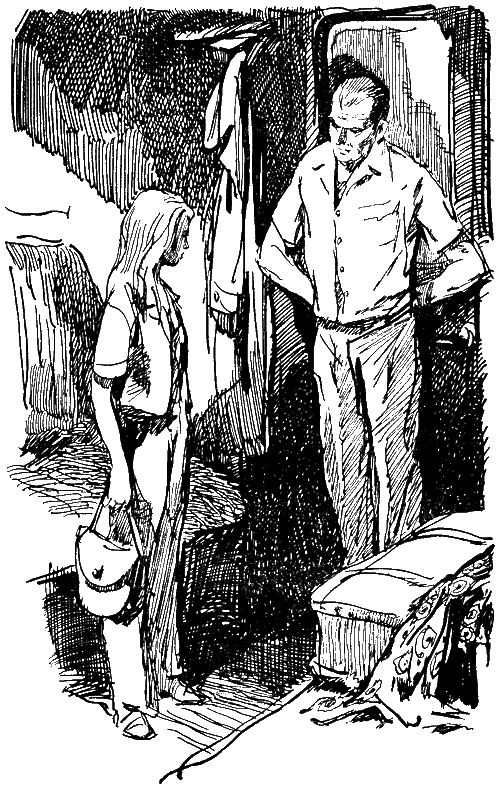
В вагоне работал кондиционер, воздух был свежим и чистым.
— Я перестаю тебя понимать, отец! — Инга начинала злиться всерьез. — Ни с того ни с сего ты вдруг прибегаешь к настоящему акту насилия. Не хочешь — сиди тут, я тебя не тащу за собой. Но почему ты не даешь мне поступать так, как я считаю нужным? Ведь мне не три и даже не восемнадцать?
Вопрос вполне уместный и поставлен разумно. К сожалению, я не имел возможности так же разумно ответить на него.
— Потому что нельзя. Запрещено правилами. И нечего их нарушать.
— Это не объяснение. Твои правила — чистейшая формальность. Видишь — проволока? Вот за нее выходить действительно запрещено. Туда я и не пойду. Пусти!
Она сделала попытку оттолкнуть меня.
— Инга, перестань! — Не без усилия я снял ее руку с дверной рукоятки.
— Ах так!
Она кинулась на мягкое сиденье, порылась в своей сумочке. Вытащила пачку сигарет и, нервно чиркнув спичкой, закурила.
Закурила впервые у меня на глазах. Да и вообще курила ли она раньше? Потому что после первой же затяжки поперхнулась дымом и сильно закашлялась.
Я отнял у нее пачку с сигаретами, спички.
— Наш вагон для некурящих. Видишь, перечеркнутая крест-накрест сигарета?
— Отдай! Слышишь, отдай!
— Потом.
— Может, ты еще ударишь меня? Как тогда?
Был в моей отцовской биографии такой прискорбный момент.
Шестилетняя Инга впервые в жизни самостоятельно отправилась за покупкой в гастрономический магазин — он помещался рядом, в соседнем доме. Я вручил ей стеклянную банку под сметану, сетку, деньги. Улыбающаяся, румяная, счастливая, она отправилась через двор, помахав мне рукой, — я наблюдал за ней в окно.
Проходит полчаса, час — Инги нет. Я начинаю беспокоиться, но доказываю себе, что ничего особенного, что время дня сейчас такое, что стоит очередь. Еще через полчаса нервы мои сдают, я отправляюсь в магазин.
В молочном отделе пусто, Инги нигде нет. Ищу ее по всему магазину, по двору, забегаю к подружкам.
Нет!
Может быть, вернулась домой, пока я искал?
Кидаюсь в свой подъезд, взлетаю на одном дыхании на третий этаж.
Нет!
Еще через час мое волнение приближается уже к десяти баллам. Ребенок исчез! Какие тут еще раздумья! Нужно немедленно бежать в милицию!
И во дворе натыкаюсь на Ингу — такую же счастливую, румяную, улыбающуюся. Та же сетка, те же деньги, та же пустая банка под сметану.
«Уф! Все магазины вокруг обегала. Нигде сметаны нет. Говорят, будет только к вечеру».
Вот тогда это и случилось…
А экспресс все еще стоит. И статисты, бедные, совсем изныли под тяжестью своих затянувшихся ролей.
Наконец прозвучало:
— Внимание! Экспресс «Моцарт» отправляется…
Пассажиры, которые успели разбрестись по всему перрону, бросились к вагонам, а я к окну. И когда поезд тронулся, я был наконец вознагражден: трое статистов, как по команде, повернулись и уставились нам вслед.
И все-таки режиссера я так и не увидел. Режиссеры, как правило, на сцену не выходят. Разве что только на премьере после занавеса, на поклон.
А может быть, этот режиссер был очень-очень далеко отсюда?..
Инга объявила мне полный бойкот.
— Инга… Послушай, дочка…
Ни слова в ответ. Ни даже движения, которое показало бы, что мои слова услышаны.
Но мне нужно было поговорить с ней. Если и сказать, хотя бы немного, лишь самое главное, то только сейчас, в поезде, под стук колес, когда шансов быть подслушанным неизмеримо меньше, чем в гостинице или на городских улицах.
Хотя полностью подслушивание не исключено и здесь. Купе слева пустует, там никого — я уже проверял. А вот справа едет молодая пара с трехлетним ангелочком с розовым бантом на белокурой головке. Правда, сели они еще до Зальцбурга. Но кто знает?..
Сейчас они прогуливали своего ангелочка по коридору. Мама с одного конца, папа с другого, и дочка с довольным визгом носится взад и вперед.
— Инга, у меня есть основания полагать, что на станции была расставлена ловушка.
В глазах еще ледяное презрение. Но, сдается мне, я уловил едва заметный огонек интереса.
— Ситуация может повториться, и я хочу, чтобы между нами на этот случай была полная ясность.
Ага! Огонек разгорается, лед начинает таять.
— Что за бред!
Все! Статуя заговорила. Это самое главное. Что она произносит, не имеет ни малейшего значения.
— От тебя требуются две вещи. Чтобы ты не реагировала на мои некоторые, как тебе покажется, странности. И чтобы, на всякий случай, держала в тайне, что знаешь латышский.
— А это еще почему?
— Не догадываешься?
— Слушай, отец, а не кажется ли тебе, что…
Я не дал ей договорить:
— Нет, не кажется. А если кажется, то тем лучше… Прошу тебя, Инга! Мне нужны прочные тылы. Тогда будет намного легче справиться.
Долгое молчание.
Счастливая семья вернулась из коридора в свое купе. Теперь возня, сопровождаемая смехом и визгом, продолжалась за тонкой перегородкой.
Инга снова принялась за свою сумочку. Отыскала шариковую авторучку, блокнот. Написала что-то быстро, выдрала лист, положила, не глядя на меня, на столик.
Я прочитал:
«Есть еще и такой способ общения».
Я кивнул.
Умница! Правда, она ничего еще не знает про телекамеру в венской квартире, но все равно — умница! Хотя бы потому, что сразу поверила мне.
Теперь лишь бы только не пересолила. А то начнет озираться на каждом шагу.
Не пересолить — это теперь самое главное.
Хотя и особенно таиться тоже нечего. Мне больше нельзя играть роль страуса, воткнувшего голову в песок…
— Давай поедим, отец. Что-то я проголодалась.
— Уже?.. А по-моему, тебе просто хочется взглянуть, что Лиззль нам дала на дорогу.
Инга беспечно рассмеялась:
— И это тоже! Но я и есть хочу, честное слово! Ее кнедлики будто из воздуха сделаны…
Экспресс уже мчал по Австрии. Снова с юга стали надвигаться горные цепи. Не мягкими, то поднимающимися, то вновь ниспадающими округлыми линиями, как возле Зальцбурга, а сразу, крутой стеной, с резко очерченными пугающими нагромождениями зубчатых скал, закрывших добрых полнеба. А потом и с северной стороны возле окон тоже замелькали поросшие кустарником и мхом подножия отвесных серых выступов.
Эти две горные стены — северная и южная — сходились все ближе и ближе, словно пытаясь поймать наш экспресс, а он, ускользая, вился между ними. Нас качало и бросало из стороны в сторону, как на море в славный шторм.
Неожиданно стены раздвинулись, показывая обнаженное сердце Альп. Бело-розовые зубчатые пики величаво плыли над пенистой рябью облаков.
Дав нам кратковременную передышку, горные стены быстро пошли на сближение, снова пытаясь зажать юркую змейку экспресса. Теперь горы наступали уже с трех сторон: навстречу поезду тоже приближалась скалистая гряда, закупоривая выход из узкой долины.
Но именно там, впереди, на фоне быстро растущего голубовато-дымчатого хребта, возникали легкие еще, точно намеченные пунктиром, очертания колоколен, башен, современных многоэтажных строений.
С каждой минутой они проявлялись все отчетливее.
Город.
Инсбрук…
НИКТО
нас не встретил. Это было в порядке вещей. В Вене, в отделе печати, так и договорились: в Инсбруке мы самостоятельно доберемся до гостиницы, поскольку неизвестно, каким поездом туда приедем. Тем более, что отель «Континенталь», где предстояло остановиться, расположен близко от вокзала. А уж там, в отеле, нас разыщут представители городских властей.
«Континенталь» оказался не просто «близко от вокзала», а прямо напротив. Мы перешли неширокую, загроможденную автомашинами площадь и через бесшумную вращающуюся дверь вошли в просторный холл.
За полукруглой стойкой хозяйничала совсем молоденькая в униформированной, под венгерку, курточке, широколицая девушка с приятной застенчивой улыбкой.
— К вашим услугам, мой господин!
— Я Ванаг. На мое имя городским муниципалитетом должен быть сделан заказ.
— Совершенно точно. — Она посмотрела книгу с записями. — Профессор Арвид Ванаг. Комната двести два. Великолепный двухспальный номер на втором этаже. Господин профессор останется доволен… Вот, заполните, пожалуйста! — На стойку легли два гостевых листка. — Вы и… — Она чуть замешкалась. — И ваша супруга.
Инга рассмеялась.
— Ах, извините! — Девушка сразу все поняла и мгновенно нашлась: — Господин профессор так молодо выглядит…
— Да, это моя дочь… И в связи с этим у меня просьба. Нам нужен не один, а два номера. Два одноместных номера… Это не слишком сложено?
— Что вы, что вы! У нас сегодня как раз много свободных мест. Момент! Я все устрою.
И она исчезла за стеклянной дверью позади стойки, на матовой поверхности которой было выведено готическими буквами: «Распорядитель».
Мы сели за низкий столик заполнять листки. Прошла минута, другая. Девушка не появлялась. У стойки стали скапливаться постояльцы.
— Фрейлейн Оливия! — Кто-то из них нетерпеливо постучал по стойке ключом от комнаты.
— Иду, иду, извините!
Она выпорхнула из-за двери и моментально всех отпустила: у одних приняла ключи, другим выдала.
Потом обратилась ко мне:
— Очень сожалею, господин профессор, но сделать ничего уже не удастся.
— Почему?
— Магистрат уплатил именно за этот номер.
— Два одноместных стоят дороже?
— Вот именно. На двести шиллингов в сутки.
— Хорошо. Я приму разницу на себя. Так можно?
— Думаю, да, — ответила Оливия неуверенно. — Сейчас.
И опять она отправилась за стеклянную дверь.
— Ладно, отец! — Инга тронула меня за рукав. — Перебьемся! Я сниму с постели матрац и устроюсь на полу. Ну стоит ли ни с того ни с сего выбрасывать на ветер, пусть даже горный, две пары новеньких туфель?
Но я не был настроен на шутливую волну:
— Неужели ты ни о чем другом, кроме туфель, думать не можешь?
— Почему же? Джинсы, например, тоже не выходят у меня из головы.
Переговоры у распорядителя кончились явной неудачей. Это я прочитал на славном личике Оливии, когда она возвратилась к своему рабочему месту.
— Мне очень жаль, господин профессор… — Она развела руками.
— Распорядитель возражает?
— Он говорит, что…
— Позовите-ка лучше его самого. Зачем вам взваливать на себя тяжкую роль посредника?
Оливия вроде бы даже обрадовалась:
— Как прикажете, господин профессор!
И вот передо мной предстал лысеющий мужчина средних лет с заметным «пивным» брюшком. Несмотря на жару, он был облачен в черную пару с бабочкой. Ощущалась в нем гостиничная выучка высокого класса.
— К вашим услугам, господин профессор.
Его баритон был напитан глубоким чувством собственного достоинства и самоуважения.
Я объяснил ему, почему нас с Ингой не устраивает двухместный номер, пусть даже самый шикарный.
— К великому моему сожалению, в отеле в настоящий момент не имеется в наличии свободных одноместных номеров, — провозгласил он.
— Это странно.
— Ничего странного, господин профессор. Самый разгар туристского сезона.
— Но ваша портье сказала нам нечто совершенно противоположное.
Он метнул в нее молниеносный испепеляющий взгляд. Бедная Оливия даже съежилась.
— Портье — простой исполнитель, она понятия не имеет о заказах. Ими в отеле ведаю только я. Свободные номера действительно есть, но все они бронированы. Подходят поезда, и наши гости тоже. Как я им скажу, что их телеграфный заказ отменен?.. Может быть, завтра, господин профессор.
Распорядитель лгал, я видел это совершенно отчетливо по легкой издевочке в его водянистых, с густой сетью красных прожилок глазах. Почему-то он изо всех сил старался всучить мне этот двести второй номер. Почему-то ему было нужно, чтобы мы вселились именно туда. Иначе с чего бы он стал так упрямиться? Наоборот, вышколенный персонал австрийских гостиниц всегда идет навстречу посетителям, даже стремится предугадать их желания.
— Что ж, — сказал я, — тогда мы попытаем счастья в других отелях… Фрейлейн Оливия, не окажете ли любезность вызвать такси?
Издевочка в глазах распорядителя исчезла, в них шевельнулось беспокойство.
— Вряд ли вы сейчас что-нибудь найдете в Инсбруке, господин профессор. Я же сказал: разгар летнего сезона. Туристы идут косяками.
— На худой конец, заедем в магистрат. Дежурный, наверное, что-нибудь придумает. У них там, мне говорили в Вене, есть места для приезжих.
Упоминание о магистрате, как я и рассчитывал, подействовало. Ведь, в конце концов, если я пожалуюсь, распорядителю придется держать ответ перед городскими властями. Профессор, публицист, гость отдела печати…
— Одну минуту, господин профессор, я перезвоню по этажам. Может быть, может быть…
Он важно удалился к себе.
— Ваши листки прибытия, пожалуйста, — попросила Оливия. — Я их зарегистрирую.
— Но ведь еще неизвестно…
— Теперь он найдет! — Миловидная портье бросила на меня одобрительный взгляд. — Найдет!
И он действительно нашел. Вернулся из своей каморки какой-то мягкий, добрый, сияющий весь.
— Представьте себе, господин профессор, номер триста семь и триста четыре! Два великолепных номера, один напротив другого. И никакой доплаты — цены совпадают идеально… Только не на втором этаже, к сожалению, а на третьем, — добавил он с искусственной озабоченностью, словно это могло иметь хоть какое-нибудь значение. — Они тоже заказаны, но, к счастью, лишь на понедельник… Бой! — позвал он.
От лифта рванул к нам бой — патлатый, униформированный так же, как Оливия, дылда. «Бой» — по-английски значит «мальчик». Этому «мальчугану» было за тридцать.
— Вещи господина профессора! — скомандовал распорядитель, и бой моментально подхватил оба наших места. — Триста седьмой номер для самого господина профессора, триста четвертый — для фрейлейн… Триста седьмой — для профессора, — почему-то счел нужным повторить он.
— Слушаюсь!
Мы поднялись на лифте и пошли вслед за боем по длинному коридору с многочисленными поворотами — здание было выстроено уступами.
— Прошу! — Он отпер дверь триста седьмого номера и посторонился, приглашая меня войти.
— Иди ты, Инга!
Но бой не дал ей пройти. Не грубо, не став на пути а будто случайно неловко развернув чемодан.
— Простите, фрейлейн, этот номер предназначен для господина профессора.
Инга захлопала глазами:
— А какая разница?..
— Он… удобнее, больше, прекрасный вид на Южную цепь.
— Замечательно! — Я изобразил на лице восхищение. — Вот пусть моя дочь им и любуется. Молодым девушкам полезен прекрасный вид. Словом, Инга, этот номер твой, я дарю его тебе вместе с Южной цепью.
Но бой не отступал:
— Господин распорядитель сказал…
— Господину распорядителю совершенно безразлично, кто из нас в каком номере будет жить.
Именно в этом я не был уверен!
Что еще оставалось делать нашему великовозрастному бою? Он исчерпал до конца свои возможности и молча убрал с пути чемодан, прекратив все попытки навязать мне волю распорядителя.
Большое, почти во всю стену, окно моей комнаты выходило на привокзальную площадь. Я отдернул тяжелую штору, распахнул настежь широкие створки.
— К тебе можно?
Вошла Инга.
— О, какой у тебя простор! Почему же он сказал, что тот больше?.. И гобелен! Неужели что-то старинное? — Она ощупала ткань. — Да нет, туфта, одна видимость!.. О, да здесь тоже телефон! Прекрасно, ты сможешь руководить мною, не покидая комнаты… Ну, чем займемся в незнакомом городе, отец?
— Должен подойти представитель магистрата.
— Не ждать же его до ночи. Пробежим хотя бы по улице. Новый город, новые свежие впечатления.
— А представитель?
— Скажи портье, что через час вернемся.
Так и сделали. Перед уходом я снова задернул плотную штору — ровно до середины распахнутого окна. В комнате стало полутемно.
— Да ты закрой совсем, — посоветовала Инга. — Пыль налетит, гарь. Видишь, сколько машин.
— Ничего, пусть пыль, зато воздух посвежее.
В комнате действительно пахло затхлым. Ветры непрерывно срывали сырость со снежных вершин и несли в город. Белье, ковры, портьеры, тот же туфтовый гобелен нуждались в тщательном проветривании.
Я вернул ключи от наших комнат Оливии, одарившей меня милой улыбкой, предупредил насчет человека из магистрата.
— Не беспокойтесь, все будет сделано как нужно, господин профессор. Приятной вам прогулки! У нас в городе есть на что посмотреть.
Стеклянная дверь за ее спиной была чуть приоткрыта. Мне казалось, я вижу в щели водянистый, с красными прожилками глаз…
На углу я остановился.
— Знаешь что, дочка, иди дальше сама. Меня все-таки беспокоит представитель. Позвонит, узнает, что мы приехали. Прибежит, ждать будет, волноваться. Нехорошо!.. Словом, я возвращаюсь.
— Как хочешь. — Инга внимательно посмотрела на меня: — Какой-то ты стал беспокойный, отец!
— Вот именно. Поэтому и ты не слишком-то задерживайся.
Я только до того памятника и обратно.
Вдали виднелась своеобразной формы многофигурная колонна, так называемый «чумной» памятник, обязательный чуть ли не для каждого западноевропейского города. Говорят, их ставили на месте массовых захоронений погибших во время страшных средневековых эпидемий чумы.
Вероятно, Инга очень удивилась бы, если бы посмотрела мне вслед. Потому что я пошел не в гостиницу, а в здание вокзала. Поднялся на второй этаж, прошел по длинному коридору какого-то служебного помещения. Коридор заканчивался балконом с гнутой кружевной железной оградой. Его запертая дверь выходила на отель. Окно моего номера располагалось прямо напротив.
Я стал ждать.
Это длилось недолго.
Довольно скоро штора в окне шевельнулась и отъехала. Кто-то отдернул ее в сторону, к стене.
Расчет мой оправдался.
Полумрак не устраивал вошедшего. Нужно было либо зажигать свет, либо отдернуть штору.
Он предпочел последнее.
Я быстро, почти бегом, пересек площадь. Мимо портье проходить не стал: у вращающейся двери я заприметил выход в замкнутый гостиничный двор. Отыскал там черную лестницу и взбежал по ней на третий этаж.
Плотные ковровые дорожки глушили шаги. Я прошел по пустынным поворотам коридора к своему номеру и прислушался.
«Континенталь» оказался не просто «близко от вокзала», а прямо напротив. Мы перешли неширокую, загроможденную автомашинами площадь и через бесшумную вращающуюся дверь вошли в просторный холл.
За полукруглой стойкой хозяйничала совсем молоденькая в униформированной, под венгерку, курточке, широколицая девушка с приятной застенчивой улыбкой.
— К вашим услугам, мой господин!
— Я Ванаг. На мое имя городским муниципалитетом должен быть сделан заказ.
— Совершенно точно. — Она посмотрела книгу с записями. — Профессор Арвид Ванаг. Комната двести два. Великолепный двухспальный номер на втором этаже. Господин профессор останется доволен… Вот, заполните, пожалуйста! — На стойку легли два гостевых листка. — Вы и… — Она чуть замешкалась. — И ваша супруга.
Инга рассмеялась.
— Ах, извините! — Девушка сразу все поняла и мгновенно нашлась: — Господин профессор так молодо выглядит…
— Да, это моя дочь… И в связи с этим у меня просьба. Нам нужен не один, а два номера. Два одноместных номера… Это не слишком сложено?
— Что вы, что вы! У нас сегодня как раз много свободных мест. Момент! Я все устрою.
И она исчезла за стеклянной дверью позади стойки, на матовой поверхности которой было выведено готическими буквами: «Распорядитель».
Мы сели за низкий столик заполнять листки. Прошла минута, другая. Девушка не появлялась. У стойки стали скапливаться постояльцы.
— Фрейлейн Оливия! — Кто-то из них нетерпеливо постучал по стойке ключом от комнаты.
— Иду, иду, извините!
Она выпорхнула из-за двери и моментально всех отпустила: у одних приняла ключи, другим выдала.
Потом обратилась ко мне:
— Очень сожалею, господин профессор, но сделать ничего уже не удастся.
— Почему?
— Магистрат уплатил именно за этот номер.
— Два одноместных стоят дороже?
— Вот именно. На двести шиллингов в сутки.
— Хорошо. Я приму разницу на себя. Так можно?
— Думаю, да, — ответила Оливия неуверенно. — Сейчас.
И опять она отправилась за стеклянную дверь.
— Ладно, отец! — Инга тронула меня за рукав. — Перебьемся! Я сниму с постели матрац и устроюсь на полу. Ну стоит ли ни с того ни с сего выбрасывать на ветер, пусть даже горный, две пары новеньких туфель?
Но я не был настроен на шутливую волну:
— Неужели ты ни о чем другом, кроме туфель, думать не можешь?
— Почему же? Джинсы, например, тоже не выходят у меня из головы.
Переговоры у распорядителя кончились явной неудачей. Это я прочитал на славном личике Оливии, когда она возвратилась к своему рабочему месту.
— Мне очень жаль, господин профессор… — Она развела руками.
— Распорядитель возражает?
— Он говорит, что…
— Позовите-ка лучше его самого. Зачем вам взваливать на себя тяжкую роль посредника?
Оливия вроде бы даже обрадовалась:
— Как прикажете, господин профессор!
И вот передо мной предстал лысеющий мужчина средних лет с заметным «пивным» брюшком. Несмотря на жару, он был облачен в черную пару с бабочкой. Ощущалась в нем гостиничная выучка высокого класса.
— К вашим услугам, господин профессор.
Его баритон был напитан глубоким чувством собственного достоинства и самоуважения.
Я объяснил ему, почему нас с Ингой не устраивает двухместный номер, пусть даже самый шикарный.
— К великому моему сожалению, в отеле в настоящий момент не имеется в наличии свободных одноместных номеров, — провозгласил он.
— Это странно.
— Ничего странного, господин профессор. Самый разгар туристского сезона.
— Но ваша портье сказала нам нечто совершенно противоположное.
Он метнул в нее молниеносный испепеляющий взгляд. Бедная Оливия даже съежилась.
— Портье — простой исполнитель, она понятия не имеет о заказах. Ими в отеле ведаю только я. Свободные номера действительно есть, но все они бронированы. Подходят поезда, и наши гости тоже. Как я им скажу, что их телеграфный заказ отменен?.. Может быть, завтра, господин профессор.
Распорядитель лгал, я видел это совершенно отчетливо по легкой издевочке в его водянистых, с густой сетью красных прожилок глазах. Почему-то он изо всех сил старался всучить мне этот двести второй номер. Почему-то ему было нужно, чтобы мы вселились именно туда. Иначе с чего бы он стал так упрямиться? Наоборот, вышколенный персонал австрийских гостиниц всегда идет навстречу посетителям, даже стремится предугадать их желания.
— Что ж, — сказал я, — тогда мы попытаем счастья в других отелях… Фрейлейн Оливия, не окажете ли любезность вызвать такси?
Издевочка в глазах распорядителя исчезла, в них шевельнулось беспокойство.
— Вряд ли вы сейчас что-нибудь найдете в Инсбруке, господин профессор. Я же сказал: разгар летнего сезона. Туристы идут косяками.
— На худой конец, заедем в магистрат. Дежурный, наверное, что-нибудь придумает. У них там, мне говорили в Вене, есть места для приезжих.
Упоминание о магистрате, как я и рассчитывал, подействовало. Ведь, в конце концов, если я пожалуюсь, распорядителю придется держать ответ перед городскими властями. Профессор, публицист, гость отдела печати…
— Одну минуту, господин профессор, я перезвоню по этажам. Может быть, может быть…
Он важно удалился к себе.
— Ваши листки прибытия, пожалуйста, — попросила Оливия. — Я их зарегистрирую.
— Но ведь еще неизвестно…
— Теперь он найдет! — Миловидная портье бросила на меня одобрительный взгляд. — Найдет!
И он действительно нашел. Вернулся из своей каморки какой-то мягкий, добрый, сияющий весь.
— Представьте себе, господин профессор, номер триста семь и триста четыре! Два великолепных номера, один напротив другого. И никакой доплаты — цены совпадают идеально… Только не на втором этаже, к сожалению, а на третьем, — добавил он с искусственной озабоченностью, словно это могло иметь хоть какое-нибудь значение. — Они тоже заказаны, но, к счастью, лишь на понедельник… Бой! — позвал он.
От лифта рванул к нам бой — патлатый, униформированный так же, как Оливия, дылда. «Бой» — по-английски значит «мальчик». Этому «мальчугану» было за тридцать.
— Вещи господина профессора! — скомандовал распорядитель, и бой моментально подхватил оба наших места. — Триста седьмой номер для самого господина профессора, триста четвертый — для фрейлейн… Триста седьмой — для профессора, — почему-то счел нужным повторить он.
— Слушаюсь!
Мы поднялись на лифте и пошли вслед за боем по длинному коридору с многочисленными поворотами — здание было выстроено уступами.
— Прошу! — Он отпер дверь триста седьмого номера и посторонился, приглашая меня войти.
— Иди ты, Инга!
Но бой не дал ей пройти. Не грубо, не став на пути а будто случайно неловко развернув чемодан.
— Простите, фрейлейн, этот номер предназначен для господина профессора.
Инга захлопала глазами:
— А какая разница?..
— Он… удобнее, больше, прекрасный вид на Южную цепь.
— Замечательно! — Я изобразил на лице восхищение. — Вот пусть моя дочь им и любуется. Молодым девушкам полезен прекрасный вид. Словом, Инга, этот номер твой, я дарю его тебе вместе с Южной цепью.
Но бой не отступал:
— Господин распорядитель сказал…
— Господину распорядителю совершенно безразлично, кто из нас в каком номере будет жить.
Именно в этом я не был уверен!
Что еще оставалось делать нашему великовозрастному бою? Он исчерпал до конца свои возможности и молча убрал с пути чемодан, прекратив все попытки навязать мне волю распорядителя.
Большое, почти во всю стену, окно моей комнаты выходило на привокзальную площадь. Я отдернул тяжелую штору, распахнул настежь широкие створки.
— К тебе можно?
Вошла Инга.
— О, какой у тебя простор! Почему же он сказал, что тот больше?.. И гобелен! Неужели что-то старинное? — Она ощупала ткань. — Да нет, туфта, одна видимость!.. О, да здесь тоже телефон! Прекрасно, ты сможешь руководить мною, не покидая комнаты… Ну, чем займемся в незнакомом городе, отец?
— Должен подойти представитель магистрата.
— Не ждать же его до ночи. Пробежим хотя бы по улице. Новый город, новые свежие впечатления.
— А представитель?
— Скажи портье, что через час вернемся.
Так и сделали. Перед уходом я снова задернул плотную штору — ровно до середины распахнутого окна. В комнате стало полутемно.
— Да ты закрой совсем, — посоветовала Инга. — Пыль налетит, гарь. Видишь, сколько машин.
— Ничего, пусть пыль, зато воздух посвежее.
В комнате действительно пахло затхлым. Ветры непрерывно срывали сырость со снежных вершин и несли в город. Белье, ковры, портьеры, тот же туфтовый гобелен нуждались в тщательном проветривании.
Я вернул ключи от наших комнат Оливии, одарившей меня милой улыбкой, предупредил насчет человека из магистрата.
— Не беспокойтесь, все будет сделано как нужно, господин профессор. Приятной вам прогулки! У нас в городе есть на что посмотреть.
Стеклянная дверь за ее спиной была чуть приоткрыта. Мне казалось, я вижу в щели водянистый, с красными прожилками глаз…
На углу я остановился.
— Знаешь что, дочка, иди дальше сама. Меня все-таки беспокоит представитель. Позвонит, узнает, что мы приехали. Прибежит, ждать будет, волноваться. Нехорошо!.. Словом, я возвращаюсь.
— Как хочешь. — Инга внимательно посмотрела на меня: — Какой-то ты стал беспокойный, отец!
— Вот именно. Поэтому и ты не слишком-то задерживайся.
Я только до того памятника и обратно.
Вдали виднелась своеобразной формы многофигурная колонна, так называемый «чумной» памятник, обязательный чуть ли не для каждого западноевропейского города. Говорят, их ставили на месте массовых захоронений погибших во время страшных средневековых эпидемий чумы.
Вероятно, Инга очень удивилась бы, если бы посмотрела мне вслед. Потому что я пошел не в гостиницу, а в здание вокзала. Поднялся на второй этаж, прошел по длинному коридору какого-то служебного помещения. Коридор заканчивался балконом с гнутой кружевной железной оградой. Его запертая дверь выходила на отель. Окно моего номера располагалось прямо напротив.
Я стал ждать.
Это длилось недолго.
Довольно скоро штора в окне шевельнулась и отъехала. Кто-то отдернул ее в сторону, к стене.
Расчет мой оправдался.
Полумрак не устраивал вошедшего. Нужно было либо зажигать свет, либо отдернуть штору.
Он предпочел последнее.
Я быстро, почти бегом, пересек площадь. Мимо портье проходить не стал: у вращающейся двери я заприметил выход в замкнутый гостиничный двор. Отыскал там черную лестницу и взбежал по ней на третий этаж.
Плотные ковровые дорожки глушили шаги. Я прошел по пустынным поворотам коридора к своему номеру и прислушался.
