В других областях богословия опасность столкнуться с догматическим учением Церкви также чувствовалась и влияла на выбор предмета ученой работы. Так называемая «низшая критика» Библии, – изучение греческого текста семидесяти толковников, – за которым признавалось «догматическое достоинство» (Филарет Дроздов), и сравнение его с менее авторитетным в глазах Церкви еврейским текстом (в связи с переводом Библии на русский язык), а также история славянского текста после Кирилла и Мефодия привлекли к себе много ученых сил. Но так называемая «высшая критика», т. е. изучение текстов библейского канона с точки зрения их подлинности и соответствия тому времени, которому приписывалось их происхождение, тщательно избегалась. Ведь на этом пути исследователя ждали сокрушительные результаты работы протестантских богословов, переделывавшие всю историю христианства, начиная с земной жизни Христа. С изучением послеапостольского периода было легче. Уже Филарет Гумилевский признавал, что отцы Церкви «размышляли… спорили и ораторствовали, философствовали, были филологами и притом даже ошибались…» Таким образом, историческая сторона здесь законно претендовала занять место рядом с догматической. Профессор Московской духовной академии М. М. Тареев даже решился высказать мысль, что святоотческое учение «есть сплошной гностицизм, существенно связанный с аскетизмом», и что оба они «заклятые враги русского гения», который «идет от преодоления гностико-аскетического богословия к расцвету духовного типа религиозной мысли». Но подобные взгляды, по авторитетной оценке профессора Н. Н. Глубоковского, «не могут привиться в русской богословской науке, ибо грозят самому ее бытию». Таким образом, новшества Тареева только подчеркнули границы, отведенные школьному богословию. Несколько свободнее можно было обрабатывать дальнейшую историю Церкви – со времен Вселенских соборов – и историю Русской Церкви. И здесь мы имеем ценные труды А. П. Лебедева, Е. Е. Голубинского и др. К литургике также опасались прикасаться, это была «самая заброшенная наука», ибо церковно-богослужебный обряд «принимался и рассматривался тут в законченной форме некоторой неподвижной окаменелости, и в этом виде как бы догматизировался… исторический генезис совершенно отрицался». Более удачную позицию заняла церковная археология, – и здесь мы опять имеем ценные работы Н. В. Покровского. В общем, таким образом, русское академическое богословие, несмотря на обилие трудов, не могло догнать европейского по самым существенным вопросам веры и оставило большие проблемы во всех областях, огражденных официальной цензурой.

Н. Шпревич. Портрет митрополита Филарета
Естественно, что такое положение дела не могло удовлетворить верующую часть интеллигенции, свободную от казенных рамок. И наряду со школьным богословием у нас возникает с середины XIX в. богословие светское, гораздо более характерное для истории русской религиозной мысли. Вопреки общему настроению русской интеллигенции, отрицательно относившейся к положительной религии, светские богословы пытались удержаться не только в пределах откровенной веры, но в пределах именно православия. Тем не менее они внесли в свое, как стали говорить о них, «богоискательство» свежую струю, которая плохо уживалась с традиционной верой и с которой традиционная вера, в свою очередь, не хотела и не могла считаться. В брошюре профессора Глубоковского «Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии» приведен список 82 русских богословов-академиков и 378 упоминаемых им авторов. Но ни в каком из этих списков нет имен светских богословов, о которых мы будем говорить дальше.
Характерным образом толчок к созданию русского светского богословия приходит из-за границы. История интеллигентного богоискательства совпадает с историей двух периодов воздействия заграничного романтизма на разные поколения русской интеллигенции. Первый период этого воздействия, источник которого можно видеть в протесте против рационализма XVIII в., создал оригинальное учение славянофильства. Православная религия была здесь неразрывно связана с поисками основных свойств русской души. Романтики этого поколения создали свои взгляды под влиянием немецких университетских лекций Фридриха Шеллинга и Франца Баадера в 1830-х гг. и развили свое учение в 1850-х, в борьбе с гегелианством. Второе поколение новоромантиков воспиталось под влиянием идей fin de siecle[1] (в России эта эпоха названа «Серебряный век»), особенно Ницше, в 1890-х гг. Его возврат к религии был протестом против натурализма и эмпиризма предыдущих лет. Деятельность младших современников этого поколения XIX в. особенно развилась под впечатлениями революционных неудач 1905 и 1917 гг.
Конечно, выбор иностранных источников для заимствования – здесь, как и в других случаях, – не случаен. Он соответствует своеобразным чертам русского религиозного творчества, которые отдаляют светское богословие от официального и приближают его к русскому сектантству. Наиболее яркой из них является стремление светского богословия к мистицизму. Черта эта не нова в русской культурной истории. Мы видели, что струя мистицизма была внесена в русскую религиозную жизнь еще в конце XV и XVI в. с Афона. У славянофилов с этим течением, конечно, нет преемственной связи. Но авторитеты там и здесь одни и те же, – и даже одни и те же термины. Эта традиция восходит к Григорию Синаиту и Григорию Паламе. Мистицизм восточных отцов Церкви славянофилы обыкновенно противопоставляли рационализму западных отцов – и из этого противопоставления создали даже основную черту всего своего учения о различии между Западом и Востоком.
Отцом русского светского богословия справедливо считается славянофил А. С. Хомяков. Исходной точкой его учения служит утверждение восточных патриархов в их ответе папе Пию IX в 1848 г. по вопросу о папской непогрешимости. «Непогрешимость почиет единственно во вселенскости Церкви, объединенной взаимной любовью. И неизменяемость догмата, равно как и чистота обряда, вверены охране не одной только иерархии, но и всего народа церковного, который есть Тело Христово». Запад, вместо любви, лежащей в основе соборности, проявил гордыню индивидуального разума. Этим путем католичество породило протестантизм, а протестантизм современную анархию религиозной мысли. Напротив, Восточная Церковь осуществила начало соборности в любви. Только соборное тело Церкви, живой организм ее, сохраняет корни религиозной жизни и обладает целостной истиной, не ограниченной рационалистической абстрактностью западной философии. Вне Церкви нет ни истины, ни спасения; там неведение и грех. Зато в Церкви – Дух Божий, недоступный одному разуму, а только полноте человеческого духа. Таинства, Библия – суть только внешняя, видимая оболочка; по существу, «всякое писание, которое Церковь по наущению Духа Божьего признает своим, есть Священное Писание», – и споры протестантов об авторстве апостолов в Евангелии и посланиях нисколько не меняют отношения Церкви к ним. Если сегодня отвергнут послания ап. Павла, то Церковь завтра может сказать: «Они от меня», – и послания сохранят весь свой авторитет. Даже Вселенский собор не стоит выше соборного церковного сознания; «церковный народ» может отвергнуть его авторитет. Форма этого сознания, очевидно, не может быть выражена ни юридически, ни рационалистически. «Целостность духа» есть понятие мистическое. Так как это начало вселенское, то ему предстоит распространиться на весь мир. И в этом заключается мировая миссия России. Национальная религия, как мы видим, возвращает здесь себе космополитический характер.
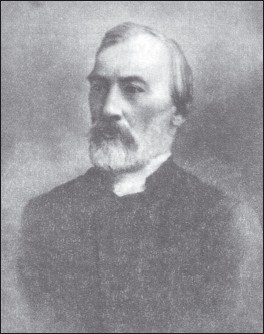
Русский писатель и публицист К. Н. Леонтьев
Против «хомяковского православия» решительно восстал хранитель старых начал византизма русский публицист К. Н. Леонтьев. Он обнаружил в нем «протестантский» дух и противопоставлял ему строгое подчинение церковной традиции. «Слявяно-англиканское новоправославие, – говорил он, – есть нечто более опасное, чем всякое скопчество и всякая хлыстовщина… Что было бы в том англославянском мещанстве, кроме греха и духовного бунта… Для кого нужно, чтобы какая-нибудь мадам Благовещенская сидела около супруга своего на ступенях епископского трона?» Отрицал он и морально-гуманитарную сторону «розового христианства» Достоевского и Толстого.
Не любовь, а страх Божий – такова основа религии по Леонтьеву. Сам он испытывал этот страх перед вечным осуждением. От него он ушел в монашество. И спасение свое личное вверял Церкви в обычном, а не хомяковском понимании этого слова. Вместо «свободы» в духе он проповедовал безусловное подчинение иерархии. Против иллюзии конечного торжества любви и братства в мире он ссылался на апокалиптическое оскудение любви как раз тогда, когда «будет проповедано Евангелие во всех концах земли». В русском народе он не находил никаких залогов миссионерского призвания и хотел византийское церковное начало уберечь в неприкосновенном виде от «церковного народа».
Национальность при этом он не только не признавал проникнутой живым религиозным духом, но для него она представляла из себя пустое место, подлежащее хранению в нетронутом виде. Его взгляды совпадали со стремлениями официальной Церкви эпохи К. П. Победоносцева. Естественно, что с такими позициями Леонтьев явился глашатаем самой последовательной реакции.
Мысль о «вселенском» значении православия, вместе с верой в будущность русского народа, суждено было возродить деятелю промежуточного поколения, Владимиру Сергеевичу Соловьеву – в прямой оппозиции националистическим эпигонам славянофильства, Н. Я. Данилевскому и К. Н. Леонтьеву. Этот яркий мыслитель уже успел пройти в юные годы полосу влияния естественных наук, Конта и Спенсера. К религии он вернулся от неверия, – и это давало ему больше свободы, чем первым славянофилам, в трактовке религиозных вопросов. Прежде чем приняться за отцов Церкви и средневековых мистиков, он прошел школу кантовского критицизма. Шопенгауэр и Гартман также имели на него, по его собственному признанию, большое влияние. Своей задачей В. Соловьев поставил высший синтез науки, философии и религии. Первенствовала, однако, в этом синтезе, конечно, религия. Он прямо заявлял, что его цель – «восстановить веру отцов». Однако, живя и действуя в период, когда, религиозные искания не были в моде, он должен был расчищать путь для своей религиозной концепции критикой противоположных научных и философских мировоззрений. Сначала он дал разбор научного мировоззрения, поскольку оно выразилось в позитивизме и эмпиризме. Затем он признал односторонность философского мировоззрения, поскольку оно, по его убеждению, заимствованному у славянофилов, было исчерпано «отвлеченными началами» Гегеля и его преемников, в противоположность жизненности и целостности начала христианского. И наука, и философия, по В. С. Соловьеву, неизбежно привели бы к скепсису и полнейшему иллюзионизму; чтобы признать реальность внешнего мира, необходимо признать лежащее в его основе всеединое и абсолютное начало.

Вл. С. Соловьев. Рисунок И. Репина. 1889 г.
Только в конце своей деятельности Соловьев едва успел перейти от критики к «оправданию» положительных начал христианской доктрины, «оправданию» троичного начала добра, красоты и истины. Эту работу он не успел довести до конца, и его собственное построение осталось незаконченным. Однако в этом учении, уже гораздо яснее, чем у Хомякова, проявились специфические черты, отличающие русское светское богословие: 1) стремление к «Соборности», расширяющееся в понятие вселенской миссии, а специально у Соловьева выразившееся в переходе к католицизму; 2) стремление объяснить все непонятное в вере «конкретно», но единственно доступным путем «внутреннего опыта», то есть мистически (при этом в особенности широко начинают применяться объяснения посредством сравнений и образов – своего рода мистический имажинизм; в желании все свести к любимой тройственной схеме Соловьев доходит в своей диалектике до крайностей словесной схоластики); 3) потребность – уже намечавшаяся у Хомякова и даже у академических богословов – слить небесное, отвлеченное, с жизненным, земным. У Соловьева эта черта сводится к исканию посредничества между Богом и миром – среднего пути между дуализмом и пантеизмом, трансцендентностью и имманентностью – и, в результате, к особенному развитию учения о «Софии» и Богочеловечестве. В соответствии с взглядами восточных отцов Церкви, Соловьев кладет в основу своего учения об искуплении человечества не юридическую или «коммерческую» теорию Ансельма Кентерберийского и незаместительное искупление старых протестантских богословов, а догмат воплощения. Воплощение для Соловьева не есть одиночный факт явления Богочеловека Иисуса, а постоянный процесс и общий метод спасения человечества и вместе с ним одухотворения всего мира, Человек ведь есть высшая точка развития духа в природе – пункт, в котором Божество приходит к сознанию самого себя в природе. Поднимаясь к Богочеловечеству, люди вместе с собой поднимают и природу, которая в конце концов обратится в светлую телесность царства очищенных духов… Но процесс этот длителен, ибо душа, отделившись от Бога и тем проявив свою свободную волю, повергла мир в состояние распада. Очищение и возрождение мира должно быть также проявлением свободной воли человека, прошедшего уже через предварительные ступени объединения механического (тяготение), динамического (эфир) и органического (царство растительное и животное). В человеке чувственная душа мира становится разумной и обнимает в идеальном единстве все существующее. Через человека земля возвышена до небес; через него же и небо должно сойти на землю. Этой цели человечество достигнет, только сохранив свободу.
Так как превращение в «богочеловеческую» личность есть дело свободной воли каждого, то не все люди становятся богочеловеками, а только способные к внутренней мистической интуиции (См.: Соловьев В. С. Оправдание добра. 2-е изд., М., 1899). Но личными усилиями отдельные люди не могут достигнуть откровения царства Божия. Оно достигается совершенной общественной организацией, которая и есть Церковь – именно в западной, католической форме. Однако для полноты мировой гармонии христианства необходимо к католической дисциплине и к ее высшему центральному авторитету присоединить чистоту догмы, сохраненной в неприкосновенности восточными церквами. При таком добровольном соединении католицизм перестанет отрицать свободу индивидуальной совести, а протестантизм – авторитет. Церковь будет состоять из богочеловеческих личностей, «переставших быть только людьми, как люди перестали быть только животными» (ср. «сыны божьи» русского сектантства). Церковь постепенно расширится до пределов человечества и обновит мир. Надо прибавить, что в конце жизни философ, видимо, разочаровался в близости царства Божия на земле и подался в сторону эсхатологического пессимизма Леонтьева.
В. С. Соловьев жил и умер одиноким в своих убеждениях. Но в последние годы его жизни уже выступила на сцену плеяда неоромантических писателей, протестовавших против позитивистского и эмпирического направления предыдущего поколения. Русская интеллигенция и на этот раз следовала за Западом. В первой стадии протест начался с противопоставления позитивизму идеализма, под которым разумелась не только идеалистическая философия, но и восстановление в правах этических и эстетических норм, сдвинутых со своего законного места, как казалось реставраторам, поколениями их отцов. Кирсанов брал тут свой реванш над Базаровым. Пути для выражения своих взглядов молодые проповедники нашли во вновь образовавшихся философско-психологических обществах, на университетских кафедрах и в печати. Своего рода манифестом нового направления явился характерный по составу авторов и содержанию статей сборник, выпущенный Московским психологическим обществом в 1902 г. под заглавием «Проблемы идеализма». Вдохновленные расчищенной почвой Соловьева, авторы переходят здесь от идеализма и философии к религии. Но переходный характер настроения виден еще во многих статьях. Одни из сочинителей только что пришли от марксизма, другие – от ницшеанства. Интересна защита идей Ницше в статье Бердяева, который протестует против доктрины «сурового долга» во имя «Бога Диониса» и «безумной жажды жизни», особенно в сравнении ее со статьей Франка, пытающегося «спасти» Ницше путем перелицовки его протеста против «любви к ближнему» «под христианскую мораль». Сверхчеловек легко превращается тут в Богочеловека; жестокость к погибающему ближнему во имя «любви к дальнему» объявляется «нравственно ценной»; имморализм Ницше отождествляется с идеей «абсолютной ценности человека, как образа и подобия Божия…»

Вл. С. Соловьев, С. Н. Трубецкой, Н. Я. Грот, Л. М. Лопатин. Москва. 1893 г.
Из круга лиц, объединившихся в «Проблемах идеализма», и вышли последователи Соловьева и продолжатели его дела. Первыми в их ряду следует назвать братьев князей Трубецких, Сергея и Евгения, личных друзей Соловьева. Их бытовая связь с традиционной религией крепче, чем у Соловьева. Этим в значительной степени объясняются видоизменения, произведенные ими в его учении с целью сблизить его с православной традицией. Впрочем, и они не создали законченной системы.
Философия Сергея Николаевича Трубецкого служит всецело религиозной задаче. Он подробнее развивает любимую мысль Соловьева, что единственным способом признания реального, независимого от нашего сознания существования мира является допущение объединяющего его духовного начала; иначе и эмпиризм, и отвлеченный идеализм неизбежно придут к иллюзионизму, т. е. к признанию, что находящееся за пределами моего индивидуального сознания есть иллюзия. В первой своей работе «О природе человеческого сознания», под сильным влиянием взглядов А. С. Хомякова, С. Н. Трубецкой вводит мысль, что сознание человеческое возможно только как соборное, коллективное – и именно как сознание Церкви. Во второй работе – «Основания идеализма» – он принимает меры, чтобы мыслимый им духовный субстрат мира, его «душа», не был смешан с Божеством и не превратил бы его систему в пантеистическую – к чему у него была сильная склонность. Трубецкой отвергает Соловьевскую идею развития божественного начала вместе с природой от бессознательной воли к сознательной (по Шопенгауэру) и не удерживается на позиции Бога – личного творца мира, внешнего ему. Свою систему он называет «конкретным идеализмом». В противоположность абстрактному идеализму она должна объяснить реальность мира и устранить при этом одинаково и дуализм, и пантеизм. Мистицизм С. Н. Трубецкой отрицает, считая его таким способом проникновения в сущность абсолютного, который устраняет признание реальности мира и не дает возможности понять природу и мироздание. Понятию веры философ придает самый широкий смысл: только посредством веры мы можем признать реальность всего, что вне нашего сознания – существование внешнего мира и другого, чем мы, субъекта, носителя независимого от нас и тем не менее существующего сознания и воли. «Реальность – не категория разума, а нечто такое, что эмпирически испытывается, как данное, нечто вполне иррациональное». Между такой «верой» и верой религиозной различие стиралось. Религия находила себе место в нормальной человеческой психологии и являлась высшим видом знания, совмещающим и эмпирический, и рациональный, и мистический источники. Конечно, откровенная христианская религия при таком понимании входила в ряд других человеческих, «естественных», религий, в чем сторонники официального богословия обвиняли С. Н. Трубецкого. Его защитники ссылались на прецеденты у христианских мыслителей, «от Юстина-мученика до профессора С. С. Глаголева». Профессор Глубоковский замечает по этому поводу, что «в русских духовных академиях ничего подобного не допускается… Христианство строго и неизменно выделяется как факт исключительный и именно божественный». Однако и противники церковного христианства не были довольны С. Н. Трубецким. Он сам заявлял, что «чистосердечно думал послужить церковно-общественным интересам» своей первой работой. Сторонники С. Н. Трубецкого доказывали, что его представление об «абсолютном субъекте» наделяет этот абсолют всеми чертами катехизического определения Бога.
Еще больше хотел приблизить философию В. С. Соловьева к учению положительной религии его ученик и друг Евгений Николаевич Трубецкой в двухтомной работе «Миросозерцание В. С. Соловьева» (1913). Космогония Соловьева представляется ему слишком близкой к Шеллингу и все еще пантеистической. Бог и мир у Соловьева, по его мнению, слишком перемешаны и взаимонезависимы. Поэтому он не мог выработать учения о свободе. Точно так же и «София» – выражение Божественной Премудрости, слишком близко поставлена к миру, составляя как бы его сущность. При такой тесной связи божественного начала с миром нельзя объяснить происхождение зла. Поэтому E. Н. Трубецкой учит, что для земного человечества «София» есть только идеал, который свободная личность может либо принять, либо отвергнуть. Бог и мир свободны друг от друга; иначе нельзя бы было понять отношения любви со стороны Бога и вражды со стороны человека. Поставив, таким образом, в центр учения добровольное принятие божественного начала богочеловеческой личностью, Трубецкой ищет дальнейшего сближения с положительной верой в принятии таинства евхаристии как способа слияния с Божеством и в защите поклонения иконам.
Приближение революционных событий отвлекло внимание широких кругов интеллигенции от религиозных вопросов, ее религиозно-философские настроения раздвоились и пошли по разным руслам. Наиболее проникшаяся богословскими идеями небольшая группа мыслителей, преимущественно в Москве, оставшейся вдали от событий, продолжала дело сближения философии с положительной религией, начатое братьями Трубецкими. Очень часто религиозное настроение этой группы приобретало определенный политический, именно консервативный оттенок. Другое течение, напротив, стало ближе к политической борьбе и в то же время повело себя свободнее в области религиозно-философского новаторства. Оно нашло особенно яркое выражение в Петербурге, где по инициативе Мережковских было организовано в 1902 г. «Религиозно-философское общество», привлекавшее в течение двух следующих лет большое внимание интеллигенции.
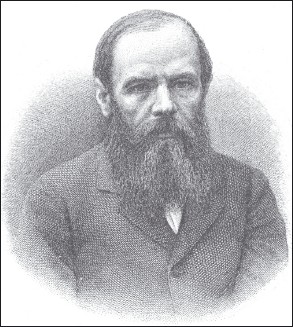
Ф. М. Достоевский
У обоих упомянутых течений были свои предшественники в XIX в. Такими оказались два великих русских писателя – Достоевский и Толстой. Оба были самоучками в богословии, и обоих поэтому нельзя ввести в цепь развития русской светской богословской мысли. Но они сделали чрезвычайно много для распространения в умах как интеллигенции, так и более широких кругов религиозных настроений. Влияние Достоевского, проявившего склонность вернуться к традиционной церковности, обнаружилось, главным образом, уже после его смерти. Напротив, влияние Толстого, отошедшего далеко от православия и навлекшего на себя – в известном смысле вполне правильно – отлучение Синода, было прижизненным. Оно шло далеко за пределы так называемого «толстовства», – с одной стороны, в ряды русского сектантства, с другой, – в международные круги, увлеченные демократизмом и рационализмом его морали. В дальнейшем это воздействие должно было ослабеть, ибо учение Толстого было, прежде всего, слишком индивидуально, а затем, по своим предпосылкам, по своему отрицанию божественности Христа и бессмертия души, не говоря уже об отрицании таинств и церковности, выходило уже слишком далеко за пределы того, что было доступно для «богоискательства», остающегося на почве откровенной религии. Для религиозного сознания оно сохраняло слишком мало, а для философии – слишком много от религии.
Возвращаясь теперь к охранительному течению русского богословия XX в., мы прежде всего заметим, что, сливаясь с ортодоксальным учением Церкви, оно в то же время перестает быть светским. Два главных писателя этого направления, П. Флоренский и С. Булгаков (известный нам борьбою за «идеализм»), стали священниками. П. Флоренскому принадлежит обширная работа, построенная на пристальном изучении не только святоотеческих писаний, но и философской литературы, по всем вопросам, чем-нибудь связанным с его «православной теодицеей». Книга о. Флоренского «С толп и утверждение истины» (1914) имела чрезвычайно большое влияние на последующих представителей того же течения богословской мысли. О «мысли» в собственном смысле, впрочем, здесь трудно говорить, ибо Истина, составляющая предмет книги, переносится автором из области познаваемого всецело в область мистического. «Рассудок не принимает» необходимых для усвоения Истины построений. Самое большое, на что рассудок способен, – это дойти до своего «идеального предела» и принять, «как регулятивный принцип», возможность «потустороннего, запредельного, трансцендентального образования». Свое исходное отношение к этому непостигаемому и непостижимому Флоренский определяет известной формулой Тертуллиана и Паскаля: credo, quia absurdum – верю, потому что нелепо, «верю, вопреки стонам рассудка, хочу быть безрассудным». Утвердившись на достигнутой ступени веры и признав, что «вера есть источник высшего разумения», богоискатель переходит затем к формуле Ансельма Кентерберийского: credo, ut intelligam – верю, чтобы понять. И только перескочив через новые девять веков, от Ансельма до нашего времени, верующий удостоверяется, что он «не только верит, но и знает». И он, «радостный, взывает»: «intelligo, ut credam – понимаю, чтобы верить».
Что же именно, непостижимое, составляет предмет веры и является Истиной с большой буквы? Флоренский ставит в центр православного разумения и «дискурсивной интуиции» догмат Святой Троицы. Рациональный подход к нему возможен путем, уже указанным Соловьевым: преодоление скептического и иллюзионистского мировоззрения требует признания абсолютного начала. Начало это вопреки закону тождества раскрывается в троичном понятии: «Я», которое выходит в «не-Я» – в «другое», и созерцает себя при помощи «третьего». «Такое сочетание терминов для рассудка не имеет и не может иметь смысла, ничего не обозначает». Но тут и является на помощь вера. Выхождение «Я» из себя в «не-Я» с этой точки зрения уже не есть предельное логическое рассуждение разума, а начальный акт «любви». Конечно, здесь разумеется не «эмпирическое» понятие любви, не психофизиология любви, не «альтруистические эмоции и стремление к благу человечества, а нечто мистическое». «Истинная любовь есть выход из эмпирического и переход в новую действительность». Это есть «вхождение в божественную жизнь, которое в самом богообщающемся субъекте сознается им, как ведение Истины». Такое состояние может быть достигнуто, однако, лишь «при истечении, влиянии в другого силы Божией, расторгающей узы человеческой конечной самости». Эти «невыразимые, несказанные, неописуемые переживания… не могут облечься в слово иначе, как в виде противоречия», антиномии, которые в природе и в духе человеческом не только непонятны, но и не должны быть понимаемы в порядке логическом. «Как идеальную, предельную границу, где снимается противоречие, мы ставим догмат». А рассудок, который хочет понять антиномию, исключив из нее противоречие, совершает односторонний «выбор» или, по-гречески, «ересь» (hairesis). Такой «выбор», например, сделало арианство, попытавшись понять непонятное разумом «единосущие» ипостасей Святой Троицы и подставив вместо него понятное, но «еретическое» «подобосущие» (вместо homousia – homoiusia).

Н. Шпревич. Портрет митрополита Филарета
Естественно, что такое положение дела не могло удовлетворить верующую часть интеллигенции, свободную от казенных рамок. И наряду со школьным богословием у нас возникает с середины XIX в. богословие светское, гораздо более характерное для истории русской религиозной мысли. Вопреки общему настроению русской интеллигенции, отрицательно относившейся к положительной религии, светские богословы пытались удержаться не только в пределах откровенной веры, но в пределах именно православия. Тем не менее они внесли в свое, как стали говорить о них, «богоискательство» свежую струю, которая плохо уживалась с традиционной верой и с которой традиционная вера, в свою очередь, не хотела и не могла считаться. В брошюре профессора Глубоковского «Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии» приведен список 82 русских богословов-академиков и 378 упоминаемых им авторов. Но ни в каком из этих списков нет имен светских богословов, о которых мы будем говорить дальше.
Характерным образом толчок к созданию русского светского богословия приходит из-за границы. История интеллигентного богоискательства совпадает с историей двух периодов воздействия заграничного романтизма на разные поколения русской интеллигенции. Первый период этого воздействия, источник которого можно видеть в протесте против рационализма XVIII в., создал оригинальное учение славянофильства. Православная религия была здесь неразрывно связана с поисками основных свойств русской души. Романтики этого поколения создали свои взгляды под влиянием немецких университетских лекций Фридриха Шеллинга и Франца Баадера в 1830-х гг. и развили свое учение в 1850-х, в борьбе с гегелианством. Второе поколение новоромантиков воспиталось под влиянием идей fin de siecle[1] (в России эта эпоха названа «Серебряный век»), особенно Ницше, в 1890-х гг. Его возврат к религии был протестом против натурализма и эмпиризма предыдущих лет. Деятельность младших современников этого поколения XIX в. особенно развилась под впечатлениями революционных неудач 1905 и 1917 гг.
Конечно, выбор иностранных источников для заимствования – здесь, как и в других случаях, – не случаен. Он соответствует своеобразным чертам русского религиозного творчества, которые отдаляют светское богословие от официального и приближают его к русскому сектантству. Наиболее яркой из них является стремление светского богословия к мистицизму. Черта эта не нова в русской культурной истории. Мы видели, что струя мистицизма была внесена в русскую религиозную жизнь еще в конце XV и XVI в. с Афона. У славянофилов с этим течением, конечно, нет преемственной связи. Но авторитеты там и здесь одни и те же, – и даже одни и те же термины. Эта традиция восходит к Григорию Синаиту и Григорию Паламе. Мистицизм восточных отцов Церкви славянофилы обыкновенно противопоставляли рационализму западных отцов – и из этого противопоставления создали даже основную черту всего своего учения о различии между Западом и Востоком.
Отцом русского светского богословия справедливо считается славянофил А. С. Хомяков. Исходной точкой его учения служит утверждение восточных патриархов в их ответе папе Пию IX в 1848 г. по вопросу о папской непогрешимости. «Непогрешимость почиет единственно во вселенскости Церкви, объединенной взаимной любовью. И неизменяемость догмата, равно как и чистота обряда, вверены охране не одной только иерархии, но и всего народа церковного, который есть Тело Христово». Запад, вместо любви, лежащей в основе соборности, проявил гордыню индивидуального разума. Этим путем католичество породило протестантизм, а протестантизм современную анархию религиозной мысли. Напротив, Восточная Церковь осуществила начало соборности в любви. Только соборное тело Церкви, живой организм ее, сохраняет корни религиозной жизни и обладает целостной истиной, не ограниченной рационалистической абстрактностью западной философии. Вне Церкви нет ни истины, ни спасения; там неведение и грех. Зато в Церкви – Дух Божий, недоступный одному разуму, а только полноте человеческого духа. Таинства, Библия – суть только внешняя, видимая оболочка; по существу, «всякое писание, которое Церковь по наущению Духа Божьего признает своим, есть Священное Писание», – и споры протестантов об авторстве апостолов в Евангелии и посланиях нисколько не меняют отношения Церкви к ним. Если сегодня отвергнут послания ап. Павла, то Церковь завтра может сказать: «Они от меня», – и послания сохранят весь свой авторитет. Даже Вселенский собор не стоит выше соборного церковного сознания; «церковный народ» может отвергнуть его авторитет. Форма этого сознания, очевидно, не может быть выражена ни юридически, ни рационалистически. «Целостность духа» есть понятие мистическое. Так как это начало вселенское, то ему предстоит распространиться на весь мир. И в этом заключается мировая миссия России. Национальная религия, как мы видим, возвращает здесь себе космополитический характер.
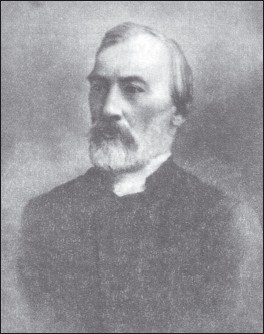
Русский писатель и публицист К. Н. Леонтьев
Против «хомяковского православия» решительно восстал хранитель старых начал византизма русский публицист К. Н. Леонтьев. Он обнаружил в нем «протестантский» дух и противопоставлял ему строгое подчинение церковной традиции. «Слявяно-англиканское новоправославие, – говорил он, – есть нечто более опасное, чем всякое скопчество и всякая хлыстовщина… Что было бы в том англославянском мещанстве, кроме греха и духовного бунта… Для кого нужно, чтобы какая-нибудь мадам Благовещенская сидела около супруга своего на ступенях епископского трона?» Отрицал он и морально-гуманитарную сторону «розового христианства» Достоевского и Толстого.
Не любовь, а страх Божий – такова основа религии по Леонтьеву. Сам он испытывал этот страх перед вечным осуждением. От него он ушел в монашество. И спасение свое личное вверял Церкви в обычном, а не хомяковском понимании этого слова. Вместо «свободы» в духе он проповедовал безусловное подчинение иерархии. Против иллюзии конечного торжества любви и братства в мире он ссылался на апокалиптическое оскудение любви как раз тогда, когда «будет проповедано Евангелие во всех концах земли». В русском народе он не находил никаких залогов миссионерского призвания и хотел византийское церковное начало уберечь в неприкосновенном виде от «церковного народа».
Национальность при этом он не только не признавал проникнутой живым религиозным духом, но для него она представляла из себя пустое место, подлежащее хранению в нетронутом виде. Его взгляды совпадали со стремлениями официальной Церкви эпохи К. П. Победоносцева. Естественно, что с такими позициями Леонтьев явился глашатаем самой последовательной реакции.
Мысль о «вселенском» значении православия, вместе с верой в будущность русского народа, суждено было возродить деятелю промежуточного поколения, Владимиру Сергеевичу Соловьеву – в прямой оппозиции националистическим эпигонам славянофильства, Н. Я. Данилевскому и К. Н. Леонтьеву. Этот яркий мыслитель уже успел пройти в юные годы полосу влияния естественных наук, Конта и Спенсера. К религии он вернулся от неверия, – и это давало ему больше свободы, чем первым славянофилам, в трактовке религиозных вопросов. Прежде чем приняться за отцов Церкви и средневековых мистиков, он прошел школу кантовского критицизма. Шопенгауэр и Гартман также имели на него, по его собственному признанию, большое влияние. Своей задачей В. Соловьев поставил высший синтез науки, философии и религии. Первенствовала, однако, в этом синтезе, конечно, религия. Он прямо заявлял, что его цель – «восстановить веру отцов». Однако, живя и действуя в период, когда, религиозные искания не были в моде, он должен был расчищать путь для своей религиозной концепции критикой противоположных научных и философских мировоззрений. Сначала он дал разбор научного мировоззрения, поскольку оно выразилось в позитивизме и эмпиризме. Затем он признал односторонность философского мировоззрения, поскольку оно, по его убеждению, заимствованному у славянофилов, было исчерпано «отвлеченными началами» Гегеля и его преемников, в противоположность жизненности и целостности начала христианского. И наука, и философия, по В. С. Соловьеву, неизбежно привели бы к скепсису и полнейшему иллюзионизму; чтобы признать реальность внешнего мира, необходимо признать лежащее в его основе всеединое и абсолютное начало.

Вл. С. Соловьев. Рисунок И. Репина. 1889 г.
Только в конце своей деятельности Соловьев едва успел перейти от критики к «оправданию» положительных начал христианской доктрины, «оправданию» троичного начала добра, красоты и истины. Эту работу он не успел довести до конца, и его собственное построение осталось незаконченным. Однако в этом учении, уже гораздо яснее, чем у Хомякова, проявились специфические черты, отличающие русское светское богословие: 1) стремление к «Соборности», расширяющееся в понятие вселенской миссии, а специально у Соловьева выразившееся в переходе к католицизму; 2) стремление объяснить все непонятное в вере «конкретно», но единственно доступным путем «внутреннего опыта», то есть мистически (при этом в особенности широко начинают применяться объяснения посредством сравнений и образов – своего рода мистический имажинизм; в желании все свести к любимой тройственной схеме Соловьев доходит в своей диалектике до крайностей словесной схоластики); 3) потребность – уже намечавшаяся у Хомякова и даже у академических богословов – слить небесное, отвлеченное, с жизненным, земным. У Соловьева эта черта сводится к исканию посредничества между Богом и миром – среднего пути между дуализмом и пантеизмом, трансцендентностью и имманентностью – и, в результате, к особенному развитию учения о «Софии» и Богочеловечестве. В соответствии с взглядами восточных отцов Церкви, Соловьев кладет в основу своего учения об искуплении человечества не юридическую или «коммерческую» теорию Ансельма Кентерберийского и незаместительное искупление старых протестантских богословов, а догмат воплощения. Воплощение для Соловьева не есть одиночный факт явления Богочеловека Иисуса, а постоянный процесс и общий метод спасения человечества и вместе с ним одухотворения всего мира, Человек ведь есть высшая точка развития духа в природе – пункт, в котором Божество приходит к сознанию самого себя в природе. Поднимаясь к Богочеловечеству, люди вместе с собой поднимают и природу, которая в конце концов обратится в светлую телесность царства очищенных духов… Но процесс этот длителен, ибо душа, отделившись от Бога и тем проявив свою свободную волю, повергла мир в состояние распада. Очищение и возрождение мира должно быть также проявлением свободной воли человека, прошедшего уже через предварительные ступени объединения механического (тяготение), динамического (эфир) и органического (царство растительное и животное). В человеке чувственная душа мира становится разумной и обнимает в идеальном единстве все существующее. Через человека земля возвышена до небес; через него же и небо должно сойти на землю. Этой цели человечество достигнет, только сохранив свободу.
Так как превращение в «богочеловеческую» личность есть дело свободной воли каждого, то не все люди становятся богочеловеками, а только способные к внутренней мистической интуиции (См.: Соловьев В. С. Оправдание добра. 2-е изд., М., 1899). Но личными усилиями отдельные люди не могут достигнуть откровения царства Божия. Оно достигается совершенной общественной организацией, которая и есть Церковь – именно в западной, католической форме. Однако для полноты мировой гармонии христианства необходимо к католической дисциплине и к ее высшему центральному авторитету присоединить чистоту догмы, сохраненной в неприкосновенности восточными церквами. При таком добровольном соединении католицизм перестанет отрицать свободу индивидуальной совести, а протестантизм – авторитет. Церковь будет состоять из богочеловеческих личностей, «переставших быть только людьми, как люди перестали быть только животными» (ср. «сыны божьи» русского сектантства). Церковь постепенно расширится до пределов человечества и обновит мир. Надо прибавить, что в конце жизни философ, видимо, разочаровался в близости царства Божия на земле и подался в сторону эсхатологического пессимизма Леонтьева.
В. С. Соловьев жил и умер одиноким в своих убеждениях. Но в последние годы его жизни уже выступила на сцену плеяда неоромантических писателей, протестовавших против позитивистского и эмпирического направления предыдущего поколения. Русская интеллигенция и на этот раз следовала за Западом. В первой стадии протест начался с противопоставления позитивизму идеализма, под которым разумелась не только идеалистическая философия, но и восстановление в правах этических и эстетических норм, сдвинутых со своего законного места, как казалось реставраторам, поколениями их отцов. Кирсанов брал тут свой реванш над Базаровым. Пути для выражения своих взглядов молодые проповедники нашли во вновь образовавшихся философско-психологических обществах, на университетских кафедрах и в печати. Своего рода манифестом нового направления явился характерный по составу авторов и содержанию статей сборник, выпущенный Московским психологическим обществом в 1902 г. под заглавием «Проблемы идеализма». Вдохновленные расчищенной почвой Соловьева, авторы переходят здесь от идеализма и философии к религии. Но переходный характер настроения виден еще во многих статьях. Одни из сочинителей только что пришли от марксизма, другие – от ницшеанства. Интересна защита идей Ницше в статье Бердяева, который протестует против доктрины «сурового долга» во имя «Бога Диониса» и «безумной жажды жизни», особенно в сравнении ее со статьей Франка, пытающегося «спасти» Ницше путем перелицовки его протеста против «любви к ближнему» «под христианскую мораль». Сверхчеловек легко превращается тут в Богочеловека; жестокость к погибающему ближнему во имя «любви к дальнему» объявляется «нравственно ценной»; имморализм Ницше отождествляется с идеей «абсолютной ценности человека, как образа и подобия Божия…»

Вл. С. Соловьев, С. Н. Трубецкой, Н. Я. Грот, Л. М. Лопатин. Москва. 1893 г.
Из круга лиц, объединившихся в «Проблемах идеализма», и вышли последователи Соловьева и продолжатели его дела. Первыми в их ряду следует назвать братьев князей Трубецких, Сергея и Евгения, личных друзей Соловьева. Их бытовая связь с традиционной религией крепче, чем у Соловьева. Этим в значительной степени объясняются видоизменения, произведенные ими в его учении с целью сблизить его с православной традицией. Впрочем, и они не создали законченной системы.
Философия Сергея Николаевича Трубецкого служит всецело религиозной задаче. Он подробнее развивает любимую мысль Соловьева, что единственным способом признания реального, независимого от нашего сознания существования мира является допущение объединяющего его духовного начала; иначе и эмпиризм, и отвлеченный идеализм неизбежно придут к иллюзионизму, т. е. к признанию, что находящееся за пределами моего индивидуального сознания есть иллюзия. В первой своей работе «О природе человеческого сознания», под сильным влиянием взглядов А. С. Хомякова, С. Н. Трубецкой вводит мысль, что сознание человеческое возможно только как соборное, коллективное – и именно как сознание Церкви. Во второй работе – «Основания идеализма» – он принимает меры, чтобы мыслимый им духовный субстрат мира, его «душа», не был смешан с Божеством и не превратил бы его систему в пантеистическую – к чему у него была сильная склонность. Трубецкой отвергает Соловьевскую идею развития божественного начала вместе с природой от бессознательной воли к сознательной (по Шопенгауэру) и не удерживается на позиции Бога – личного творца мира, внешнего ему. Свою систему он называет «конкретным идеализмом». В противоположность абстрактному идеализму она должна объяснить реальность мира и устранить при этом одинаково и дуализм, и пантеизм. Мистицизм С. Н. Трубецкой отрицает, считая его таким способом проникновения в сущность абсолютного, который устраняет признание реальности мира и не дает возможности понять природу и мироздание. Понятию веры философ придает самый широкий смысл: только посредством веры мы можем признать реальность всего, что вне нашего сознания – существование внешнего мира и другого, чем мы, субъекта, носителя независимого от нас и тем не менее существующего сознания и воли. «Реальность – не категория разума, а нечто такое, что эмпирически испытывается, как данное, нечто вполне иррациональное». Между такой «верой» и верой религиозной различие стиралось. Религия находила себе место в нормальной человеческой психологии и являлась высшим видом знания, совмещающим и эмпирический, и рациональный, и мистический источники. Конечно, откровенная христианская религия при таком понимании входила в ряд других человеческих, «естественных», религий, в чем сторонники официального богословия обвиняли С. Н. Трубецкого. Его защитники ссылались на прецеденты у христианских мыслителей, «от Юстина-мученика до профессора С. С. Глаголева». Профессор Глубоковский замечает по этому поводу, что «в русских духовных академиях ничего подобного не допускается… Христианство строго и неизменно выделяется как факт исключительный и именно божественный». Однако и противники церковного христианства не были довольны С. Н. Трубецким. Он сам заявлял, что «чистосердечно думал послужить церковно-общественным интересам» своей первой работой. Сторонники С. Н. Трубецкого доказывали, что его представление об «абсолютном субъекте» наделяет этот абсолют всеми чертами катехизического определения Бога.
Еще больше хотел приблизить философию В. С. Соловьева к учению положительной религии его ученик и друг Евгений Николаевич Трубецкой в двухтомной работе «Миросозерцание В. С. Соловьева» (1913). Космогония Соловьева представляется ему слишком близкой к Шеллингу и все еще пантеистической. Бог и мир у Соловьева, по его мнению, слишком перемешаны и взаимонезависимы. Поэтому он не мог выработать учения о свободе. Точно так же и «София» – выражение Божественной Премудрости, слишком близко поставлена к миру, составляя как бы его сущность. При такой тесной связи божественного начала с миром нельзя объяснить происхождение зла. Поэтому E. Н. Трубецкой учит, что для земного человечества «София» есть только идеал, который свободная личность может либо принять, либо отвергнуть. Бог и мир свободны друг от друга; иначе нельзя бы было понять отношения любви со стороны Бога и вражды со стороны человека. Поставив, таким образом, в центр учения добровольное принятие божественного начала богочеловеческой личностью, Трубецкой ищет дальнейшего сближения с положительной верой в принятии таинства евхаристии как способа слияния с Божеством и в защите поклонения иконам.
Приближение революционных событий отвлекло внимание широких кругов интеллигенции от религиозных вопросов, ее религиозно-философские настроения раздвоились и пошли по разным руслам. Наиболее проникшаяся богословскими идеями небольшая группа мыслителей, преимущественно в Москве, оставшейся вдали от событий, продолжала дело сближения философии с положительной религией, начатое братьями Трубецкими. Очень часто религиозное настроение этой группы приобретало определенный политический, именно консервативный оттенок. Другое течение, напротив, стало ближе к политической борьбе и в то же время повело себя свободнее в области религиозно-философского новаторства. Оно нашло особенно яркое выражение в Петербурге, где по инициативе Мережковских было организовано в 1902 г. «Религиозно-философское общество», привлекавшее в течение двух следующих лет большое внимание интеллигенции.
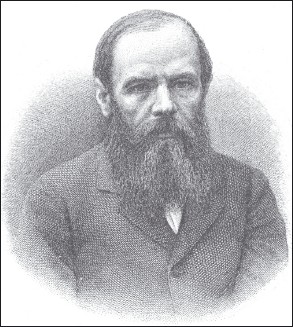
Ф. М. Достоевский
У обоих упомянутых течений были свои предшественники в XIX в. Такими оказались два великих русских писателя – Достоевский и Толстой. Оба были самоучками в богословии, и обоих поэтому нельзя ввести в цепь развития русской светской богословской мысли. Но они сделали чрезвычайно много для распространения в умах как интеллигенции, так и более широких кругов религиозных настроений. Влияние Достоевского, проявившего склонность вернуться к традиционной церковности, обнаружилось, главным образом, уже после его смерти. Напротив, влияние Толстого, отошедшего далеко от православия и навлекшего на себя – в известном смысле вполне правильно – отлучение Синода, было прижизненным. Оно шло далеко за пределы так называемого «толстовства», – с одной стороны, в ряды русского сектантства, с другой, – в международные круги, увлеченные демократизмом и рационализмом его морали. В дальнейшем это воздействие должно было ослабеть, ибо учение Толстого было, прежде всего, слишком индивидуально, а затем, по своим предпосылкам, по своему отрицанию божественности Христа и бессмертия души, не говоря уже об отрицании таинств и церковности, выходило уже слишком далеко за пределы того, что было доступно для «богоискательства», остающегося на почве откровенной религии. Для религиозного сознания оно сохраняло слишком мало, а для философии – слишком много от религии.
Возвращаясь теперь к охранительному течению русского богословия XX в., мы прежде всего заметим, что, сливаясь с ортодоксальным учением Церкви, оно в то же время перестает быть светским. Два главных писателя этого направления, П. Флоренский и С. Булгаков (известный нам борьбою за «идеализм»), стали священниками. П. Флоренскому принадлежит обширная работа, построенная на пристальном изучении не только святоотеческих писаний, но и философской литературы, по всем вопросам, чем-нибудь связанным с его «православной теодицеей». Книга о. Флоренского «С толп и утверждение истины» (1914) имела чрезвычайно большое влияние на последующих представителей того же течения богословской мысли. О «мысли» в собственном смысле, впрочем, здесь трудно говорить, ибо Истина, составляющая предмет книги, переносится автором из области познаваемого всецело в область мистического. «Рассудок не принимает» необходимых для усвоения Истины построений. Самое большое, на что рассудок способен, – это дойти до своего «идеального предела» и принять, «как регулятивный принцип», возможность «потустороннего, запредельного, трансцендентального образования». Свое исходное отношение к этому непостигаемому и непостижимому Флоренский определяет известной формулой Тертуллиана и Паскаля: credo, quia absurdum – верю, потому что нелепо, «верю, вопреки стонам рассудка, хочу быть безрассудным». Утвердившись на достигнутой ступени веры и признав, что «вера есть источник высшего разумения», богоискатель переходит затем к формуле Ансельма Кентерберийского: credo, ut intelligam – верю, чтобы понять. И только перескочив через новые девять веков, от Ансельма до нашего времени, верующий удостоверяется, что он «не только верит, но и знает». И он, «радостный, взывает»: «intelligo, ut credam – понимаю, чтобы верить».
Что же именно, непостижимое, составляет предмет веры и является Истиной с большой буквы? Флоренский ставит в центр православного разумения и «дискурсивной интуиции» догмат Святой Троицы. Рациональный подход к нему возможен путем, уже указанным Соловьевым: преодоление скептического и иллюзионистского мировоззрения требует признания абсолютного начала. Начало это вопреки закону тождества раскрывается в троичном понятии: «Я», которое выходит в «не-Я» – в «другое», и созерцает себя при помощи «третьего». «Такое сочетание терминов для рассудка не имеет и не может иметь смысла, ничего не обозначает». Но тут и является на помощь вера. Выхождение «Я» из себя в «не-Я» с этой точки зрения уже не есть предельное логическое рассуждение разума, а начальный акт «любви». Конечно, здесь разумеется не «эмпирическое» понятие любви, не психофизиология любви, не «альтруистические эмоции и стремление к благу человечества, а нечто мистическое». «Истинная любовь есть выход из эмпирического и переход в новую действительность». Это есть «вхождение в божественную жизнь, которое в самом богообщающемся субъекте сознается им, как ведение Истины». Такое состояние может быть достигнуто, однако, лишь «при истечении, влиянии в другого силы Божией, расторгающей узы человеческой конечной самости». Эти «невыразимые, несказанные, неописуемые переживания… не могут облечься в слово иначе, как в виде противоречия», антиномии, которые в природе и в духе человеческом не только непонятны, но и не должны быть понимаемы в порядке логическом. «Как идеальную, предельную границу, где снимается противоречие, мы ставим догмат». А рассудок, который хочет понять антиномию, исключив из нее противоречие, совершает односторонний «выбор» или, по-гречески, «ересь» (hairesis). Такой «выбор», например, сделало арианство, попытавшись понять непонятное разумом «единосущие» ипостасей Святой Троицы и подставив вместо него понятное, но «еретическое» «подобосущие» (вместо homousia – homoiusia).
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента
