Страница:
Последователи Феодосия и Андрея Денисова привели свое отношение к браку в большее соответствие с общим духом обоих направлений. Федосеевцы стали относиться к брачной жизни нетерпимо, а поморцы снисходительно. Но этим ни те, ни другие нисколько не разрешили вопроса. Принципиальное противоречие между теорией, считавшей законный брак невозможным, – и жизнью, делавшей существование семьи необходимым, оставалось в силе. Тут, может быть, впервые старообрядцы столкнулись с вопросом, относительно которого «пря не могла кончиться» простой справкой, что думали об этом отцы и деды. Приходилось самостоятельно решать вопрос с помощью собственных, оригинальных толкований богословской литературы. Эту задачу блестящим образом выполнил федосеевец Иван Алексеев, обнаруживший при этом такие знания, талант и широту мысли, которые не уступали Денисовским. Надо прибавить, что его обширное исследование «о тайне брака» появилось лишь в 1762 г., 34 года спустя после того, как он впервые задал этот вопрос лично Андрею Денисову. За все это время Алексеев не переставал собирать материалы и пропагандировать построенную на них теорию. Прежде всего, он установил тот факт, что древнехристианская Церковь не повторяла таинства брака над семейными людьми, переходившими к ней из других вер. Следовательно, заключил отсюда Алексеев, древняя Церковь признавала законными браки, заключенные во всякой вере. Да так и должно было быть, продолжал он, переходя от писания к собственным рассуждениям. Ведь в браке, в противоположность прочим таинствам, передача благодати вовсе не связана необходимо с совершением известного обряда. По словам Большого Катехизиса, «брак есть тайна, которую жених и невеста от чистой любви своей в сердце своем… согласие между собой и обет творят». «Действенник», производящий тайну, есть сам Бог, вложивший в природу живых существ потребность плодиться и размножаться. Эта завещанная Богом потребность, в связи с «любовным согласием» брачующихся, и составляет сущность таинства. Все остальное в нем есть простая формальность. Иерей есть только свидетель союза от лица общины. А «церковное действо» – простой «общенародный обычай», дающий браку «общенародное согласие», чтобы таким образом установить его гражданскую крепость и действительность. Брак не должен обходиться без «чина», но чин есть лишь формальность. Она появилась позднее, в «законе писанном», тогда как брак существовал «в естественном законе», независимо и раньше всякого чина. Вот почему беспоповщинская Церковь должна следовать примеру древнехристианской Церкви и признавать браки, венчанные в никонианской Церкви. Это венчание есть лишь публичное засвидетельствование брака, а самое таинство совершается Богом и «взаимным благохотением» жениха и невесты.
Подобного рода аргументация была совершенной новостью в расколе. Алексееву приходилось защищать самую возможность появления новых богословских теорий. Он приводил в свое оправдание теорию «богомолия», созданную Семеном Денисовым, и указывал на аналогичность положения. «У отцов наших, – говорил он, – пока нужды не явилось, о богомолий не было проповеди; когда же явилась нужда, явились и доводы. Так и в нашем случае: не было нужды в народе о браке, не было о том и речей; нужда явилась, – произведено было и исследование. Нечего этому и дивиться и отступать в сомнении перед тем доводом, что у отцов наших этого не было. Нужно знать, что отцы наши жили далеко от мира, проходя пустынное и скитское житие. Поэтому они и в браке не нуждались – не потому, что гнушались им, а потому, что не желали смущать место и пустыню превращать в мир. Мы же посреди мира живем и во всех соблазнах мирских пребываем… Стало быть, и жизнь их нам не в пример»28.

М. Фармаковский. Фанатики
Нельзя было лучше формулировать положение вопроса о браке, чем это сделано в приведенных словах. Теоретические рассуждения Алексеева, действительно, вызывались прежде всего изменившейся житейской обстановкой раскола. Они были новым и весьма существенным шагом вперед в примирении беспоповщинского учения с требованиями жизни. Естественно, что шаг этот должен был встретить протест со стороны тех старообрядцев, которые никакого примирения не хотели. Вопрос о браке сделался, таким образом, для беспоповцев тем же, чем был для поповщины вопрос о чиноприятии бегствующего священства. Около того и другого вопроса, как центрального пункта, сосредоточилась борьба умеренной партии с крайней в обоих направлениях старообрядчества. Разница была только в том, что умеренная партия поповщины волей-неволей сближалась с учением господствующей Церкви, а умеренное направление беспоповщины отдалялось от него, ибо, в сущности, оно принципиально отрицало самое основание положительной религии и – опять-таки невольно – выходило в открытое, безбрежное море свободного религиозного творчества. Вот почему победа умеренной партии в вопросе о «перемазывании» только возвращала раскол к исходной точке его сомнений – к признанию святости никонианской Церкви. Между тем победа умеренных взглядов на вопрос о браке совершенно сводила раскольников с точки зрения православной традиции, приводя их к идее «естественного закона» веры – в противоположность «писанному закону» христианского откровения. В обоих случаях борьба за центральные позиции была ожесточенной и упорной, велась на всем протяжении истории и не привела к единодушному решению вопроса, а только увеличила раздор.
Старые центры беспоповщины, впрочем, принимали уже мало участия в этой борьбе за брак. Полемика заонежской поморской общины с новгородской общиной федосеевцев так и застыла в том самом положении, в каком мы ее видели в начале XVIII в. К попыткам взаимного соглашения и дальнейшего развития вероучения обе общины относились или недоверчиво, или даже прямо враждебно. Чтобы проследить дальнейший ход борьбы между умеренным и крайним направлением беспоповщины, мы должны перенести наши наблюдения с северных и западных окраин в новые средоточия беспоповского мира, в Москву.
Федосеевцы и здесь остаются решительными противниками общения с миром, тогда как поморцы продолжают защищать свои старые примирительные тенденции. Но центр тяжести спора значительно перемещается под влиянием резко изменившихся условий жизни раскола. Спорят теперь уже не о том, что лучше – открыто ли идти на мучение или предупреждать его добровольным самоубийством; разрывать ли с миром путем смерти или путем бегства в пустыню. Все эти позиции давным-давно сданы требованиям жизни, которая приступает теперь к беспоповцу с новыми запросами. Соблазны мира теснят его в собственной семье: в виде богатой никонианской родни, в виде немецкого платья и светских книжек старообрядческой молодежи, в виде карточного стола или театрального спектакля. И даже в том счастливом случае, когда ему удается оградить себя от всех этого, перед ним продолжает стоять вопрос о законности самого существования его семьи, о допустимости правильных отношений к гражданскому обществу, с которым он связан имущественными интересами, и ко всему общественному строю, правилам которого он принужден подчиняться. Когда общество само гнало его от себя, решить эти вопросы было гораздо легче. Но теперь, со времени Екатерины II, общество признало его своим равноправным членом. Правительство решилось не «вмешиваться в различие, кого из жителей в числе правоверных или кого в числе заблуждающихся почитать». От всех вообще требовалось только одно – «чтобы каждый поступал по предписанным государственным узаконениям».

В. Щербаков. Монахи
Этой терпимостью правительства оба лагеря беспоповщины поспешили воспользоваться, чтобы создать себе прочное положение в обществе. Федосеевцы, благодаря ловкому московскому купцу Илье Алексеевичу Ковылину, устроили себе обширное общежитие у Преображенской заставы. Разрешенное сначала в виде карантина по случаю чумы 1771 г., «Преображенское кладбище» приобрело (при Александре I) права внутреннего самоуправления и полную независимость от Синода и приходского духовенства. Поморцы также создали себе центр в Москве, хотя и уступавший «Преображенскому кладбищу» по влиянию и богатству. На Покровке, в Лефортове, они купили себе землю на имя купца Монина и устроили на ней часовню и богадельный дом. Между «Преображенским кладбищем» и «Покровской монинской часовней» началась, вскоре после их оснований, ожесточенная борьба за отношение к миру. Такой именно смысл имела полемика обеих сторон о возможности законного брака.
Со стороны поморцев монинской часовни выступил в роли первого застрельщика настоятель ее, Василий Емельянов. Его учение о браке представляло дальнейшее развитие известного нам учения Ивана Алексеева. Алексеев признал брачное священнодействие простым «народным обычаем», а священника – простым свидетелем брака, необходимым для гражданской крепости, но вовсе не создающим религиозной святости венчания. Естественным выводом отсюда было, что никакого церковного венчания вообще не нужно. Последователи Алексеева немедленно сделали этот вывод: они стали обходиться при заключении брака без всякого «чина». Но сам Алексеев не решался ни отвергнуть «чин» вовсе, чтобы не уничтожить «честности и крепости» брака, ни признать его безусловно необходимым, чтобы не породить среди последователей мысли о законности священнодействий, свершаемых никонианами. Василий Емельянов нашел выход из затруднения, перед которым остановился Алексеев. Он решительно отвергнул церковное венчание, но в то же время признал необходимость известного чина. Только он сам сочинил этот чин и начал по нему венчать в своей «Покровской часовне». «Бессвященнословные» браки перестали носить языческий, «мордовский» характер, так сильно смущавший Алексеева. А так как одно время сами власти и суд признавали браки «Покровской часовни» действительными, то естественно, что охотников венчаться по емельяновскому «чину» находилось великое множество, – и не только среди поморцев, но и среди самих федосеевцев.
Споры о браке с очевидностью могли показать всем, кто способен был понять это, что дальнейшие пути внутреннего развития беспоповщины далеко расходятся в противоположные стороны. Людям, наиболее заинтересованным в развитии вероучения и в согласовании своей жизни с мыслью и мысли с жизнью, оставалось на выбор одно из двух: или вполне реставрировать старообрядческую старину, или окончательно разорвать всякую связь с церковным преданием и положиться вполне на голос собственного разума. Напрасно было бы, однако, ожидать, что тот или другой исход будет принят всей беспоповщинской массой. Масса, как всегда, далеко отставала от наиболее горячих и наиболее умных. Житейские обстоятельства, – именно правительственные преследования и связи с миром, – заставили большинство беспоповщинцев мало-помалу склониться к умеренному мнению о браке. Но это вовсе не значило, что масса готова будет принять и радикальные принципы их вероучения. Состояние религиозной мысли в массе оставалось таким, каким было в момент возникновения раскола.

Старообрядческая часовня на Преображенском кладбище
Таким образом, ко времени революции цикл развития беспоповщинского учения, как и поповщинского, завершился. Учение исчерпало само себя и пришло к результатам, отрицающим его основные принципы. Как и в поповщине, мы видели в истории беспоповщины борьбу двух главных течений – крайнего и умеренного. Но, в противоположность поповщинским, именно крайнее течение беспоповщины было наиболее близким к традиционному церковному. История беспоповщины состоит из ряда попыток удержать свою теорию на той почве, на которой оно создалось в начале раскола. Задача эта, однако, оказалась неосуществимой по понятной причине: чем дальше, тем труднее становилось воспроизвести те исторические обстоятельства и сохранить тот уровень религиозной мысли, благодаря которым создалось учение об антихристе. Другим путем, более соответствующим общему ходу исторического развития, пошло умеренное направление беспоповщины. Отчаявшись с самого начала втиснуть жизнь в рамки отжившей теории, оно предпочло подогнать ее к требованиям жизни и в результате мало-помалу принуждено было покинуть почву церковной традиции и обрядового формализма. «Церковь не стены церковные, но законы церковные: егда бегавши в церковь, не к месту бегай, но к свету: церковь не стены и кровли, но вера и житие» – эта цитата из сочинений святого Иоанна Златоуста, пущенная в оборот (по сборнику «Маргарит») еще «Поморскими ответами» Андрея Денисова, не раз повторялась богословами «Покровской часовни» во время споров о браке. В сознании массы выраженная в ней идея отчеканилась в форме известной пословицы: «Церковь не в бревнах, а в ребрах».
Однако раньше, чем умеренное течение беспоповщины успело сделать надлежащие выводы из этих компромиссных положений, к ним пришло крайнее течение – и особенно странничество. Именно принципиальное отрицание всего существующего строя, как церковного, так и гражданского, ближе подвело странников к практическим выводам: к отрицанию не одной никоновской, но практически любой Церкви; не только никоновских таинств, но и всяких; не только новопечатных книг, но и любых других – во имя «духа», царство которого началось в момент гибели веры и старых средств спасения, в начале «восьмой тысячи» христианского летосчисления. Отсюда переход к учению духовного христианства был, как мы видели, чрезвычайно близок: сплошь и рядом местные власти принимали учения немоляков и другие за секту молокан. Но при всех крайностях тут оставалась грань, за которой ревнители старой веры могли оказаться лишь с величайшим трудом. Этой гранью был переход от чистого отрицания к созданию положительных новых учений. И действительно, условное отрицание – только потому, что Никон и Петр испортили веру, «духовная молитва» про себя, без всякого культа, хотя бы и самочинного, наконец, неосуществимая позиция полного отрицания существующего строя и неплатежа податей – все это должно было привести учение беспоповщины к тупику. Выход из него был только в пересмотре самых оснований веры, совершенно независимо от исторических событий прошлого и от буквоедства, стоявшего на уровне развития XVI и XVII вв.
Судьбы господствующей Церкви

Чтобы как следует понять ее судьбу, не мешает предварительно вникнуть в кажущийся парадокс Н. И. Костомарова, утверждавшего, что и сама вера при своем возникновении была не старой, а новой. «Мы не согласимся с мнением, распространенным у нас издавна и сделавшимся, так сказать, ходячим: будто раскол есть старая Русь, – говорит историк. – Нет, раскол – явление новое, чуждое старой Руси. Раскольник не похож на старинного русского человека; гораздо более походит на последнего православный простолюдин. Раскольник гонялся за стариной, старался как бы тоже держаться старины – но он обольщался; раскол был явлением новой, а не древней жизни. В старинной Руси народ мало думал о религии, мало интересовался ею, – раскольник же только и думал о религии; на ней сосредоточивался весь интерес его духовной жизни. В старинной Руси обряд был мертвою формою и исполнялся плохо, – раскольник искал в нем смысла и старался исполнять его, сколько возможно, свято и точно. В старинной Руси знание грамоты было редкостью, – раскольник читал и пытался создать себе учение. В старинной Руси господствовало отсутствие мысли и невозмутимое подчинение авторитету властвующих, – раскольник любил мыслить, спорить; раскольник не успокаивал себя мыслью, что если приказано сверху так-то верить, так-то молиться, то, стало быть, так и следует; раскольник хотел сделать собственную совесть судьею приказания, раскольник пытался сам все проверить, исследовать». Словом, «какие бы признаки заблуждения ни представлялись в расколе», по мнению Костомарова, «он все-таки соединялся с побуждениями вырваться из мрака умственной неподвижности, со стремлением русского народа к самообразованию».
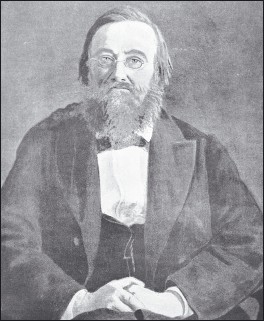
Историк Н. И. Костомаров
Если и можно спорить против выражений, в которые историк облек свою мысль, то самую мысль нельзя не признать совершенно справедливой. Сравнительно с небольшой группой просвещенных представителей Русской Церкви раскол мог быть явлением отсталым. Но он был большим шагом вперед для религиозного самосознания прежде совершенно индифферентной народной массы. Раскол отстаивал только внешнюю обрядовую сторону. Но ее он научил соблюдать, чего масса не делала прежде. Мало того, обряд соблюдался во имя живого религиозного чувства, к которому масса тоже не была приучена и которое выводило ее из векового религиозного безразличия. Таким образом, при всей ограниченности кругозора своих вождей, раскол впервые будил чувство и мысль еще более неразвитой массы. И самая эта ограниченность делала его наиболее доступной, на первых порах, формой народной веры. Эта форма была очень примитивна. Но еще примитивнее было то, что не попало под ее влияние.
Став на эту точку зрения, мы легко поймем ошибочность взгляда, не раз высказывавшегося в исторических сочинениях. Происхождение раскола объяснялось, с религиозной стороны, народным протестом против тех стеснений, которым подвергалась свободная духовная жизнь приходов в XVII в. со стороны правительственной власти. Едва ли, однако же, правительство могло иметь в это время поводы сдерживать религиозное усердие прихожан. Несомненен, конечно, тот факт, что прежний русский священник, выбранный общиной прихожан, мало-помалу уступал место священнику, назначенному епархиальной властью. Вместе с тем, «приход становился чем-то вроде духовно-правительственного участка». Но перемена эта, совершившаяся, действительно, в XVII и XVIII вв., объясняется вовсе не тем, что интерес прихожан к своим духовным делам был систематически подавляем. Объяснения надо искать в том, что интерес этот был слаб вообще – и стал еще слабее с тех пор, как наиболее заинтересованные ушли из господствующей Церкви в раскол. Религиозная индифферентность прихожан была, таким образом, не вынужденной, а совершенно естественной. Она не могла быть поэтому причиной раскола. Но усиление индифферентизма должно объясняться как одно из последствий отделения раскола от Церкви.
Даже в то время, когда выборы духовенства были еще явлением обычным, нельзя думать, что тем самым создавалась живая духовная связь между пастырем и прихожанами. Побуждения, определявшие выбор, были гораздо более прозаичны. От священника не требовалось ни знаний, ни дара учительства. В нем привыкли видеть лишь исполнителя треб. Прихожане заботились, главным образом, о том, «чтобы церкви Божией не быть без пения и душам христианским не помереть без причастия». Своим правом выбора они пользовались для того, чтобы «сговорить себе попа подешевле». Нанимая дьячка, мир ставил условием, чтобы он, сверх церковной службы, еще и «к письму у всякого государева и мирского дела был всегда готов». В лице дьячка хотели получить и писаря-грамотея. Что касается дьякона, он уже являлся несомненной роскошью. «Как и теперь, существенным достоинством дьякона был, – по словам профессора Знаменского, – громкий басовый голос, долженствовавший потрясать не слишком нежное чувство русского человека и имевший для него совершенно такое же значение, как большой церковный колокол». Об удовлетворении этой эстетической потребности прихожан заботился обыкновенно какой-нибудь тароватый староста церковный, нанимавший дьякона, как теперь нанимают певчих. Содержание дьячка, человека, практически полезного миру, предоставлялось частному соглашению. И только об обеспечении содержанием священника заботилась духовная и светская власть. Для этой цели выбор, засвидетельствованный «заручной челобитной» прихожан о назначении им священника, являлся лучшим средством. И правительство не только не имело желания искоренять этот обычай, но, напротив, старалось всячески поддержать его, когда он стал приходить в упадок. «Заручная» являлась в глазах власти ручательством прихожан за исправное отбывание своего рода повинности – содержание причта.

Святитель Дмитрий Ростовский. Мозаичное изображение
Безучастное отношение прихода к духовной стороне выбора, в связи с низким уровнем развития старинного духовенства, должно было превратить исполнение треб в своего рода ремесло. А условия социальной жизни московского государства сделали это ремесло наследственным. «Что тебя привело в чин священнический, – спрашивает св. Дмитрий Ростовский типичного священника своего времени (начало XVIII в.), – то ли, дабы спасти себя и других? Вовсе нет, – а чтобы прокормить жену, детей и домашних… Рассмотри себя всяк, освященный человече, о чем думал ты, приходя в чин духовный. Спасения ради ты шел, или ради покормки, чем бы питалось тело? Ты поискал Иисуса не для Иисуса, а для хлеба куса!» Очевидно, предложение было таково же, каков был спрос. Для прихожанина был «кто ни поп, тот батька», а для попа было все равно, чем бы ни заработать свой «кус хлеба».
Начало приходского выбора должно было само собою пасть при этих условиях. Из этого, однако, вовсе не следует, чтобы оно немедленно заменилось епархиальным назначением. Церковная власть не спешила взять в свои руки то, что выпустили прихожане. Обе стороны, далекие от предполагаемого соперничества в этом вопросе, предоставили дело его естественному течению. Естественным же порядком, освобождавшим и прихожан, и Церковь, и государство от лишних хлопот, была передача духовных мест по наследству.
Среди духовенства создались своего рода династии, владевшие известным приходом сто и двести лет без перерыва. В среде членов этих династий мы найдем и «родовую передвижку», и местнические счеты. «По смерти отца, служившего священником, поступал на его место старший сын, бывший при отце дьяконом, а на его место определялся в дьяконы следующий брат, служивший дьячком. Дьячковское место занимал третий брат, бывший прежде пономарем. Если недоставало на все места братьев, вакантное место замещалось сыном старшего брата или только зачислялось за ним, если он еще не дорос, и т. п., – констатирует проф., протоиерей, воспитанник Московской духовной академии И. П. Знаменский. – В приходах, где разные должности при церкви занимали члены разных семейств, принято было держаться другого порядка в наследственности мест, по которому требовалось, чтобы сын не превышал степенью отца. Сын священника признавался кандидатом на священническое место, а дети причетников на причетнические… таким образом, в одном и том же клире формировалось нечто вроде особых каст, из которых трудно было выйти талантливым людям на высшую степень».
Фактическое развитие наследственности духовных мест подготовило превращение духовенства в замкнутое сословие. Замкнутость эта не была установлена каким-либо указом; она явилась естественным последствием общего склада русской социальной жизни. Свобода доступа в ряды духовенства сама собой исчезла по мере закрепления всех сословий московского государства на службу.
Официально нельзя было отнести заботу о душах к службе. Но фактически она действительно стала государственной обязанностью одного из «чинов» московского государства. В ряду обязанностей, необходимых для государства, она заняла не первое место. По своему общественному положению замкнувшееся сословие очутилось в самом низу социальной лестницы. Это положение тяжело отозвалось на его дальнейшей судьбе. Государство не открывало выхода из духовенства в другие сословия и в то же время старалось сократить его численность до пределов строго необходимого. В результате получилось, с одной стороны, периодическое размножение духовенства, с другой – непрерывная очистка его от лишних членов. Все признанные ненужными лица духовного звания без послабления отдавались в солдаты и записывались в подушный оклад. Только при императоре Александре II перестала тяготеть над сословием эта вечная опасность «разборов», грозивших разрушением каждой духовной семье от Петра I до Николая I. Указ 1869 г. избавил, наконец, детей священно– и церковнослужителей от необходимости заниматься волей-неволей отцовским ремеслом.
Подобного рода аргументация была совершенной новостью в расколе. Алексееву приходилось защищать самую возможность появления новых богословских теорий. Он приводил в свое оправдание теорию «богомолия», созданную Семеном Денисовым, и указывал на аналогичность положения. «У отцов наших, – говорил он, – пока нужды не явилось, о богомолий не было проповеди; когда же явилась нужда, явились и доводы. Так и в нашем случае: не было нужды в народе о браке, не было о том и речей; нужда явилась, – произведено было и исследование. Нечего этому и дивиться и отступать в сомнении перед тем доводом, что у отцов наших этого не было. Нужно знать, что отцы наши жили далеко от мира, проходя пустынное и скитское житие. Поэтому они и в браке не нуждались – не потому, что гнушались им, а потому, что не желали смущать место и пустыню превращать в мир. Мы же посреди мира живем и во всех соблазнах мирских пребываем… Стало быть, и жизнь их нам не в пример»28.

М. Фармаковский. Фанатики
Нельзя было лучше формулировать положение вопроса о браке, чем это сделано в приведенных словах. Теоретические рассуждения Алексеева, действительно, вызывались прежде всего изменившейся житейской обстановкой раскола. Они были новым и весьма существенным шагом вперед в примирении беспоповщинского учения с требованиями жизни. Естественно, что шаг этот должен был встретить протест со стороны тех старообрядцев, которые никакого примирения не хотели. Вопрос о браке сделался, таким образом, для беспоповцев тем же, чем был для поповщины вопрос о чиноприятии бегствующего священства. Около того и другого вопроса, как центрального пункта, сосредоточилась борьба умеренной партии с крайней в обоих направлениях старообрядчества. Разница была только в том, что умеренная партия поповщины волей-неволей сближалась с учением господствующей Церкви, а умеренное направление беспоповщины отдалялось от него, ибо, в сущности, оно принципиально отрицало самое основание положительной религии и – опять-таки невольно – выходило в открытое, безбрежное море свободного религиозного творчества. Вот почему победа умеренной партии в вопросе о «перемазывании» только возвращала раскол к исходной точке его сомнений – к признанию святости никонианской Церкви. Между тем победа умеренных взглядов на вопрос о браке совершенно сводила раскольников с точки зрения православной традиции, приводя их к идее «естественного закона» веры – в противоположность «писанному закону» христианского откровения. В обоих случаях борьба за центральные позиции была ожесточенной и упорной, велась на всем протяжении истории и не привела к единодушному решению вопроса, а только увеличила раздор.
Старые центры беспоповщины, впрочем, принимали уже мало участия в этой борьбе за брак. Полемика заонежской поморской общины с новгородской общиной федосеевцев так и застыла в том самом положении, в каком мы ее видели в начале XVIII в. К попыткам взаимного соглашения и дальнейшего развития вероучения обе общины относились или недоверчиво, или даже прямо враждебно. Чтобы проследить дальнейший ход борьбы между умеренным и крайним направлением беспоповщины, мы должны перенести наши наблюдения с северных и западных окраин в новые средоточия беспоповского мира, в Москву.
Федосеевцы и здесь остаются решительными противниками общения с миром, тогда как поморцы продолжают защищать свои старые примирительные тенденции. Но центр тяжести спора значительно перемещается под влиянием резко изменившихся условий жизни раскола. Спорят теперь уже не о том, что лучше – открыто ли идти на мучение или предупреждать его добровольным самоубийством; разрывать ли с миром путем смерти или путем бегства в пустыню. Все эти позиции давным-давно сданы требованиям жизни, которая приступает теперь к беспоповцу с новыми запросами. Соблазны мира теснят его в собственной семье: в виде богатой никонианской родни, в виде немецкого платья и светских книжек старообрядческой молодежи, в виде карточного стола или театрального спектакля. И даже в том счастливом случае, когда ему удается оградить себя от всех этого, перед ним продолжает стоять вопрос о законности самого существования его семьи, о допустимости правильных отношений к гражданскому обществу, с которым он связан имущественными интересами, и ко всему общественному строю, правилам которого он принужден подчиняться. Когда общество само гнало его от себя, решить эти вопросы было гораздо легче. Но теперь, со времени Екатерины II, общество признало его своим равноправным членом. Правительство решилось не «вмешиваться в различие, кого из жителей в числе правоверных или кого в числе заблуждающихся почитать». От всех вообще требовалось только одно – «чтобы каждый поступал по предписанным государственным узаконениям».

В. Щербаков. Монахи
Этой терпимостью правительства оба лагеря беспоповщины поспешили воспользоваться, чтобы создать себе прочное положение в обществе. Федосеевцы, благодаря ловкому московскому купцу Илье Алексеевичу Ковылину, устроили себе обширное общежитие у Преображенской заставы. Разрешенное сначала в виде карантина по случаю чумы 1771 г., «Преображенское кладбище» приобрело (при Александре I) права внутреннего самоуправления и полную независимость от Синода и приходского духовенства. Поморцы также создали себе центр в Москве, хотя и уступавший «Преображенскому кладбищу» по влиянию и богатству. На Покровке, в Лефортове, они купили себе землю на имя купца Монина и устроили на ней часовню и богадельный дом. Между «Преображенским кладбищем» и «Покровской монинской часовней» началась, вскоре после их оснований, ожесточенная борьба за отношение к миру. Такой именно смысл имела полемика обеих сторон о возможности законного брака.
Со стороны поморцев монинской часовни выступил в роли первого застрельщика настоятель ее, Василий Емельянов. Его учение о браке представляло дальнейшее развитие известного нам учения Ивана Алексеева. Алексеев признал брачное священнодействие простым «народным обычаем», а священника – простым свидетелем брака, необходимым для гражданской крепости, но вовсе не создающим религиозной святости венчания. Естественным выводом отсюда было, что никакого церковного венчания вообще не нужно. Последователи Алексеева немедленно сделали этот вывод: они стали обходиться при заключении брака без всякого «чина». Но сам Алексеев не решался ни отвергнуть «чин» вовсе, чтобы не уничтожить «честности и крепости» брака, ни признать его безусловно необходимым, чтобы не породить среди последователей мысли о законности священнодействий, свершаемых никонианами. Василий Емельянов нашел выход из затруднения, перед которым остановился Алексеев. Он решительно отвергнул церковное венчание, но в то же время признал необходимость известного чина. Только он сам сочинил этот чин и начал по нему венчать в своей «Покровской часовне». «Бессвященнословные» браки перестали носить языческий, «мордовский» характер, так сильно смущавший Алексеева. А так как одно время сами власти и суд признавали браки «Покровской часовни» действительными, то естественно, что охотников венчаться по емельяновскому «чину» находилось великое множество, – и не только среди поморцев, но и среди самих федосеевцев.
Споры о браке с очевидностью могли показать всем, кто способен был понять это, что дальнейшие пути внутреннего развития беспоповщины далеко расходятся в противоположные стороны. Людям, наиболее заинтересованным в развитии вероучения и в согласовании своей жизни с мыслью и мысли с жизнью, оставалось на выбор одно из двух: или вполне реставрировать старообрядческую старину, или окончательно разорвать всякую связь с церковным преданием и положиться вполне на голос собственного разума. Напрасно было бы, однако, ожидать, что тот или другой исход будет принят всей беспоповщинской массой. Масса, как всегда, далеко отставала от наиболее горячих и наиболее умных. Житейские обстоятельства, – именно правительственные преследования и связи с миром, – заставили большинство беспоповщинцев мало-помалу склониться к умеренному мнению о браке. Но это вовсе не значило, что масса готова будет принять и радикальные принципы их вероучения. Состояние религиозной мысли в массе оставалось таким, каким было в момент возникновения раскола.

Старообрядческая часовня на Преображенском кладбище
Таким образом, ко времени революции цикл развития беспоповщинского учения, как и поповщинского, завершился. Учение исчерпало само себя и пришло к результатам, отрицающим его основные принципы. Как и в поповщине, мы видели в истории беспоповщины борьбу двух главных течений – крайнего и умеренного. Но, в противоположность поповщинским, именно крайнее течение беспоповщины было наиболее близким к традиционному церковному. История беспоповщины состоит из ряда попыток удержать свою теорию на той почве, на которой оно создалось в начале раскола. Задача эта, однако, оказалась неосуществимой по понятной причине: чем дальше, тем труднее становилось воспроизвести те исторические обстоятельства и сохранить тот уровень религиозной мысли, благодаря которым создалось учение об антихристе. Другим путем, более соответствующим общему ходу исторического развития, пошло умеренное направление беспоповщины. Отчаявшись с самого начала втиснуть жизнь в рамки отжившей теории, оно предпочло подогнать ее к требованиям жизни и в результате мало-помалу принуждено было покинуть почву церковной традиции и обрядового формализма. «Церковь не стены церковные, но законы церковные: егда бегавши в церковь, не к месту бегай, но к свету: церковь не стены и кровли, но вера и житие» – эта цитата из сочинений святого Иоанна Златоуста, пущенная в оборот (по сборнику «Маргарит») еще «Поморскими ответами» Андрея Денисова, не раз повторялась богословами «Покровской часовни» во время споров о браке. В сознании массы выраженная в ней идея отчеканилась в форме известной пословицы: «Церковь не в бревнах, а в ребрах».
Однако раньше, чем умеренное течение беспоповщины успело сделать надлежащие выводы из этих компромиссных положений, к ним пришло крайнее течение – и особенно странничество. Именно принципиальное отрицание всего существующего строя, как церковного, так и гражданского, ближе подвело странников к практическим выводам: к отрицанию не одной никоновской, но практически любой Церкви; не только никоновских таинств, но и всяких; не только новопечатных книг, но и любых других – во имя «духа», царство которого началось в момент гибели веры и старых средств спасения, в начале «восьмой тысячи» христианского летосчисления. Отсюда переход к учению духовного христианства был, как мы видели, чрезвычайно близок: сплошь и рядом местные власти принимали учения немоляков и другие за секту молокан. Но при всех крайностях тут оставалась грань, за которой ревнители старой веры могли оказаться лишь с величайшим трудом. Этой гранью был переход от чистого отрицания к созданию положительных новых учений. И действительно, условное отрицание – только потому, что Никон и Петр испортили веру, «духовная молитва» про себя, без всякого культа, хотя бы и самочинного, наконец, неосуществимая позиция полного отрицания существующего строя и неплатежа податей – все это должно было привести учение беспоповщины к тупику. Выход из него был только в пересмотре самых оснований веры, совершенно независимо от исторических событий прошлого и от буквоедства, стоявшего на уровне развития XVI и XVII вв.
Судьбы господствующей Церкви

Выборность приходских священников и индифферентность прихожан к духовным вопросам. Установление наследственности духовного звания и превращение духовенства в замкнутое сословие. Уровень материального состояния и нравственного развития церковнослужителей. Отношения государства и Церкви. Постепенное ограничение церковных привилегий и потеря Церковью ее старинных прав. Учреждение Синода. Возражения Стефана Яворского. «Филетизм» православных церквей. Решение вопроса о секуляризации духовных имуществ. Значение богословия для Восточной Церкви, его преобладающий полемический характер. Усиление католического влияния и хлебопоклонная ересь Сильвестра Медведева. Развитие школьного богословия, противоположные взгляды Стефана Яворского и Феофана Прокоповича. Создание светского богословия: влияния западного романтизма и учение славянофилов. Религиозно-философские взгляды А. С. Хомякова, К. Н. Леонтьева, В. С. Соловьева. «Проблемы идеализма» и последователи Соловьева братья С. Н. и Е. Н. Трубецкие. О. Павел Флоренский и о. Сергий Булгаков. «Философия свободного духа» Н. А. Бердяева. Д.С. Мережковский и его религиозно-философские беседы.Мы оставили господствующую Русскую Церковь в тот момент ее истории, когда от нее отделялись защитники старой веры. Мы видели судьбу этой старой веры; видели и то, как она постепенно развивалась в новую и как новые формы религиозности поочередно отодвигали прежние на второй план. Весь этот процесс развития русской народной веры совершался неофициально. Посмотрим теперь, что за это время происходило в самой господствующей Церкви.
Чтобы как следует понять ее судьбу, не мешает предварительно вникнуть в кажущийся парадокс Н. И. Костомарова, утверждавшего, что и сама вера при своем возникновении была не старой, а новой. «Мы не согласимся с мнением, распространенным у нас издавна и сделавшимся, так сказать, ходячим: будто раскол есть старая Русь, – говорит историк. – Нет, раскол – явление новое, чуждое старой Руси. Раскольник не похож на старинного русского человека; гораздо более походит на последнего православный простолюдин. Раскольник гонялся за стариной, старался как бы тоже держаться старины – но он обольщался; раскол был явлением новой, а не древней жизни. В старинной Руси народ мало думал о религии, мало интересовался ею, – раскольник же только и думал о религии; на ней сосредоточивался весь интерес его духовной жизни. В старинной Руси обряд был мертвою формою и исполнялся плохо, – раскольник искал в нем смысла и старался исполнять его, сколько возможно, свято и точно. В старинной Руси знание грамоты было редкостью, – раскольник читал и пытался создать себе учение. В старинной Руси господствовало отсутствие мысли и невозмутимое подчинение авторитету властвующих, – раскольник любил мыслить, спорить; раскольник не успокаивал себя мыслью, что если приказано сверху так-то верить, так-то молиться, то, стало быть, так и следует; раскольник хотел сделать собственную совесть судьею приказания, раскольник пытался сам все проверить, исследовать». Словом, «какие бы признаки заблуждения ни представлялись в расколе», по мнению Костомарова, «он все-таки соединялся с побуждениями вырваться из мрака умственной неподвижности, со стремлением русского народа к самообразованию».
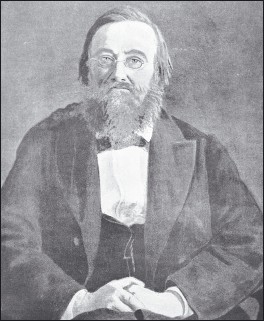
Историк Н. И. Костомаров
Если и можно спорить против выражений, в которые историк облек свою мысль, то самую мысль нельзя не признать совершенно справедливой. Сравнительно с небольшой группой просвещенных представителей Русской Церкви раскол мог быть явлением отсталым. Но он был большим шагом вперед для религиозного самосознания прежде совершенно индифферентной народной массы. Раскол отстаивал только внешнюю обрядовую сторону. Но ее он научил соблюдать, чего масса не делала прежде. Мало того, обряд соблюдался во имя живого религиозного чувства, к которому масса тоже не была приучена и которое выводило ее из векового религиозного безразличия. Таким образом, при всей ограниченности кругозора своих вождей, раскол впервые будил чувство и мысль еще более неразвитой массы. И самая эта ограниченность делала его наиболее доступной, на первых порах, формой народной веры. Эта форма была очень примитивна. Но еще примитивнее было то, что не попало под ее влияние.
Став на эту точку зрения, мы легко поймем ошибочность взгляда, не раз высказывавшегося в исторических сочинениях. Происхождение раскола объяснялось, с религиозной стороны, народным протестом против тех стеснений, которым подвергалась свободная духовная жизнь приходов в XVII в. со стороны правительственной власти. Едва ли, однако же, правительство могло иметь в это время поводы сдерживать религиозное усердие прихожан. Несомненен, конечно, тот факт, что прежний русский священник, выбранный общиной прихожан, мало-помалу уступал место священнику, назначенному епархиальной властью. Вместе с тем, «приход становился чем-то вроде духовно-правительственного участка». Но перемена эта, совершившаяся, действительно, в XVII и XVIII вв., объясняется вовсе не тем, что интерес прихожан к своим духовным делам был систематически подавляем. Объяснения надо искать в том, что интерес этот был слаб вообще – и стал еще слабее с тех пор, как наиболее заинтересованные ушли из господствующей Церкви в раскол. Религиозная индифферентность прихожан была, таким образом, не вынужденной, а совершенно естественной. Она не могла быть поэтому причиной раскола. Но усиление индифферентизма должно объясняться как одно из последствий отделения раскола от Церкви.
Даже в то время, когда выборы духовенства были еще явлением обычным, нельзя думать, что тем самым создавалась живая духовная связь между пастырем и прихожанами. Побуждения, определявшие выбор, были гораздо более прозаичны. От священника не требовалось ни знаний, ни дара учительства. В нем привыкли видеть лишь исполнителя треб. Прихожане заботились, главным образом, о том, «чтобы церкви Божией не быть без пения и душам христианским не помереть без причастия». Своим правом выбора они пользовались для того, чтобы «сговорить себе попа подешевле». Нанимая дьячка, мир ставил условием, чтобы он, сверх церковной службы, еще и «к письму у всякого государева и мирского дела был всегда готов». В лице дьячка хотели получить и писаря-грамотея. Что касается дьякона, он уже являлся несомненной роскошью. «Как и теперь, существенным достоинством дьякона был, – по словам профессора Знаменского, – громкий басовый голос, долженствовавший потрясать не слишком нежное чувство русского человека и имевший для него совершенно такое же значение, как большой церковный колокол». Об удовлетворении этой эстетической потребности прихожан заботился обыкновенно какой-нибудь тароватый староста церковный, нанимавший дьякона, как теперь нанимают певчих. Содержание дьячка, человека, практически полезного миру, предоставлялось частному соглашению. И только об обеспечении содержанием священника заботилась духовная и светская власть. Для этой цели выбор, засвидетельствованный «заручной челобитной» прихожан о назначении им священника, являлся лучшим средством. И правительство не только не имело желания искоренять этот обычай, но, напротив, старалось всячески поддержать его, когда он стал приходить в упадок. «Заручная» являлась в глазах власти ручательством прихожан за исправное отбывание своего рода повинности – содержание причта.

Святитель Дмитрий Ростовский. Мозаичное изображение
Безучастное отношение прихода к духовной стороне выбора, в связи с низким уровнем развития старинного духовенства, должно было превратить исполнение треб в своего рода ремесло. А условия социальной жизни московского государства сделали это ремесло наследственным. «Что тебя привело в чин священнический, – спрашивает св. Дмитрий Ростовский типичного священника своего времени (начало XVIII в.), – то ли, дабы спасти себя и других? Вовсе нет, – а чтобы прокормить жену, детей и домашних… Рассмотри себя всяк, освященный человече, о чем думал ты, приходя в чин духовный. Спасения ради ты шел, или ради покормки, чем бы питалось тело? Ты поискал Иисуса не для Иисуса, а для хлеба куса!» Очевидно, предложение было таково же, каков был спрос. Для прихожанина был «кто ни поп, тот батька», а для попа было все равно, чем бы ни заработать свой «кус хлеба».
Начало приходского выбора должно было само собою пасть при этих условиях. Из этого, однако, вовсе не следует, чтобы оно немедленно заменилось епархиальным назначением. Церковная власть не спешила взять в свои руки то, что выпустили прихожане. Обе стороны, далекие от предполагаемого соперничества в этом вопросе, предоставили дело его естественному течению. Естественным же порядком, освобождавшим и прихожан, и Церковь, и государство от лишних хлопот, была передача духовных мест по наследству.
Среди духовенства создались своего рода династии, владевшие известным приходом сто и двести лет без перерыва. В среде членов этих династий мы найдем и «родовую передвижку», и местнические счеты. «По смерти отца, служившего священником, поступал на его место старший сын, бывший при отце дьяконом, а на его место определялся в дьяконы следующий брат, служивший дьячком. Дьячковское место занимал третий брат, бывший прежде пономарем. Если недоставало на все места братьев, вакантное место замещалось сыном старшего брата или только зачислялось за ним, если он еще не дорос, и т. п., – констатирует проф., протоиерей, воспитанник Московской духовной академии И. П. Знаменский. – В приходах, где разные должности при церкви занимали члены разных семейств, принято было держаться другого порядка в наследственности мест, по которому требовалось, чтобы сын не превышал степенью отца. Сын священника признавался кандидатом на священническое место, а дети причетников на причетнические… таким образом, в одном и том же клире формировалось нечто вроде особых каст, из которых трудно было выйти талантливым людям на высшую степень».
Фактическое развитие наследственности духовных мест подготовило превращение духовенства в замкнутое сословие. Замкнутость эта не была установлена каким-либо указом; она явилась естественным последствием общего склада русской социальной жизни. Свобода доступа в ряды духовенства сама собой исчезла по мере закрепления всех сословий московского государства на службу.
Официально нельзя было отнести заботу о душах к службе. Но фактически она действительно стала государственной обязанностью одного из «чинов» московского государства. В ряду обязанностей, необходимых для государства, она заняла не первое место. По своему общественному положению замкнувшееся сословие очутилось в самом низу социальной лестницы. Это положение тяжело отозвалось на его дальнейшей судьбе. Государство не открывало выхода из духовенства в другие сословия и в то же время старалось сократить его численность до пределов строго необходимого. В результате получилось, с одной стороны, периодическое размножение духовенства, с другой – непрерывная очистка его от лишних членов. Все признанные ненужными лица духовного звания без послабления отдавались в солдаты и записывались в подушный оклад. Только при императоре Александре II перестала тяготеть над сословием эта вечная опасность «разборов», грозивших разрушением каждой духовной семье от Петра I до Николая I. Указ 1869 г. избавил, наконец, детей священно– и церковнослужителей от необходимости заниматься волей-неволей отцовским ремеслом.
