Страница:
«Свет мой, батюшка, надежда моя, здравствуй на многие лета! Радость моя, свет очей моих! Мне не верится, сердце мое, чтобы тебя, света моего, видеть. Велик бы мне день тот был, когда ты, душа моя, ко мне будешь. Если бы мне возможно было, я бы единым днем поставила тебя перед собою... Брела я пеша из Воздвиженска, только подхожу к монастырю Сергия Чюдотворца, а от тебя отписки о боях. Я не помню, как взошла: чла, идучи!»
Теперь Голицын дошел с войсками до Перекопа, вступил в переговоры, но затянул их, не рассчитав запасов пресной воды, и уже с полным позором вынужден был вернуться. Софья не только закрывает глаза на провал князя, она хочет его превратить в глазах народа в победителя, засыпает наградами и, несмотря ни на что, решается на переворот. Как же не ко времени! Шакловитый не сумел поднять стрельцов. Многие из них перешли на сторону бежавшего в безопасный Троице-Сергиев монастырь Петра. Туда же отправились состоявшие на русской службе иностранные части, даже патриарх. Ставку своей жизни Софья проиграла – ее ждал Новодевичий монастырь.
Но был у этой истории еще и другой, человеческий конец. Оказавшись в монастыре, Софья думает прежде всего о «братце Васеньке», ухитряется переслать ему в ссылку письмо и большую сумму денег, едва ли не большую часть того, чем сама располагала. Впрочем, по сравнению с другими ее приближенными Голицын отделался на редкость легко. Его не подвергли ни допросам, ни пыткам, ни тюремному заключению. Лишенный боярства и состояния, он был сослан со своей семьей в далекую Мезень. Наверное, помогла близкая Петру прозападническая ориентация князя, сказалась и выбранная им линия поведения.

С Софьей все иначе. Ни с чем она не может примириться, ни о какой милости не будет просить. Из-за монастырских стен она находит способ связаться со стрельцами, найти доходчивые и будоражащие их слова. Ее влияние чуть не стоило отправившемуся в заграничную поездку Петру власти, и на этот раз все бешенство своего гнева он обращает не только на стрельцов, но и на Софью. В 1698 году царевны Софьи не стало – «чтобы никто не желал ее на царство». Появилась безликая и безгласная монахиня Сусанна, которой было запрещено видеться даже с ее родными сестрами. Ни одной из них Петр не доверял, неукротимый нрав всех их слишком хорошо знал. Могла же спустя много лет после этого суда, измученная цингой и бедностью, Марфа Алексеевна писать из другого монастыря: «хотя бы я неведомо где, да и я тово же отца дочь, такая же Алексеевна».
Пятнадцать лет в монастырских стенах, пятнадцать лет неотвязных мыслей, несбыточных надежд и отчаяния. Но история шла своим путем. Царевна забывалась, становилась никому не нужной. И все-таки она находит способ заявить о себе хоть перед смертью. Она принимает большой постриг – схиму под своим настоящим именем Софьи, чтобы имя это не затерялось, чтобы хоть на гробовой доске осталась память о дочери «тишайшего» царя, почти царице, семь лет вершившей судьбы Руси.
Царицын благодетель
Две гробницы
Теперь Голицын дошел с войсками до Перекопа, вступил в переговоры, но затянул их, не рассчитав запасов пресной воды, и уже с полным позором вынужден был вернуться. Софья не только закрывает глаза на провал князя, она хочет его превратить в глазах народа в победителя, засыпает наградами и, несмотря ни на что, решается на переворот. Как же не ко времени! Шакловитый не сумел поднять стрельцов. Многие из них перешли на сторону бежавшего в безопасный Троице-Сергиев монастырь Петра. Туда же отправились состоявшие на русской службе иностранные части, даже патриарх. Ставку своей жизни Софья проиграла – ее ждал Новодевичий монастырь.
Но был у этой истории еще и другой, человеческий конец. Оказавшись в монастыре, Софья думает прежде всего о «братце Васеньке», ухитряется переслать ему в ссылку письмо и большую сумму денег, едва ли не большую часть того, чем сама располагала. Впрочем, по сравнению с другими ее приближенными Голицын отделался на редкость легко. Его не подвергли ни допросам, ни пыткам, ни тюремному заключению. Лишенный боярства и состояния, он был сослан со своей семьей в далекую Мезень. Наверное, помогла близкая Петру прозападническая ориентация князя, сказалась и выбранная им линия поведения.

И. Репин. «Царевна Софья Алексеевна через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре, во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 г.» 1879 г.
Голицын не только не искал контактов с Софьей, но уверял, что не знал ни о каких планах переворота, а против ее венчания на царство и вовсе возражал, «что то дело необычайное». Он не устает писать Петру из ссылки челобитные о смягчении участи, клянясь, что служил ему так же верно, как и его сестре. И может, была в этом своя закономерность, что вернувшийся из ссылки, куда попал вместе с дедом, внук Василия Голицына становится шутом при дворе племянницы Софьи, Анны Иоанновны. Он даже по-своему входит в историю – это для его «потешной» свадьбы с шутихой был воздвигнут знаменитый Ледяной дом.С Софьей все иначе. Ни с чем она не может примириться, ни о какой милости не будет просить. Из-за монастырских стен она находит способ связаться со стрельцами, найти доходчивые и будоражащие их слова. Ее влияние чуть не стоило отправившемуся в заграничную поездку Петру власти, и на этот раз все бешенство своего гнева он обращает не только на стрельцов, но и на Софью. В 1698 году царевны Софьи не стало – «чтобы никто не желал ее на царство». Появилась безликая и безгласная монахиня Сусанна, которой было запрещено видеться даже с ее родными сестрами. Ни одной из них Петр не доверял, неукротимый нрав всех их слишком хорошо знал. Могла же спустя много лет после этого суда, измученная цингой и бедностью, Марфа Алексеевна писать из другого монастыря: «хотя бы я неведомо где, да и я тово же отца дочь, такая же Алексеевна».
Пятнадцать лет в монастырских стенах, пятнадцать лет неотвязных мыслей, несбыточных надежд и отчаяния. Но история шла своим путем. Царевна забывалась, становилась никому не нужной. И все-таки она находит способ заявить о себе хоть перед смертью. Она принимает большой постриг – схиму под своим настоящим именем Софьи, чтобы имя это не затерялось, чтобы хоть на гробовой доске осталась память о дочери «тишайшего» царя, почти царице, семь лет вершившей судьбы Руси.
Царицын благодетель
А в горе жить – некручинну быть,
А кручину в горе погинути!
Повесть о Горе-злосчастии
У Артамона Матвеева давно сложилась своя прочная легенда. Любимец Алексея Михайловича. Самый близкий «тишайшему» человек. Западник, открывший перед богобоязненным царем православным все соблазны европейского быта. Завзятый театрал, познакомивший московский двор с невиданным до тех пор искусством. Меломан, державший на западный манер большой музыкальный ансамбль. Библиофил с немалой библиотекой на разных языках. Муж англичанки, не признававшей теремного распорядка жизни, выходившей к гостям и спокойно ведшей беседу среди мужчин. Что удивительного, что такой же воспиталась в матвеевском доме будущая царица Наталья Кирилловна, перед которой не смог устоять немолодой и окруженный взрослыми детьми вдовец-царь. А дальше шли разговоры о знатности боярина Артамона Матвеева, о его могуществе при дворе, о влиянии на все государственные дела. Без любимца Алексею Михайловичу будто и на ум не приходило что-нибудь решить.
Что-то в легенде имело корни в жизни, что-то питалось чистым вымыслом, хотя действительность была сложнее и неожиданнее любой фантазии. Сан боярина появился со временем, много позже. Все начиналось с сына дьяка Сергея Матвеева, долго и трудно поднимавшегося по крутой лестнице приказных чинов и званий.
Появился Сергей Матвеев сразу после Смутного времени в чине простого подьячего. Знатностью, само собой разумеется, похвастать никак не мог, богатством тем более не отличался. Даже фамилии не имел: имя деда послужило будущему царскому любимцу «знатной» фамилией. Подьячим служил Сергей Матвеев в дозорщиках Рязанского уезда, в первой половине 1620-х годов, в том же чине, выполнял обязанности писца «посады „Ржевы Владимирской“. То ли „показалась“ кому-то его служба, во что трудно поверить, то ли благодаря женитьбе получил ход к посольским делам. Сын Артамон родился в 1625 году, а годом позже отец получил куда более важную по сравнению с предыдущей службу – повез рухлядь ногайским мурзам. В 1632 году назначается Сергей Матвеев приставом к „цесарскому послу“, вскоре уже в чине дьяка направляется с русским посольством в Царь-град, а в 1642 году едет одним из послов в Персию. Успел он к этому времени получить должность дьяка одного из самых ответственных приказов – Казанского дворца да добиться оклада в сто рублей годовых – подьячие трудились за четыре рубля в год.
Служба сына сложилась иначе. Служил Артамон на Украине и не раз в пятидесятых годах XVII века отправлялся в посольствах к Богдану Хмельницкому. Ратные дела мешались в его жизни с поручениями дипломатическими. В те же годы, что толковал Артамон Матвеев с Хмельницким, участвовал он и в войне с поляками, и в осаде Риги. Остается загадкой, при каких обстоятельствах удалось служилому дворянину приблизиться к царю, чем ему приглянуться. Поручения, которые выполнял по службе Артамон Матвеев, говорили о доверии, но высоких чинов ему не приносили. Почему-то Алексей Михайлович мог доверить Артамону ведать приказом Малороссийским и даже Посольским, а состоял Матвеев всего лишь думным дворянином. Только по случаю рождения маленького Петра получил он чин окольничего, а спустя год приобрел у братьев Пушкиных вотчину – деревню Манухино на Сетуни. Вслед за Манухином уже в 1674 году пришло и боярство. Значит, и с будущей царицей своей Натальей Кирилловной познакомился Алексей Михайлович не в боярском доме, а всего лишь в дворянском. Царь оказался на удивление сдержан в поощрении своего любимца.
Не так все просто было и с иностранкой-женой. Гамильтоны. Фамилия, конечно, говорили о Западной Европе. Только перебралась в Московское государство эта семья шотландцев-датчан еще во времена Ивана Грозного, и едва ли не единственной памятью об иноземном происхождении оставались к середине XVII столетия трудности с написанием фамилии. Каких только трансформаций не перевидало за прошедшие годы неудобное для русской транскрипции имя: Гамантон, Гомантон, Гамантовы, Гамолтоны, Гамоновы и даже Хомутовы. Семейство стало быстро разрастаться и место заняло при дворе, как, впрочем, и большинство поступавших на русскую службу военных специалистов с Запада. Артамон Матвеев женился на Евдокии Григорьевне Гамильтон, действительно знакомой с иностранными языками, получившей неплохое, особенно для русской женщины тех лет, образование, с детства приученной к западному домашнему обиходу в такой же мере, как и к русскому.
Кстати, ее двоюродная племянница Марья Даниловна Гамильтон не только оказалась при дворе Петра I, но обратила на себя внимание императора больше бойкостью и речистостью, нежели, по мнению современников, красотой. Так или иначе, история фрейлины Марьи Гамильтон была достаточно шумной. В ее владении находилась и печально известная шведская пленница Анна Крамерн, пособница Екатерины I в деле с Вилимом Монсом, позднее сыгравшая не вполне понятную роль в судьбе единственной дочери царевича Алексея. Направлявшаяся в Москву на коронацию брата Петра II, царевна Наталья Алексеевна задержалась на ночлег во Всехсвятском и в одночасье умерла. Каковы бы ни были варианты приводившихся врачебных диагнозов – а было их несколько, – верно то, что около постели Натальи находилась одна Анна Крамерн, немедленно после этого высланная из Москвы, хотя и с богатейшими подарками.
Далеко не все было очевидным и с обиходом матвеевского двора: то ли служил думной дворянин примером для благоволившего к нему царя, то ли наоборот – угадывал или предугадывал все желания и интересы монарха, умел служить. Интереснейшее дело Посольского приказа не позволяет прямо ответить на вопрос, восстанавливая обстоятельства жизни некоего Василия Иванова Репьева, выходца из Литовских земель, певчего, музыканта, органиста да к тому же еще и живописца, знакомого с основами «преоспехтирного» театрального дела.
Приехал Василий Репьев в Москву из Литовских земель в свите епископа Мефодия четырнадцатилетним певчим. Певчих ценили, с ними считались из-за того, что обладали они не только знанием распевов, вокальной техникой, но и общей грамотностью. Когда младшие «спадали с голоса», именно это их качество старались использовать. Василия Репьева отдали учиться латыни, а после включили в посольство известного дипломата Ордина-Нащокина, направлявшегося в Курляндию.
Документы не говорят, как долго задержался Репьев в Курляндии, был ли оставлен после отъезда посольства или уехал вместе с боярином. Но где-то должен он был успеть обучиться редкому в то время искусству «писать перспективы и другие штуки, которые надлежат до комедии». Применение своему мастерству он нашел в царской подмосковной Измайлово. Здесь перспективными панно убирался сад, создавая впечатление цветников, аллей, боскетов, замысловатых беседок и павильонов, которых не было времени разбивать в действительности и строить. Еще более важным считалось «преоспехтирное дело» в театральных постановках, которые шли на измайловской сцене. Именно на измайловской, дворцовой. Здесь и обратил внимание на Василия Репьева Артамон Матвеев. Отказался Репьев добровольно перейти к нему на службу, захватил мастера силой, заковал в железа и держал скованным – чтобы не сбежал – от одного выступления до другого. Матвеева интересовало не перспективное дело, а возможности Репьева-инструменталиста. Своего пленника, как писал тот в челобитной в Посольский приказ, принуждал он силой играть «на комедии на скрипках и на органах». Получалось, что Артамон Матвеев подражал царским забавам и старался не отставать от них, а не учил им Алексея Михайловича.
И уточнение в истории памятников села Манухина, продиктованное обстоятельствами биографии Артамона Матвеева. Боярином царскому любимцу удалось побыть всего-то два года. Со смертью Алексея Михайловича придворная жизнь любимца кончилась. Потому и подал в июле 1676 года челобитную о своем освобождении Василий Репьев, «иноземец Литовские земли», что новоиспеченный боярин был сослан со всем своим семейством в ссылку в Пустозерск. Обвинялся Артамон Матвеев в «чернокнижии» и самое страшное – в покушении на жизнь молодого царя Федора Алексеевича.
Что подразумевалось под «чернокнижием», сказать трудно, только был Матвей и в самом деле автором двух написанных по царскому заказу фундаментальных исторических исследований. Сочинил он «Историю русских государей, славных в ратных победах, в лицах» и «Историю избрания и венчания на царство Михаила Федоровича». Оба труда оправдывали и утверждали приход к власти новой династии – Романовых, но, конечно, продолжение династии Артамон Матвеев видел в лице младшей ветви царского рода – в Петре и поддерживал враждебную Милославским, родственникам первой жены Алексея Михайловича, партию Нарышкиных.
Облегчение судьбы былого царского любимца неожиданно наступило в январе 1682 года благодаря царской невесте Марфе Матвеевне Апраксиной. Марфа была обвенчана с недавно овдовевшим царем Федором Алексеевичем и вымолила как милость перевод матвеевской семьи с севера в городок Лух на Костромщине. Артамон Сергеевич приходился новой царице крестным отцом.
Первый переезд с места ссылки оказался началом возвращения Матвеевых в Москву. В апреле того же года смерть Федора Алексеевича и избрание на отцовский престол Петра I открыли перед Артамоном Матвеевым обратную дорогу в столицу, ко всем утраченным почестям и богатствам. Конечно, Матвеев торопился. Избрание состоялось 27 апреля 1682 года, одиннадцатого мая Матвеевы уже были в Москве при дворе. Но спустя четыре дня по их приезде вспыхнул стрелецкий бунт в пользу Милославских и старшего царевича Иоанна Алексеевича. За кулисами разыгрывавшихся событий появилась властная и непреклонная в своем стремлении к царской державе фигура царевны Софьи. Партии Нарышкиных не удалось спасти Артамона Матвеева. На глазах царской семьи он был убит на Красном крыльце кремлевских теремов, сброшен к ногам взбунтовавшихся стрельцов и изрублен. Чудом уцелел четырнадцатилетний сын Артамона Сергеевича Андрей, единственный наследник семьи, отбывавший с отцом ссылку и в Пустозерске, и в Мезени. Вражда Милославских к Матвееву была так велика, что все его вотчины, включая Манухино, немедленно отписываются в Дворцовое ведомство.
И снова остается неясным, чье вмешательство облегчило участь вдовы и подростка-сына. Во всяком случае, через год после конфискации Матвеев-младший восстанавливается в отцовских правах на вотчины, его жалуют в том числе и Манухином.
Для Петра судьба Матвеева-младшего была предрешена. Андрей Артамонович отличается редкой образованностью. Сначала, не посягая на самостоятельные исторические труды, он делает в девяностых годах XVII века интересный перевод «Анналов» Барония. После недолгого воеводствования Андрея Матвеева в Двинском крае в 1691–1693 годах Петр, вернувшись из первой своей поездки по Западной Европе – Великого посольства, направляет его чрезвычайным и полномочным послом при Голландских Статах. От этих основных обязанностей ему приходится отказаться для особо важных поручений. В 1705 году он ездит для заключения торгового договора с Францией в Париж, а спустя два года – в Лондон, где ему предстояло уговорить английское правительство взять на себя посредничество между Россией и Швецией и – что не менее важно – не признавать польским королем Станислава Потоцкого. Доверие к нему Петра в отношении дипломатических миссий безгранично. 1712–1715 годы Андрей Матвеев проводит русским послом при австрийском дворе и по возвращении оттуда получает графский титул. Четырьмя годами позже он уже сенатор и президент юстиц-коллегии.
В последний год жизни Петра I Андрей Матвеев был переведен в Москву на должность руководителя Московской Сенатской конторы. Вряд ли такое назначение относилось к числу служебных успехов графа. Любая служба в Москве в то время означала удаление из столицы, от двора. Петр явно охладел к своему давнему сотруднику, а Матвеев к тому же и не искал больше царских милостей. И в Москве снова сходятся пути Василия Иванова Репьева, былого пленника матвеевского дома, и Матвеева, на этот раз младшего. На основании ведомости сбора мостовых денег по Москве в 1718–1723 годах за Ре-пьевым числился собственный двор «в Белом городе Покровской сотни на тяглой земле идучи от Покровских ворот в город по Большой Покровской улице на левой стороне под номером 630-м». Находилось хозяйство живописца Репьева бок о бок с двором другого живописца – строителя Сухаревой башни и Арсенала Московского Кремля Михайлы Чоглокова.
Андрей Матвеев сохранил за собой московскую должность в течение недолгого правления Екатерины I, но в 1727 году вышел в отставку. Вошедшие в исторические справочники и энциклопедические словари его жизнеописания не приводят никакой причины ухода былого дипломата с государственной службы, между тем причина эта достаточно серьезна и необычна.
Среди современников ходили разговоры о том, что охлаждение между императором и графом наступило из-за графской дочери Марьи Андреевны, вышедшей замуж за денщика Петра I Румянцева, но пользовавшейся особым вниманием самого царя. Ее родившегося в 1725 году сына – будущего известного полководца П.А. Румянцева-Задунайского – при дворе считали связанным родственными узами с царской семьей. То, что могло устроить другого придворного, вызвало гнев графа-отца, который предпочел принять предложение о назначении в Москву.
Тем не менее уже будучи в отставке, Андрей Артамонович Матвеев берется за перо, чтобы составить историческую хронику России начиная с памятного для него стрелецкого бунта и вплоть до 1698 года, когда он надолго оставил родину. Опубликованная в «Собрании записок о Петре Великом», его работа вызвала нарекания не только из-за предвзятого отношения к партии Милославских и царевне Софье. Подняться над семейной обидой Матвеев не сумел.
Что-то в легенде имело корни в жизни, что-то питалось чистым вымыслом, хотя действительность была сложнее и неожиданнее любой фантазии. Сан боярина появился со временем, много позже. Все начиналось с сына дьяка Сергея Матвеева, долго и трудно поднимавшегося по крутой лестнице приказных чинов и званий.
Появился Сергей Матвеев сразу после Смутного времени в чине простого подьячего. Знатностью, само собой разумеется, похвастать никак не мог, богатством тем более не отличался. Даже фамилии не имел: имя деда послужило будущему царскому любимцу «знатной» фамилией. Подьячим служил Сергей Матвеев в дозорщиках Рязанского уезда, в первой половине 1620-х годов, в том же чине, выполнял обязанности писца «посады „Ржевы Владимирской“. То ли „показалась“ кому-то его служба, во что трудно поверить, то ли благодаря женитьбе получил ход к посольским делам. Сын Артамон родился в 1625 году, а годом позже отец получил куда более важную по сравнению с предыдущей службу – повез рухлядь ногайским мурзам. В 1632 году назначается Сергей Матвеев приставом к „цесарскому послу“, вскоре уже в чине дьяка направляется с русским посольством в Царь-град, а в 1642 году едет одним из послов в Персию. Успел он к этому времени получить должность дьяка одного из самых ответственных приказов – Казанского дворца да добиться оклада в сто рублей годовых – подьячие трудились за четыре рубля в год.
Служба сына сложилась иначе. Служил Артамон на Украине и не раз в пятидесятых годах XVII века отправлялся в посольствах к Богдану Хмельницкому. Ратные дела мешались в его жизни с поручениями дипломатическими. В те же годы, что толковал Артамон Матвеев с Хмельницким, участвовал он и в войне с поляками, и в осаде Риги. Остается загадкой, при каких обстоятельствах удалось служилому дворянину приблизиться к царю, чем ему приглянуться. Поручения, которые выполнял по службе Артамон Матвеев, говорили о доверии, но высоких чинов ему не приносили. Почему-то Алексей Михайлович мог доверить Артамону ведать приказом Малороссийским и даже Посольским, а состоял Матвеев всего лишь думным дворянином. Только по случаю рождения маленького Петра получил он чин окольничего, а спустя год приобрел у братьев Пушкиных вотчину – деревню Манухино на Сетуни. Вслед за Манухином уже в 1674 году пришло и боярство. Значит, и с будущей царицей своей Натальей Кирилловной познакомился Алексей Михайлович не в боярском доме, а всего лишь в дворянском. Царь оказался на удивление сдержан в поощрении своего любимца.
Не так все просто было и с иностранкой-женой. Гамильтоны. Фамилия, конечно, говорили о Западной Европе. Только перебралась в Московское государство эта семья шотландцев-датчан еще во времена Ивана Грозного, и едва ли не единственной памятью об иноземном происхождении оставались к середине XVII столетия трудности с написанием фамилии. Каких только трансформаций не перевидало за прошедшие годы неудобное для русской транскрипции имя: Гамантон, Гомантон, Гамантовы, Гамолтоны, Гамоновы и даже Хомутовы. Семейство стало быстро разрастаться и место заняло при дворе, как, впрочем, и большинство поступавших на русскую службу военных специалистов с Запада. Артамон Матвеев женился на Евдокии Григорьевне Гамильтон, действительно знакомой с иностранными языками, получившей неплохое, особенно для русской женщины тех лет, образование, с детства приученной к западному домашнему обиходу в такой же мере, как и к русскому.
Кстати, ее двоюродная племянница Марья Даниловна Гамильтон не только оказалась при дворе Петра I, но обратила на себя внимание императора больше бойкостью и речистостью, нежели, по мнению современников, красотой. Так или иначе, история фрейлины Марьи Гамильтон была достаточно шумной. В ее владении находилась и печально известная шведская пленница Анна Крамерн, пособница Екатерины I в деле с Вилимом Монсом, позднее сыгравшая не вполне понятную роль в судьбе единственной дочери царевича Алексея. Направлявшаяся в Москву на коронацию брата Петра II, царевна Наталья Алексеевна задержалась на ночлег во Всехсвятском и в одночасье умерла. Каковы бы ни были варианты приводившихся врачебных диагнозов – а было их несколько, – верно то, что около постели Натальи находилась одна Анна Крамерн, немедленно после этого высланная из Москвы, хотя и с богатейшими подарками.
Далеко не все было очевидным и с обиходом матвеевского двора: то ли служил думной дворянин примером для благоволившего к нему царя, то ли наоборот – угадывал или предугадывал все желания и интересы монарха, умел служить. Интереснейшее дело Посольского приказа не позволяет прямо ответить на вопрос, восстанавливая обстоятельства жизни некоего Василия Иванова Репьева, выходца из Литовских земель, певчего, музыканта, органиста да к тому же еще и живописца, знакомого с основами «преоспехтирного» театрального дела.
Приехал Василий Репьев в Москву из Литовских земель в свите епископа Мефодия четырнадцатилетним певчим. Певчих ценили, с ними считались из-за того, что обладали они не только знанием распевов, вокальной техникой, но и общей грамотностью. Когда младшие «спадали с голоса», именно это их качество старались использовать. Василия Репьева отдали учиться латыни, а после включили в посольство известного дипломата Ордина-Нащокина, направлявшегося в Курляндию.
Документы не говорят, как долго задержался Репьев в Курляндии, был ли оставлен после отъезда посольства или уехал вместе с боярином. Но где-то должен он был успеть обучиться редкому в то время искусству «писать перспективы и другие штуки, которые надлежат до комедии». Применение своему мастерству он нашел в царской подмосковной Измайлово. Здесь перспективными панно убирался сад, создавая впечатление цветников, аллей, боскетов, замысловатых беседок и павильонов, которых не было времени разбивать в действительности и строить. Еще более важным считалось «преоспехтирное дело» в театральных постановках, которые шли на измайловской сцене. Именно на измайловской, дворцовой. Здесь и обратил внимание на Василия Репьева Артамон Матвеев. Отказался Репьев добровольно перейти к нему на службу, захватил мастера силой, заковал в железа и держал скованным – чтобы не сбежал – от одного выступления до другого. Матвеева интересовало не перспективное дело, а возможности Репьева-инструменталиста. Своего пленника, как писал тот в челобитной в Посольский приказ, принуждал он силой играть «на комедии на скрипках и на органах». Получалось, что Артамон Матвеев подражал царским забавам и старался не отставать от них, а не учил им Алексея Михайловича.
И уточнение в истории памятников села Манухина, продиктованное обстоятельствами биографии Артамона Матвеева. Боярином царскому любимцу удалось побыть всего-то два года. Со смертью Алексея Михайловича придворная жизнь любимца кончилась. Потому и подал в июле 1676 года челобитную о своем освобождении Василий Репьев, «иноземец Литовские земли», что новоиспеченный боярин был сослан со всем своим семейством в ссылку в Пустозерск. Обвинялся Артамон Матвеев в «чернокнижии» и самое страшное – в покушении на жизнь молодого царя Федора Алексеевича.
Что подразумевалось под «чернокнижием», сказать трудно, только был Матвей и в самом деле автором двух написанных по царскому заказу фундаментальных исторических исследований. Сочинил он «Историю русских государей, славных в ратных победах, в лицах» и «Историю избрания и венчания на царство Михаила Федоровича». Оба труда оправдывали и утверждали приход к власти новой династии – Романовых, но, конечно, продолжение династии Артамон Матвеев видел в лице младшей ветви царского рода – в Петре и поддерживал враждебную Милославским, родственникам первой жены Алексея Михайловича, партию Нарышкиных.
Облегчение судьбы былого царского любимца неожиданно наступило в январе 1682 года благодаря царской невесте Марфе Матвеевне Апраксиной. Марфа была обвенчана с недавно овдовевшим царем Федором Алексеевичем и вымолила как милость перевод матвеевской семьи с севера в городок Лух на Костромщине. Артамон Сергеевич приходился новой царице крестным отцом.
Первый переезд с места ссылки оказался началом возвращения Матвеевых в Москву. В апреле того же года смерть Федора Алексеевича и избрание на отцовский престол Петра I открыли перед Артамоном Матвеевым обратную дорогу в столицу, ко всем утраченным почестям и богатствам. Конечно, Матвеев торопился. Избрание состоялось 27 апреля 1682 года, одиннадцатого мая Матвеевы уже были в Москве при дворе. Но спустя четыре дня по их приезде вспыхнул стрелецкий бунт в пользу Милославских и старшего царевича Иоанна Алексеевича. За кулисами разыгрывавшихся событий появилась властная и непреклонная в своем стремлении к царской державе фигура царевны Софьи. Партии Нарышкиных не удалось спасти Артамона Матвеева. На глазах царской семьи он был убит на Красном крыльце кремлевских теремов, сброшен к ногам взбунтовавшихся стрельцов и изрублен. Чудом уцелел четырнадцатилетний сын Артамона Сергеевича Андрей, единственный наследник семьи, отбывавший с отцом ссылку и в Пустозерске, и в Мезени. Вражда Милославских к Матвееву была так велика, что все его вотчины, включая Манухино, немедленно отписываются в Дворцовое ведомство.
И снова остается неясным, чье вмешательство облегчило участь вдовы и подростка-сына. Во всяком случае, через год после конфискации Матвеев-младший восстанавливается в отцовских правах на вотчины, его жалуют в том числе и Манухином.
Для Петра судьба Матвеева-младшего была предрешена. Андрей Артамонович отличается редкой образованностью. Сначала, не посягая на самостоятельные исторические труды, он делает в девяностых годах XVII века интересный перевод «Анналов» Барония. После недолгого воеводствования Андрея Матвеева в Двинском крае в 1691–1693 годах Петр, вернувшись из первой своей поездки по Западной Европе – Великого посольства, направляет его чрезвычайным и полномочным послом при Голландских Статах. От этих основных обязанностей ему приходится отказаться для особо важных поручений. В 1705 году он ездит для заключения торгового договора с Францией в Париж, а спустя два года – в Лондон, где ему предстояло уговорить английское правительство взять на себя посредничество между Россией и Швецией и – что не менее важно – не признавать польским королем Станислава Потоцкого. Доверие к нему Петра в отношении дипломатических миссий безгранично. 1712–1715 годы Андрей Матвеев проводит русским послом при австрийском дворе и по возвращении оттуда получает графский титул. Четырьмя годами позже он уже сенатор и президент юстиц-коллегии.
В последний год жизни Петра I Андрей Матвеев был переведен в Москву на должность руководителя Московской Сенатской конторы. Вряд ли такое назначение относилось к числу служебных успехов графа. Любая служба в Москве в то время означала удаление из столицы, от двора. Петр явно охладел к своему давнему сотруднику, а Матвеев к тому же и не искал больше царских милостей. И в Москве снова сходятся пути Василия Иванова Репьева, былого пленника матвеевского дома, и Матвеева, на этот раз младшего. На основании ведомости сбора мостовых денег по Москве в 1718–1723 годах за Ре-пьевым числился собственный двор «в Белом городе Покровской сотни на тяглой земле идучи от Покровских ворот в город по Большой Покровской улице на левой стороне под номером 630-м». Находилось хозяйство живописца Репьева бок о бок с двором другого живописца – строителя Сухаревой башни и Арсенала Московского Кремля Михайлы Чоглокова.
Андрей Матвеев сохранил за собой московскую должность в течение недолгого правления Екатерины I, но в 1727 году вышел в отставку. Вошедшие в исторические справочники и энциклопедические словари его жизнеописания не приводят никакой причины ухода былого дипломата с государственной службы, между тем причина эта достаточно серьезна и необычна.
Среди современников ходили разговоры о том, что охлаждение между императором и графом наступило из-за графской дочери Марьи Андреевны, вышедшей замуж за денщика Петра I Румянцева, но пользовавшейся особым вниманием самого царя. Ее родившегося в 1725 году сына – будущего известного полководца П.А. Румянцева-Задунайского – при дворе считали связанным родственными узами с царской семьей. То, что могло устроить другого придворного, вызвало гнев графа-отца, который предпочел принять предложение о назначении в Москву.
Тем не менее уже будучи в отставке, Андрей Артамонович Матвеев берется за перо, чтобы составить историческую хронику России начиная с памятного для него стрелецкого бунта и вплоть до 1698 года, когда он надолго оставил родину. Опубликованная в «Собрании записок о Петре Великом», его работа вызвала нарекания не только из-за предвзятого отношения к партии Милославских и царевне Софье. Подняться над семейной обидой Матвеев не сумел.
Две гробницы
Ветер с Серой упрямо рвется в узкую прорезь ворот и захлебывается тишиной. История – она проходит как прибой. И только в редких ямках продолжает искриться застоявшейся солью ушедшая волна – постройки, памятники, неверные и вечные следы поколений.
Сегодня в путанице заплетенных травой тропинок одинокие стены тянутся к невысоким кровлям, куполам. Изредка разворачиваются широкими крыльцами. Западают в чернеющие провалы скупо отсчитанных окон. И неудержимым взлетом входит ввысь огромная каменная свеча – Распятская церковь-колокольня, памятник победы московского царя над Новгородской вольницей и переезде Грозного в слободу в 1565 году.
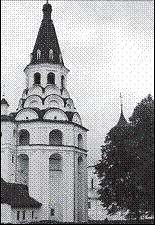
Наверно, все вместе. И отсюда каждый такой храм – всегда переживание, захватывающее, яркое и однозначное в своей внутренней приподнятности, победном звучании. Не потому ли все они строились по поводу светских событий, были памятниками государственной жизни?
Движение – оно захватывает в Распятской колокольне неудержимой сменой форм: тянутые арки опорных столбов, громоздящиеся ряды кокошников, острая перспектива законченного крохотным куполком шатра. Внутри – неожиданно тесный обхват стен невольно заставляет рвануться к водопаду света, клубящемуся высоко вверху из прорезей шатра. Это удивительно четкое ощущение мира – ясного, огромного и далекого.
И еще путь «под колоколы». Не каждый его проделывал, но каждый мог – строитель знал об этом. После головоломной крутизны прорывшихся сквозь толщу стены ступеней – солнце. И свет. Волны пронизанного маревом света наплывают в забранные деревянными решетками проемы. Размывают очертания уходящих в бесконечность перелесков, полей там – глубоко внизу. Граница Залесья и Ополья, образ вечной и ласковой к человеку земли. Как не понять, что как раз здесь и должна была родиться мечта о крыльях – первый полет смерда Никитки.
У подножья Распятского столпа крохотная кирпичная постройка. Как сор в углу празднично прибранного дома. Но это иной поворот истории. Забытый. Точнее – неузнанный и по-своему нужный.
О них говорят одним безликим словом «сестры»: Екатерина, Евдокия, Федосья, Марфа, Марья, толпа дочерей царя Алексея Михайловича от первой жены, богобоязненной и плодовитой Марьи Ильичны Милославской. Как их различать рядом с неукротимым ярким нравом Софьи? Вот она, средняя, ничем от рождения не отмеченная, сумела рвануться к престолу, хоть на считанные годы перехватить власть, величаться великой государыней. Спорила с раскольниками и принимала иноземных послов, диктовала государские грамоты и расправлялась с вчерашними сторонниками, зазнавшимися стрелецкими начальниками – все на виду, все сама. А что сестры?
Наверное, дивились – всей толпой. Вряд ли противились – где им! – да и получалось выгодней самим: больше удобств, почета, воли. В трудную минуту сгрудились за Софьей, пытались помочь в меру недалекого бабьего разумения, семейной ненависти к мачехе – царице Наталье Кирилловне. Только верен ли привычный, примелькавшийся портрет царевны, просто женщины тех лет?
Ведь это немаловажная поправка, что не просто владели сестры грамотой, но при случае могли сложить и стихи. По-русски. По-польски. Иным удавалось и по-латыни. Имели под рукой книги, печатные и рукописные, русские и переводные, церковные и светские. Держали в своих палатах «цимбалы» и «охтавки» – клавесины и клавикорды. Одна занималась иконописью – женщин-иконописцев на Руси XVII века было достаточно, и только крутое вмешательство Петра положило конец их традиционному праву на профессиональную работу. Другая любила играть «на театре», тем более что пьесы сочиняли сами, как, например, Софья – «Обручение святой Екатерины».
Вот царевне Екатерине Алексеевне хочется всего сразу – то же, что у Софьи, больше, чем у Софьи. Модная, на европейский образец мебель (чего стоила одна резная кровать под балдахином с зеркалами и резными вставками!), образа, писанные живописным письмом, картины – царевна первая заказчица у мастеров Оружейной палаты. И на первый взгляд необъяснимая фантазия – на стенах своей палаты Екатерина приказывает написать портреты всей причастной к престолу родни: покойные отец и мать, старшие братья Алексей и Федор, царствующий Иван, Софья и, наконец, сама Екатерина. Видно, остальные сестры царевне «не в честь и не в почет». У нее свое затаившееся честолюбие, свои – почем знать, как далеко идущие! – планы. Недаром к своим родным, Милославским, Екатерина предпочла приписать и маленького Петра.
И простая дипломатия оправдала себя. Не связал же Петр эту сестру впоследствии с делом Софьи, не лишил места при дворе, даже сделал крестной матерью будущей Екатерины I. А ведь до конца навещала царевна Софью в Новодевичьем монастыре и там же захотела кончить свои дни, в душе не примирившись с нарышкинским отпрыском – Петром.
Марфа тоже не прочь иметь и модную обстановку, и клавесин, и расписанные потолки, но по-настоящему занимает ее не это. Она всегда рядом с Софьей, умеет поддержать сестру, толкнуть на решительный шаг, подогреть честолюбие и гордость. Ей не страшно связаться и со стрельцами и передать им весть от уже заключенной в монастыре Софьи. Марфа не из тех, кто ждет событий, она всегда готова стать их причиной. И отсюда беспощадный приговор Петра: постричь в монахини Софью – «чтоб никто не желал ее на царство», но постричь и Марфу, единственную из сестер. Софью оставить под ближним надзором в Москве, Марфу отослать в Александрову слободу, в Успенский монастырь, «безвыездно и доживотно».
Нет, это не был выбор лишь бы подальше, лишь бы поглуше. Об Александровой слободе у Петра свои представления. В 1689 году, во время стрелецкого бунта в Москве, она послужила ему таким же надежным убежищем, как Троице-Сергиева лавра. Две недели проводит здесь Петр на Немецких горках «в учениях». Они и сегодня все те же – пологие холмы, неширокая речка, свободный обзор. И как для Софьи Петр выбирает в Москве именно Новодевичий монастырь, потому что доверяет игуменье, а еще больше попу близлежащего прихода, родственнику своего духовника, Никите Никитину, которому и поручалось всеми подручными средствами «наблюдать» царевну, так останавливается он для Марфы на Александровой слободе.

Съестные припасы для «бывшей» Марфы – инокини Маргариты – тянутся из Москвы неделями. Тухнут. Гниют. Денег на житье нет. Монастырь не обязан заботиться о царской узнице – только стеречь. Марфу донимает цинга, прибывающие с годами болезни – ей за пятьдесят, она ровесница матери Петра. Но его, именно его Марфа не будет просить ни о чем. Разве что сестру Петра, Наталью, и то только о враче, и то с полным сознанием своего значения, «рода», прав: «Свет моя сестрица матушка царевна Наталия Алексеевна, за что ты такова немилостива ко мне явилася? Разве за то, что я от вашей милости ушла, и я тем не виновата: хотя бы я неведомо где, да и я тово же отца дочь, такая же Алексеевна».
Сегодня в путанице заплетенных травой тропинок одинокие стены тянутся к невысоким кровлям, куполам. Изредка разворачиваются широкими крыльцами. Западают в чернеющие провалы скупо отсчитанных окон. И неудержимым взлетом входит ввысь огромная каменная свеча – Распятская церковь-колокольня, памятник победы московского царя над Новгородской вольницей и переезде Грозного в слободу в 1565 году.
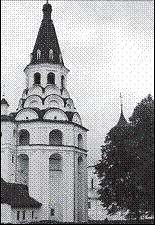
Распятская колокольня
Столпообразные шатровые храмы – к ним отнесет Распятскую колокольню каждый справочник – появляются в XVI веке и уходят из русской архитектуры тогда же, могучие каменные обелиски, хоть и связываемые историками с образцами деревянного зодчества. Что воплотилось в них? Торжество объединяющегося, утверждающего свою силу государства? Начинающееся преобладание государственных, а вместе с ними светских начал? Или прежде всего человеческое сознание, ощутившее возможность освободиться от пут средневековых представлений и догм?Наверно, все вместе. И отсюда каждый такой храм – всегда переживание, захватывающее, яркое и однозначное в своей внутренней приподнятности, победном звучании. Не потому ли все они строились по поводу светских событий, были памятниками государственной жизни?
Движение – оно захватывает в Распятской колокольне неудержимой сменой форм: тянутые арки опорных столбов, громоздящиеся ряды кокошников, острая перспектива законченного крохотным куполком шатра. Внутри – неожиданно тесный обхват стен невольно заставляет рвануться к водопаду света, клубящемуся высоко вверху из прорезей шатра. Это удивительно четкое ощущение мира – ясного, огромного и далекого.
И еще путь «под колоколы». Не каждый его проделывал, но каждый мог – строитель знал об этом. После головоломной крутизны прорывшихся сквозь толщу стены ступеней – солнце. И свет. Волны пронизанного маревом света наплывают в забранные деревянными решетками проемы. Размывают очертания уходящих в бесконечность перелесков, полей там – глубоко внизу. Граница Залесья и Ополья, образ вечной и ласковой к человеку земли. Как не понять, что как раз здесь и должна была родиться мечта о крыльях – первый полет смерда Никитки.
У подножья Распятского столпа крохотная кирпичная постройка. Как сор в углу празднично прибранного дома. Но это иной поворот истории. Забытый. Точнее – неузнанный и по-своему нужный.
О них говорят одним безликим словом «сестры»: Екатерина, Евдокия, Федосья, Марфа, Марья, толпа дочерей царя Алексея Михайловича от первой жены, богобоязненной и плодовитой Марьи Ильичны Милославской. Как их различать рядом с неукротимым ярким нравом Софьи? Вот она, средняя, ничем от рождения не отмеченная, сумела рвануться к престолу, хоть на считанные годы перехватить власть, величаться великой государыней. Спорила с раскольниками и принимала иноземных послов, диктовала государские грамоты и расправлялась с вчерашними сторонниками, зазнавшимися стрелецкими начальниками – все на виду, все сама. А что сестры?
Наверное, дивились – всей толпой. Вряд ли противились – где им! – да и получалось выгодней самим: больше удобств, почета, воли. В трудную минуту сгрудились за Софьей, пытались помочь в меру недалекого бабьего разумения, семейной ненависти к мачехе – царице Наталье Кирилловне. Только верен ли привычный, примелькавшийся портрет царевны, просто женщины тех лет?
Ведь это немаловажная поправка, что не просто владели сестры грамотой, но при случае могли сложить и стихи. По-русски. По-польски. Иным удавалось и по-латыни. Имели под рукой книги, печатные и рукописные, русские и переводные, церковные и светские. Держали в своих палатах «цимбалы» и «охтавки» – клавесины и клавикорды. Одна занималась иконописью – женщин-иконописцев на Руси XVII века было достаточно, и только крутое вмешательство Петра положило конец их традиционному праву на профессиональную работу. Другая любила играть «на театре», тем более что пьесы сочиняли сами, как, например, Софья – «Обручение святой Екатерины».
Вот царевне Екатерине Алексеевне хочется всего сразу – то же, что у Софьи, больше, чем у Софьи. Модная, на европейский образец мебель (чего стоила одна резная кровать под балдахином с зеркалами и резными вставками!), образа, писанные живописным письмом, картины – царевна первая заказчица у мастеров Оружейной палаты. И на первый взгляд необъяснимая фантазия – на стенах своей палаты Екатерина приказывает написать портреты всей причастной к престолу родни: покойные отец и мать, старшие братья Алексей и Федор, царствующий Иван, Софья и, наконец, сама Екатерина. Видно, остальные сестры царевне «не в честь и не в почет». У нее свое затаившееся честолюбие, свои – почем знать, как далеко идущие! – планы. Недаром к своим родным, Милославским, Екатерина предпочла приписать и маленького Петра.
И простая дипломатия оправдала себя. Не связал же Петр эту сестру впоследствии с делом Софьи, не лишил места при дворе, даже сделал крестной матерью будущей Екатерины I. А ведь до конца навещала царевна Софью в Новодевичьем монастыре и там же захотела кончить свои дни, в душе не примирившись с нарышкинским отпрыском – Петром.
Марфа тоже не прочь иметь и модную обстановку, и клавесин, и расписанные потолки, но по-настоящему занимает ее не это. Она всегда рядом с Софьей, умеет поддержать сестру, толкнуть на решительный шаг, подогреть честолюбие и гордость. Ей не страшно связаться и со стрельцами и передать им весть от уже заключенной в монастыре Софьи. Марфа не из тех, кто ждет событий, она всегда готова стать их причиной. И отсюда беспощадный приговор Петра: постричь в монахини Софью – «чтоб никто не желал ее на царство», но постричь и Марфу, единственную из сестер. Софью оставить под ближним надзором в Москве, Марфу отослать в Александрову слободу, в Успенский монастырь, «безвыездно и доживотно».
Нет, это не был выбор лишь бы подальше, лишь бы поглуше. Об Александровой слободе у Петра свои представления. В 1689 году, во время стрелецкого бунта в Москве, она послужила ему таким же надежным убежищем, как Троице-Сергиева лавра. Две недели проводит здесь Петр на Немецких горках «в учениях». Они и сегодня все те же – пологие холмы, неширокая речка, свободный обзор. И как для Софьи Петр выбирает в Москве именно Новодевичий монастырь, потому что доверяет игуменье, а еще больше попу близлежащего прихода, родственнику своего духовника, Никите Никитину, которому и поручалось всеми подручными средствами «наблюдать» царевну, так останавливается он для Марфы на Александровой слободе.

Александрова слобода
И вот убогая каморка у могучей колокольни. Низкие потолки. Набухающие сыростью стены. Пара слепых окошек над землей.Съестные припасы для «бывшей» Марфы – инокини Маргариты – тянутся из Москвы неделями. Тухнут. Гниют. Денег на житье нет. Монастырь не обязан заботиться о царской узнице – только стеречь. Марфу донимает цинга, прибывающие с годами болезни – ей за пятьдесят, она ровесница матери Петра. Но его, именно его Марфа не будет просить ни о чем. Разве что сестру Петра, Наталью, и то только о враче, и то с полным сознанием своего значения, «рода», прав: «Свет моя сестрица матушка царевна Наталия Алексеевна, за что ты такова немилостива ко мне явилася? Разве за то, что я от вашей милости ушла, и я тем не виновата: хотя бы я неведомо где, да и я тово же отца дочь, такая же Алексеевна».
