– Ваты надо подложить, – продолжал господин Четнеки. – Немного в плечи и чуть-чуть на груди, справа и слева.
– Раз! Вот я тебя и повалил!
Господин Четнеки снял новый коричневый пиджак, и портной помог ему надеть старый.
– Когда будет готово?
– Послезавтра.
– Хорошо. Только смотрите, чтоб не пришлось опять ждать неделю. У вас еще какой-нибудь заказ?
– Нет, сударь… вот только ребенок. Господин Четнеки пожал плечами:
– Прискорбный случай, весьма сожалею; но мне срочно нужен костюм. Принимайтесь живей за дело.
– Вот примусь, – вздохнул портной.
– До свидания! – промолвил господин Четнеки и удалился в отличном расположении духа. В дверях он еще раз крикнул:– За дело, за дело, живо!
Портной взял в руки красивый коричневый пиджак. Он вспомнил, что сказал врач. Позаботиться, о чем заботятся в таких случаях… Ну что ж, за дело. Как знать, на что пойдут те несколько форинтов, которые он выручит за коричневый пиджак. Перекочуют, наверно, в карман к столяру – к тому, что мастерит детские гробики. А господин Четнеки будет щеголять в своем новом костюме, прогуливаясь по набережной Дуная.
Портной вернулся в комнату и, не мешкая, принялся за шитье. Он уж не подымал больше глаз на постель сына, а только проворно орудовал иголкой, торопясь управиться с заказом. Работа во всех отношениях спешная: и господину Четнеки подавай, и столяру тоже.
А с маленьким капитаном уже никакого сладу не было. Собравшись с силами, он во весь рост встал на постели. Длинная ночная рубашонка доставала ему до пят. На голове его красовалась сдвинутая набекрень ало-зеленая фуражка. Рука отдавала честь. Он уже не говорил, а хрипел, блуждая взглядом где-то в пространстве:
– Честь имею, господин генерал: командир краснорубашечников положен на обе лопатки. Прошу о повышении! Можете уже считать меня капитаном. За родину я сражался и за родину погиб! Трара! Трара! Труби, Колнаи!
Он ухватился одной рукой за спинку кровати.
– Форты, открыть бомбардировку! Ха-ха! Вон Яно идет! Внимание, Яно! Ты тоже будешь капитаном! И твоего имени уж не напишут с маленькой буквы! Тьфу! Злое сердце у вас, ребята! Позавидовали, что Бока меня любит, что он со мной дружит, а не с вами! «Общество замазки» просто чушь! Выхожу! Выхожу из общества!
И тихо добавил:
– Прошу занести в протокол.
А портной за своим низеньким столиком ничего не видел и не слышал. Костлявые пальцы его так и сновали по материи, только иголка с наперстком поблескивали. Ни за что на свете не взглянул бы он сейчас на сына. Он боялся, что посмотрит туда – и потеряет всякую охоту что-нибудь делать, швырнет на пол изящный пиджак господина Четнеки и сам рухнет на постель рядом со своим мальчиком.
Капитан сел и молча уставился на одеяло.
– Устал? – тихо спросил Бока.
Он не ответил. Бока укрыл его. Мать поправила подушку.
– Ну, теперь полежи тихонько. Отдохни. Мальчик невидящим взором поглядел на Боку. На его лице отобразилось удивление.
– Папа… – пролепетал он.
– Нет… я не папа… – глухо произнес генерал. – Ты не узнаешь меня? Я – Бока Янош.
– Я… Бока… Янош… – усталым голосом тупо повторил за ним больной.
Наступило продолжительное молчание. Мальчуган закрыл глаза и так тяжело вздохнул, будто все скорби людские стеснились в его маленькой груди.
Стало тихо.
– Может, заснет, – прошептала мать. Она еле держалась на ногах, измученная бессонными ночами у постели ребенка.
– Отойдем, – так же шепотом ответил Бока.
Они сели в сторонке на потертый зеленый диван. Теперь и портной оставил свою работу: положил коричневый пиджак на колени и склонил голову над столиком. Все молчали. В дремотной тишине муху, и ту слышно было.
Со двора через окно донеслись детские голоса. Казалось, там толпой собрались дети, которые вполголоса переговариваются друг с другом.
Вдруг слуха Боки коснулось знакомое имя. Кто-то шепотом произнес:
– Барабаш.
Бока встал и на цыпочках вышел из комнаты. Открыл стеклянную дверь кухни и увидел во дворе знакомые лица: у входа робко теснилась целая стайка мальчишек с улицы Пала.
– Это вы?
– Мы, – шепотом ответил Вейс. – Все «Общество замазки» в полном составе.
– Вам чего?
– Мы адрес ему принесли, в нем написано красными чернилами, что общество просит у него прощения и что его имя вписано в Большую книгу одними заглавными буквами. Книга с нами. И делегация вся здесь.
– Не могли пораньше прийти! – покачал головой Бока.
– А что?
– А то, что он сейчас спит.
Члены делегации переглянулись.
– Раньше мы не могли: спорили, кому главой делегации быть. Чуть не полчаса препирались, пока Вейса выбрали. На пороге появилась хозяйка.
– Он не спит, – сказала она. – Бредит. Мальчики оцепенели. Они были потрясены.
– Входите, ребятки, – сказала мать Немечека. – Может, увидит вас – и в себя придет, бедняжка.
И она распахнула дверь. Мальчики друг за дружкой вошли – застенчиво, благоговейно, словно в церковь. Еще во дворе они сняли шляпы. И когда за последним из них бесшумно затворилась входная дверь, передние уже стояли на пороге комнаты, с широко раскрытыми глазами, в почтительном молчании, переводя взгляд с портного на кровать. Портной и тут не поднял головы, только положил ее на руки и продолжал молчать. Он не плакал; просто очень устал. А в постели, тяжело и глубоко дыша, лежал капитан, полураскрыв тонкие губы. Он никого не узнавал.
Женщина подтолкнула мальчиков вперед:
– Подойдите же к нему.
Медленно они сделали несколько шагов по направлению к кровати. Но ноги с трудом им повиновались. Один подбодрял другого:
– Иди, иди.
– Нет, ты сначала.
– Но ведь ты глава делегации, – сказал Барабаш. Тогда Вейс медленно приблизился к постели. За ним на цыпочках подошли остальные. Больной не смотрел на них.
– Начинай, – шепнул Барабаш.
– Послушай, Эрне… – дрожащим голосом начал Вейс. Но Немечек не слышал. Тяжело дыша, он пристально смотрел куда-то в стенку.
– Немечек! – повторил Вейс, чувствуя, как к горлу у него подступают слезы.
– Не реви, – шепнул ему на ухо Барабаш.
– Я не реву, – ответил Вейс, радуясь, что хоть это сумел вымолвить.
Потом собрался с силами.
– Уважаемый господин капитан! – начал он свою речь, вытаскивая из кармана какую-то бумагу. – Поскольку мы явились… я как председатель… настоящим от имени общества… так как мы ошиблись и просим у тебя прощения… Здесь, в этом адресе, все написано…
Он обернулся. На глазах у него показались слезы. Но он ни за что не отступил бы от официального тона, который был им дороже всего на свете.
– Господин секретарь, – прошептал он. – Подайте сюда книгу общества.
Лесик с готовностью подал книгу. Вейс робко установил ее на краю постели и, перелистав, открыл страницу со знаменитым «Протоколом».
– Смотри, – сказал он больному. – Вот.
Ответа не было. Мальчики подошли еще ближе к постели. Мать, вся дрожа, бросилась вперед и припала к ребенку.
– Слушай, – каким-то чужим, дрогнувшим голосом сказала она мужу, – он не дышит…
И приложила ухо к его груди.
– Ты слышишь! – закричала она как безумная. – Он не дышит!
Мальчики попятились назад и, тесно прижавшись друг к дружке, столпились в углу каморки. Книга общества скользнула на пол, раскрытая на той странице, которую отыскал Вейс.
– Слышишь? У него похолодели руки! – в исступлении кричала мать.
И в глубокой, гнетущей тишине, наступившей вслед за этими словами, вдруг послышались рыдания портного, который до тех пор безмолвно, неподвижно сидел на своем табурете, опустив голову на руки. Он плакал тихо, почти беззвучно, как плачут серьезные, взрослые люди, и плечи его вздрагивали от рыданий. Но бедняга и тут не забыл о красивом коричневом пиджаке господина Четнеки, – спустил его с колен на пол, чтобы не закапать слезами.
Мать обнимала, целовала своего мертвого ребенка. Потом опустилась перед постелью на колени и, зарывшись лицом в подушки, тоже стала рыдать. А Эрне Немечек, секретарь «Общества замазки», капитан армии пустыря, белый как мел, лежал навзничь с закрытыми глазами, успокоившись навеки, и теперь уже можно было с полной уверенностью сказать, что он не видит и не слышит ничего вокруг.
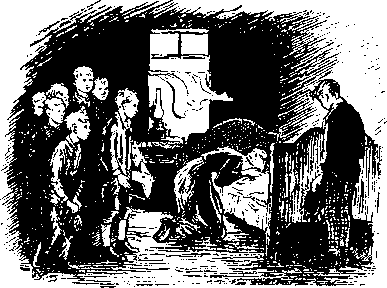
– Опоздали, – прошептал Барабаш.
Бока стоял посреди комнаты, поникнув головой. Только что, всего несколько минут назад, он, сидя на краю постели, еле удерживал рыдания, а сейчас с удивлением чувствовал, что глаза его сухи и он не может плакать. В душе его была страшная пустота. Обведя взглядом комнату, он заметил мальчиков, забившихся в угол. Впереди стоял Вейс с адресом в руках, которого Немечек так и не увидел.
Бока подошел к ним:
– Ступайте домой.
И они, бедняжки, даже обрадовались, что можно уйти из этой чужой, незнакомой каморки, где лежит на постели тело их товарища. Один за другим выбрались они оттуда на кухню, а из кухни – на залитый солнцем двор. Последним был Лесик: он нарочно задержался. Когда все вышли, Лесик на цыпочках подошел к кровати и, взглянув на постель, на капитана, тихо покоившегося на ней, осторожно поднял с пола книгу общества.
Потом, догоняя остальных, выбежал наружу, во двор, где в лучах солнца щебетали на хилых деревцах веселые молодые воробьи. Мальчики стояли и смотрели на птиц, не понимая толком, что произошло. Они знали, что товарищ их умер, но смысл этого оставался им неясен. В недоумении поглядывали они друг на друга, пораженные непонятным, неведомым явлением, с которым им пришлось столкнуться впервые в жизни.
Когда Бока вышел на улицу, уже смеркалось. Надо было идти готовить уроки: завтра – трудный день. Завтра латынь, а он так давно не отвечал, что господин Рац наверняка его вызовет. Но было не до уроков. Он отодвинул в сторону учебник и словарь и вышел из дому.
Бесцельно принялся он бродить по улицам, невольно избегая улицы Пала и других знакомых окрестностей. Сердце у него сжималось при одной мысли о том, что он в такой печальный день может увидеть пустырь.
Но куда бы он ни направлялся, везде что-нибудь да напоминало ему о Немечеке.
Проспект Юллё…
Здесь они втроем – с Чонакошем – проходили, отправляясь в первый раз на разведку в Ботанический сад.
Улица Кёзтелек…
Посреди этой маленькой улички они стояли однажды в полдень, после уроков, и Немечек с глубокой серьезностью рассказывал, как накануне в саду Национального музея Пасторы отняли у него шарики. А Чонакош пошел к табачной фабричке, соскреб с оконной решетки немного табачной пыли и втянул ее в нос. Как они тогда расчихались!
Окрестности музея…
Оттуда он тоже повернул обратно. И понял, что чем упорней избегает пустыря, тем сильней влечет его туда какое-то щемящее чувство. Наконец он решился: чем бродить вокруг да около, лучше смело пойти прямо на пустырь. И сразу почувствовал облегчение. Он ускорил шаг, чтобы попасть туда поскорей. И чем ближе подходил Бока к их общему мальчишечьему царству, тем спокойней становилось у него на душе. На улице Марии он так ясно ощутил эту успокоительную близость, что пустился бежать, охваченный желанием очутиться наконец на пустыре. И когда, добежав до угла, различил в сгущавшихся сумерках хорошо знакомый серый забор, сердце у него так и забилось. Пришлось остановиться. Да и спешить уже было некуда: он у цели. Медленно подошел он к пустырю. Калитка была открыта. Возле нее, прислонившись спиной к дощатому забору, стоял Яно с трубкой в зубах. Увидев Боку, он, осклабясь, кивнул ему:
– Разбили их!
Бока печально улыбнулся в ответ.
Но Яно воспламенился:
– Разбили!.. Выгнали!.. Вышвырнули!..
– Да, – чуть слышно произнес генерал.
Молча постоял он рядом со словаком, потом спросил:
– Знаешь, Яно, что случилось?
– Что?
– Немечек умер.
Словак сделал большие глаза и вынул трубку изо рта.
– Который это Немечек? – спросил он.
– Маленький такой, белокурый.
– Ага, – промолвил словак и опять сунул трубку в рот. – Бедняга.
Бока вошел в калитку. Большой незастроенный участок земли, свидетель стольких веселых игр, был теперь тих и спокоен. Бока медленно перешел его и остановился у рва. Ров еще хранил следы боя. На песке всюду виднелись отпечатки ног. Бруствер местами осыпался, обрушенный бойцами, когда они по сигналу атаки вылезали из окопа.
А дальше высились темные, черные громады штабелей, увенчанные фортами, стены которых были осыпаны самодельным «порохом» – песком.

Генерал присел на бруствер, подперев голову рукой. Тихо-тихо было на пустыре. Тонкая железная труба, успевшая к вечеру остыть, дожидалась утра, когда прилежные руки снова разведут под ней огонь. И пила тоже отдыхала; и домик дремал, обвитый плетями дикого винограда, на которых уже распускались листочки. Издали, словно сквозь дрему, доносился городской шум. Гремели экипажи, слышались возгласы. А из выходившего в соседний двор окна, в котором уже зажегся свет, лилась веселая песня. Это служанка, наверно, распевала на кухне.
Бока встал и пошел налево, к сторожке. Там, где Немечек, словно легендарный Давид – Голиафа, поверг наземь Фери Ача, он наклонился и стал отыскивать на песке дорогие следы, которые так же исчезнут, как исчез его маленький друг из этого мира… Земля здесь была вся взрыта, но следов не оказалось. А уж он, Бока, узнал бы их! Следы Немечека были ведь так малы, что краснорубашечники удивились, обнаружив их в развалинах в тот памятный день: нога у него была даже меньше, чем у Вендауэра…
Вздохнув, Бока побрел дальше. Миновал форт номер три, на вершине которого белокурый мальчуган в первый раз увидел Фери Ача, когда тот, глянув на него сверху, крикнул: «Смелей, Немечек!»
Генерал устал. День этот измучил его душевно и физически. Он даже пошатывался, как пьяный. С трудом взобрался он на форт номер два и примостился наверху. Тут, по крайней мере, никто его не видит, никто не мешает отдаться дорогим воспоминаниям, а может, и выплакать свое горе, если только удастся заплакать.
Вдруг ветер донес до него чьи-то голоса. Он посмотрел вниз и заметил у сторожки две маленькие темные фигуры.
В темноте Бока не мог разобрать, кто это – свои или чужие, и стал прислушиваться: может быть, удастся узнать по голосам.
Внизу тихонько разговаривали два мальчика.
– Слушай, Барабаш, – говорил один, – вот мы стоим на том самом месте, где бедный Немечек спас нашу державу. Наступило молчание.
– Давай мириться, Барабаш, – опять послышался голос. – Только по-настоящему, навсегда. Ну чего нам ссориться?
– Ладно, – буркнул растроганный Барабаш. – Помиримся. Раз уж для того пришли…
Снова наступила тишина. Оба молча стояли друг против друга: каждый ждал, чтобы другой сделал первый шаг к примирению.
– Значит, мир, – промолвил наконец Колнаи.
– Значит, мир, – с чувством отозвался Барабаш.
Они пожали друг другу руки и долго стояли, не разнимая их. Потом, ни слова не говоря, обнялись.
Свершилось. И это чудо свершилось… Бока сверху, из форта, смотрел на них, ничем не выдавая своего присутствия. Ему так хотелось побыть одному… Да и с какой стати мешать им?
Но вот два друга направились к улице Пала, негромко беседуя.
– На завтра по латыни много задано, – сказал Барабаш.
– Да, – подтвердил Колнаи.
– Тебе хорошо, – вздохнул Барабаш, – ты вчера отвечал. А меня давно не вызывали, значит, на днях обязательно вызовут.
– Смотри не забудь: тринадцать строк из второй главы, с десятой по двадцать третью, учить не надо, – сказал Колнаи. – У тебя отмечено?
– Нет.
– Но ты же не станешь все зубрить – и нужное и ненужное? Давай я зайду сейчас к тебе и отмечу.
– Ладно.
Ну вот, у этих двух уже уроки на уме. Эти быстро забыли. Немечек умер, но зато господин Рац живет и здравствует, и латынь тоже, а самое главное – сами они живы и здоровы…
Ушли, потонули в вечерних сумерках. И Бока остался наконец совсем один. Но на душе у него было неспокойно. Кроме того, становилось уже поздно. С йожефварошского собора плыли мягкие звуки благовеста.
Бока спустился вниз, постоял у сторожки. Он увидел Яно, который шел назад от калитки. Рядом с ним, виляя хвостом и поводя носом, бежал Гектор. Бока подождал их.
– Ну? – спросил словак. – Барчук не пойдет домой?
– Иду уже, – возразил Бока.
– А дома вкусный, горячий ужин, – снова осклабился сторож.
– Вкусный, горячий ужин, – машинально повторил Бока и подумал, что и в домике бедняка-портного, на кухне, тоже садятся сейчас ужинать двое: портной и его жена. А в комнатке горят свечи. И висит красивый двубортный пиджак господина Четнеки.
Просто так, мимоходом, заглянул Бока в сторожку.
Там ему бросились в глаза какие-то странные предметы, прислоненные к стене. Красно-белый жестяной кружок, вроде тех, что держат стрелочники, когда мимо будки проносится скорый поезд. Потом какая-то тренога с медной трубой наверху, белые крашеные рейки…
– Что это? – спросил он. Яно заглянул внутрь:
– Это? Это – господина инженера.
– Какого господина инженера?
– Инженера-строителя. У Боки сердце так и упало.
– Строителя? Что ему здесь нужно? Яно затянулся трубкой.
– Строить будут.
– Здесь?
– Здесь. В понедельник придут рабочие, начнут копать… ров выроют… фундамент заложат…
– Как! – воскликнул Бока. – Здесь будут строить дом?!
– Дом, – равнодушно подтвердил словак, – большой, четырехэтажный… Владелец пустыря хочет строить здесь дом.
И ушел в сторожку.
Боке показалось, будто весь мир перевернулся. Слезы наконец брызнули у него из глаз. Он быстро пошел, а потом побежал к выходу. Он спасался бегством, спеша покинуть эту неверную землю, которую они защищали с такой страстью, таким геройством и которая теперь так вероломно навсегда отказывалась от них ради большого доходного дома.
У выхода Бока еще раз оглянулся назад, как изгнанник, навеки покидающий родину. И к великой скорби, сжавшей его сердце, примешалась капля слабого, но все же утешения. Пусть не дожил бедный Немечек до того момента, когда делегация «Общества замазки» пришла просить у него прощения, зато он, по крайней мере, не увидел, как у него отнимают родину, за которую он погиб.
На другой день весь класс в торжественном молчании застыл на своих местах, и господин Рац неторопливо, серьезно и величественно поднялся на кафедру, чтобы в глубокой тишине помянуть тихим словом Эрне Немечека и пригласить всех завтра, в три часа, собраться в черной или хотя бы темной одежде на Ракошской улице. Слушая его, Янош Бока пристально смотрел на парту прямо перед собой, и в его неискушенной детской душе впервые забрезжила догадка о том, что же, собственно, такое – эта жизнь, которой все мы служим, страдая, радуясь и борясь.
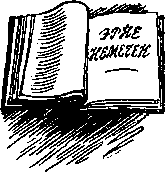
ПОСЛЕСЛОВИЕ
– Раз! Вот я тебя и повалил!
Господин Четнеки снял новый коричневый пиджак, и портной помог ему надеть старый.
– Когда будет готово?
– Послезавтра.
– Хорошо. Только смотрите, чтоб не пришлось опять ждать неделю. У вас еще какой-нибудь заказ?
– Нет, сударь… вот только ребенок. Господин Четнеки пожал плечами:
– Прискорбный случай, весьма сожалею; но мне срочно нужен костюм. Принимайтесь живей за дело.
– Вот примусь, – вздохнул портной.
– До свидания! – промолвил господин Четнеки и удалился в отличном расположении духа. В дверях он еще раз крикнул:– За дело, за дело, живо!
Портной взял в руки красивый коричневый пиджак. Он вспомнил, что сказал врач. Позаботиться, о чем заботятся в таких случаях… Ну что ж, за дело. Как знать, на что пойдут те несколько форинтов, которые он выручит за коричневый пиджак. Перекочуют, наверно, в карман к столяру – к тому, что мастерит детские гробики. А господин Четнеки будет щеголять в своем новом костюме, прогуливаясь по набережной Дуная.
Портной вернулся в комнату и, не мешкая, принялся за шитье. Он уж не подымал больше глаз на постель сына, а только проворно орудовал иголкой, торопясь управиться с заказом. Работа во всех отношениях спешная: и господину Четнеки подавай, и столяру тоже.
А с маленьким капитаном уже никакого сладу не было. Собравшись с силами, он во весь рост встал на постели. Длинная ночная рубашонка доставала ему до пят. На голове его красовалась сдвинутая набекрень ало-зеленая фуражка. Рука отдавала честь. Он уже не говорил, а хрипел, блуждая взглядом где-то в пространстве:
– Честь имею, господин генерал: командир краснорубашечников положен на обе лопатки. Прошу о повышении! Можете уже считать меня капитаном. За родину я сражался и за родину погиб! Трара! Трара! Труби, Колнаи!
Он ухватился одной рукой за спинку кровати.
– Форты, открыть бомбардировку! Ха-ха! Вон Яно идет! Внимание, Яно! Ты тоже будешь капитаном! И твоего имени уж не напишут с маленькой буквы! Тьфу! Злое сердце у вас, ребята! Позавидовали, что Бока меня любит, что он со мной дружит, а не с вами! «Общество замазки» просто чушь! Выхожу! Выхожу из общества!
И тихо добавил:
– Прошу занести в протокол.
А портной за своим низеньким столиком ничего не видел и не слышал. Костлявые пальцы его так и сновали по материи, только иголка с наперстком поблескивали. Ни за что на свете не взглянул бы он сейчас на сына. Он боялся, что посмотрит туда – и потеряет всякую охоту что-нибудь делать, швырнет на пол изящный пиджак господина Четнеки и сам рухнет на постель рядом со своим мальчиком.
Капитан сел и молча уставился на одеяло.
– Устал? – тихо спросил Бока.
Он не ответил. Бока укрыл его. Мать поправила подушку.
– Ну, теперь полежи тихонько. Отдохни. Мальчик невидящим взором поглядел на Боку. На его лице отобразилось удивление.
– Папа… – пролепетал он.
– Нет… я не папа… – глухо произнес генерал. – Ты не узнаешь меня? Я – Бока Янош.
– Я… Бока… Янош… – усталым голосом тупо повторил за ним больной.
Наступило продолжительное молчание. Мальчуган закрыл глаза и так тяжело вздохнул, будто все скорби людские стеснились в его маленькой груди.
Стало тихо.
– Может, заснет, – прошептала мать. Она еле держалась на ногах, измученная бессонными ночами у постели ребенка.
– Отойдем, – так же шепотом ответил Бока.
Они сели в сторонке на потертый зеленый диван. Теперь и портной оставил свою работу: положил коричневый пиджак на колени и склонил голову над столиком. Все молчали. В дремотной тишине муху, и ту слышно было.
Со двора через окно донеслись детские голоса. Казалось, там толпой собрались дети, которые вполголоса переговариваются друг с другом.
Вдруг слуха Боки коснулось знакомое имя. Кто-то шепотом произнес:
– Барабаш.
Бока встал и на цыпочках вышел из комнаты. Открыл стеклянную дверь кухни и увидел во дворе знакомые лица: у входа робко теснилась целая стайка мальчишек с улицы Пала.
– Это вы?
– Мы, – шепотом ответил Вейс. – Все «Общество замазки» в полном составе.
– Вам чего?
– Мы адрес ему принесли, в нем написано красными чернилами, что общество просит у него прощения и что его имя вписано в Большую книгу одними заглавными буквами. Книга с нами. И делегация вся здесь.
– Не могли пораньше прийти! – покачал головой Бока.
– А что?
– А то, что он сейчас спит.
Члены делегации переглянулись.
– Раньше мы не могли: спорили, кому главой делегации быть. Чуть не полчаса препирались, пока Вейса выбрали. На пороге появилась хозяйка.
– Он не спит, – сказала она. – Бредит. Мальчики оцепенели. Они были потрясены.
– Входите, ребятки, – сказала мать Немечека. – Может, увидит вас – и в себя придет, бедняжка.
И она распахнула дверь. Мальчики друг за дружкой вошли – застенчиво, благоговейно, словно в церковь. Еще во дворе они сняли шляпы. И когда за последним из них бесшумно затворилась входная дверь, передние уже стояли на пороге комнаты, с широко раскрытыми глазами, в почтительном молчании, переводя взгляд с портного на кровать. Портной и тут не поднял головы, только положил ее на руки и продолжал молчать. Он не плакал; просто очень устал. А в постели, тяжело и глубоко дыша, лежал капитан, полураскрыв тонкие губы. Он никого не узнавал.
Женщина подтолкнула мальчиков вперед:
– Подойдите же к нему.
Медленно они сделали несколько шагов по направлению к кровати. Но ноги с трудом им повиновались. Один подбодрял другого:
– Иди, иди.
– Нет, ты сначала.
– Но ведь ты глава делегации, – сказал Барабаш. Тогда Вейс медленно приблизился к постели. За ним на цыпочках подошли остальные. Больной не смотрел на них.
– Начинай, – шепнул Барабаш.
– Послушай, Эрне… – дрожащим голосом начал Вейс. Но Немечек не слышал. Тяжело дыша, он пристально смотрел куда-то в стенку.
– Немечек! – повторил Вейс, чувствуя, как к горлу у него подступают слезы.
– Не реви, – шепнул ему на ухо Барабаш.
– Я не реву, – ответил Вейс, радуясь, что хоть это сумел вымолвить.
Потом собрался с силами.
– Уважаемый господин капитан! – начал он свою речь, вытаскивая из кармана какую-то бумагу. – Поскольку мы явились… я как председатель… настоящим от имени общества… так как мы ошиблись и просим у тебя прощения… Здесь, в этом адресе, все написано…
Он обернулся. На глазах у него показались слезы. Но он ни за что не отступил бы от официального тона, который был им дороже всего на свете.
– Господин секретарь, – прошептал он. – Подайте сюда книгу общества.
Лесик с готовностью подал книгу. Вейс робко установил ее на краю постели и, перелистав, открыл страницу со знаменитым «Протоколом».
– Смотри, – сказал он больному. – Вот.
Ответа не было. Мальчики подошли еще ближе к постели. Мать, вся дрожа, бросилась вперед и припала к ребенку.
– Слушай, – каким-то чужим, дрогнувшим голосом сказала она мужу, – он не дышит…
И приложила ухо к его груди.
– Ты слышишь! – закричала она как безумная. – Он не дышит!
Мальчики попятились назад и, тесно прижавшись друг к дружке, столпились в углу каморки. Книга общества скользнула на пол, раскрытая на той странице, которую отыскал Вейс.
– Слышишь? У него похолодели руки! – в исступлении кричала мать.
И в глубокой, гнетущей тишине, наступившей вслед за этими словами, вдруг послышались рыдания портного, который до тех пор безмолвно, неподвижно сидел на своем табурете, опустив голову на руки. Он плакал тихо, почти беззвучно, как плачут серьезные, взрослые люди, и плечи его вздрагивали от рыданий. Но бедняга и тут не забыл о красивом коричневом пиджаке господина Четнеки, – спустил его с колен на пол, чтобы не закапать слезами.
Мать обнимала, целовала своего мертвого ребенка. Потом опустилась перед постелью на колени и, зарывшись лицом в подушки, тоже стала рыдать. А Эрне Немечек, секретарь «Общества замазки», капитан армии пустыря, белый как мел, лежал навзничь с закрытыми глазами, успокоившись навеки, и теперь уже можно было с полной уверенностью сказать, что он не видит и не слышит ничего вокруг.
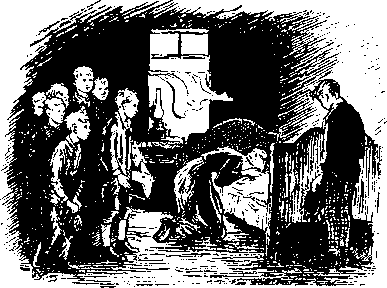
– Опоздали, – прошептал Барабаш.
Бока стоял посреди комнаты, поникнув головой. Только что, всего несколько минут назад, он, сидя на краю постели, еле удерживал рыдания, а сейчас с удивлением чувствовал, что глаза его сухи и он не может плакать. В душе его была страшная пустота. Обведя взглядом комнату, он заметил мальчиков, забившихся в угол. Впереди стоял Вейс с адресом в руках, которого Немечек так и не увидел.
Бока подошел к ним:
– Ступайте домой.
И они, бедняжки, даже обрадовались, что можно уйти из этой чужой, незнакомой каморки, где лежит на постели тело их товарища. Один за другим выбрались они оттуда на кухню, а из кухни – на залитый солнцем двор. Последним был Лесик: он нарочно задержался. Когда все вышли, Лесик на цыпочках подошел к кровати и, взглянув на постель, на капитана, тихо покоившегося на ней, осторожно поднял с пола книгу общества.
Потом, догоняя остальных, выбежал наружу, во двор, где в лучах солнца щебетали на хилых деревцах веселые молодые воробьи. Мальчики стояли и смотрели на птиц, не понимая толком, что произошло. Они знали, что товарищ их умер, но смысл этого оставался им неясен. В недоумении поглядывали они друг на друга, пораженные непонятным, неведомым явлением, с которым им пришлось столкнуться впервые в жизни.
Когда Бока вышел на улицу, уже смеркалось. Надо было идти готовить уроки: завтра – трудный день. Завтра латынь, а он так давно не отвечал, что господин Рац наверняка его вызовет. Но было не до уроков. Он отодвинул в сторону учебник и словарь и вышел из дому.
Бесцельно принялся он бродить по улицам, невольно избегая улицы Пала и других знакомых окрестностей. Сердце у него сжималось при одной мысли о том, что он в такой печальный день может увидеть пустырь.
Но куда бы он ни направлялся, везде что-нибудь да напоминало ему о Немечеке.
Проспект Юллё…
Здесь они втроем – с Чонакошем – проходили, отправляясь в первый раз на разведку в Ботанический сад.
Улица Кёзтелек…
Посреди этой маленькой улички они стояли однажды в полдень, после уроков, и Немечек с глубокой серьезностью рассказывал, как накануне в саду Национального музея Пасторы отняли у него шарики. А Чонакош пошел к табачной фабричке, соскреб с оконной решетки немного табачной пыли и втянул ее в нос. Как они тогда расчихались!
Окрестности музея…
Оттуда он тоже повернул обратно. И понял, что чем упорней избегает пустыря, тем сильней влечет его туда какое-то щемящее чувство. Наконец он решился: чем бродить вокруг да около, лучше смело пойти прямо на пустырь. И сразу почувствовал облегчение. Он ускорил шаг, чтобы попасть туда поскорей. И чем ближе подходил Бока к их общему мальчишечьему царству, тем спокойней становилось у него на душе. На улице Марии он так ясно ощутил эту успокоительную близость, что пустился бежать, охваченный желанием очутиться наконец на пустыре. И когда, добежав до угла, различил в сгущавшихся сумерках хорошо знакомый серый забор, сердце у него так и забилось. Пришлось остановиться. Да и спешить уже было некуда: он у цели. Медленно подошел он к пустырю. Калитка была открыта. Возле нее, прислонившись спиной к дощатому забору, стоял Яно с трубкой в зубах. Увидев Боку, он, осклабясь, кивнул ему:
– Разбили их!
Бока печально улыбнулся в ответ.
Но Яно воспламенился:
– Разбили!.. Выгнали!.. Вышвырнули!..
– Да, – чуть слышно произнес генерал.
Молча постоял он рядом со словаком, потом спросил:
– Знаешь, Яно, что случилось?
– Что?
– Немечек умер.
Словак сделал большие глаза и вынул трубку изо рта.
– Который это Немечек? – спросил он.
– Маленький такой, белокурый.
– Ага, – промолвил словак и опять сунул трубку в рот. – Бедняга.
Бока вошел в калитку. Большой незастроенный участок земли, свидетель стольких веселых игр, был теперь тих и спокоен. Бока медленно перешел его и остановился у рва. Ров еще хранил следы боя. На песке всюду виднелись отпечатки ног. Бруствер местами осыпался, обрушенный бойцами, когда они по сигналу атаки вылезали из окопа.
А дальше высились темные, черные громады штабелей, увенчанные фортами, стены которых были осыпаны самодельным «порохом» – песком.

Генерал присел на бруствер, подперев голову рукой. Тихо-тихо было на пустыре. Тонкая железная труба, успевшая к вечеру остыть, дожидалась утра, когда прилежные руки снова разведут под ней огонь. И пила тоже отдыхала; и домик дремал, обвитый плетями дикого винограда, на которых уже распускались листочки. Издали, словно сквозь дрему, доносился городской шум. Гремели экипажи, слышались возгласы. А из выходившего в соседний двор окна, в котором уже зажегся свет, лилась веселая песня. Это служанка, наверно, распевала на кухне.
Бока встал и пошел налево, к сторожке. Там, где Немечек, словно легендарный Давид – Голиафа, поверг наземь Фери Ача, он наклонился и стал отыскивать на песке дорогие следы, которые так же исчезнут, как исчез его маленький друг из этого мира… Земля здесь была вся взрыта, но следов не оказалось. А уж он, Бока, узнал бы их! Следы Немечека были ведь так малы, что краснорубашечники удивились, обнаружив их в развалинах в тот памятный день: нога у него была даже меньше, чем у Вендауэра…
Вздохнув, Бока побрел дальше. Миновал форт номер три, на вершине которого белокурый мальчуган в первый раз увидел Фери Ача, когда тот, глянув на него сверху, крикнул: «Смелей, Немечек!»
Генерал устал. День этот измучил его душевно и физически. Он даже пошатывался, как пьяный. С трудом взобрался он на форт номер два и примостился наверху. Тут, по крайней мере, никто его не видит, никто не мешает отдаться дорогим воспоминаниям, а может, и выплакать свое горе, если только удастся заплакать.
Вдруг ветер донес до него чьи-то голоса. Он посмотрел вниз и заметил у сторожки две маленькие темные фигуры.
В темноте Бока не мог разобрать, кто это – свои или чужие, и стал прислушиваться: может быть, удастся узнать по голосам.
Внизу тихонько разговаривали два мальчика.
– Слушай, Барабаш, – говорил один, – вот мы стоим на том самом месте, где бедный Немечек спас нашу державу. Наступило молчание.
– Давай мириться, Барабаш, – опять послышался голос. – Только по-настоящему, навсегда. Ну чего нам ссориться?
– Ладно, – буркнул растроганный Барабаш. – Помиримся. Раз уж для того пришли…
Снова наступила тишина. Оба молча стояли друг против друга: каждый ждал, чтобы другой сделал первый шаг к примирению.
– Значит, мир, – промолвил наконец Колнаи.
– Значит, мир, – с чувством отозвался Барабаш.
Они пожали друг другу руки и долго стояли, не разнимая их. Потом, ни слова не говоря, обнялись.
Свершилось. И это чудо свершилось… Бока сверху, из форта, смотрел на них, ничем не выдавая своего присутствия. Ему так хотелось побыть одному… Да и с какой стати мешать им?
Но вот два друга направились к улице Пала, негромко беседуя.
– На завтра по латыни много задано, – сказал Барабаш.
– Да, – подтвердил Колнаи.
– Тебе хорошо, – вздохнул Барабаш, – ты вчера отвечал. А меня давно не вызывали, значит, на днях обязательно вызовут.
– Смотри не забудь: тринадцать строк из второй главы, с десятой по двадцать третью, учить не надо, – сказал Колнаи. – У тебя отмечено?
– Нет.
– Но ты же не станешь все зубрить – и нужное и ненужное? Давай я зайду сейчас к тебе и отмечу.
– Ладно.
Ну вот, у этих двух уже уроки на уме. Эти быстро забыли. Немечек умер, но зато господин Рац живет и здравствует, и латынь тоже, а самое главное – сами они живы и здоровы…
Ушли, потонули в вечерних сумерках. И Бока остался наконец совсем один. Но на душе у него было неспокойно. Кроме того, становилось уже поздно. С йожефварошского собора плыли мягкие звуки благовеста.
Бока спустился вниз, постоял у сторожки. Он увидел Яно, который шел назад от калитки. Рядом с ним, виляя хвостом и поводя носом, бежал Гектор. Бока подождал их.
– Ну? – спросил словак. – Барчук не пойдет домой?
– Иду уже, – возразил Бока.
– А дома вкусный, горячий ужин, – снова осклабился сторож.
– Вкусный, горячий ужин, – машинально повторил Бока и подумал, что и в домике бедняка-портного, на кухне, тоже садятся сейчас ужинать двое: портной и его жена. А в комнатке горят свечи. И висит красивый двубортный пиджак господина Четнеки.
Просто так, мимоходом, заглянул Бока в сторожку.
Там ему бросились в глаза какие-то странные предметы, прислоненные к стене. Красно-белый жестяной кружок, вроде тех, что держат стрелочники, когда мимо будки проносится скорый поезд. Потом какая-то тренога с медной трубой наверху, белые крашеные рейки…
– Что это? – спросил он. Яно заглянул внутрь:
– Это? Это – господина инженера.
– Какого господина инженера?
– Инженера-строителя. У Боки сердце так и упало.
– Строителя? Что ему здесь нужно? Яно затянулся трубкой.
– Строить будут.
– Здесь?
– Здесь. В понедельник придут рабочие, начнут копать… ров выроют… фундамент заложат…
– Как! – воскликнул Бока. – Здесь будут строить дом?!
– Дом, – равнодушно подтвердил словак, – большой, четырехэтажный… Владелец пустыря хочет строить здесь дом.
И ушел в сторожку.
Боке показалось, будто весь мир перевернулся. Слезы наконец брызнули у него из глаз. Он быстро пошел, а потом побежал к выходу. Он спасался бегством, спеша покинуть эту неверную землю, которую они защищали с такой страстью, таким геройством и которая теперь так вероломно навсегда отказывалась от них ради большого доходного дома.
У выхода Бока еще раз оглянулся назад, как изгнанник, навеки покидающий родину. И к великой скорби, сжавшей его сердце, примешалась капля слабого, но все же утешения. Пусть не дожил бедный Немечек до того момента, когда делегация «Общества замазки» пришла просить у него прощения, зато он, по крайней мере, не увидел, как у него отнимают родину, за которую он погиб.
На другой день весь класс в торжественном молчании застыл на своих местах, и господин Рац неторопливо, серьезно и величественно поднялся на кафедру, чтобы в глубокой тишине помянуть тихим словом Эрне Немечека и пригласить всех завтра, в три часа, собраться в черной или хотя бы темной одежде на Ракошской улице. Слушая его, Янош Бока пристально смотрел на парту прямо перед собой, и в его неискушенной детской душе впервые забрезжила догадка о том, что же, собственно, такое – эта жизнь, которой все мы служим, страдая, радуясь и борясь.
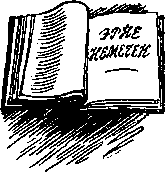
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Повесть «Мальчишки с улицы Пала» написана давно, почти полстолетия назад – в 1908 году. Автор ее, венгерский писатель и драматург Ференц Молнар (1878–1952), был тогда еще сравнительно мало известен. Но ранние (прозаические) произведения, создававшиеся им в начале века, заняли в его творчестве и венгерской литературе гораздо более значительное и почетное место, чем те многочисленные пьесы, которые потом, в 20 – 30-х годах, принесли ему широкое признание буржуазной публики. В ранние свои произведения писатель вкладывал искреннюю боль о человеческих душах, которые калечило ужасное «бремя частной собственности», отвращение к продажному, пошлому и жестокому миру наживы. В зрелые годы Молнар сам оказался жертвой этого мира: стал писать для денег, для успеха. Его жизнь и творческая эволюция – это печальная история растраты, гибели таланта, крушения человека, отказавшегося от борьбы со злом. «Модный» драматург Ференц Молнар, угождающий в своих внешне остроумных пьесах пошлым обывательским вкусам, – это уже совсем не тот Молнар, который, с такой живой и теплой непосредственностью и таким сердечным волнением писал когда-то о немудреных играх и больших чувствах мальчишек с улицы Пала…
«Мальчишки с улицы Пала»– «детская» книга. Но деление на книги «для детей» и «для взрослых» нередко очень условно. «Детские» ли книги «Оливер Твист» Диккенса или «Капитанская дочка» Пушкина?… Мы знаем, как часто мудрые, обладающие глубоким человеческим содержанием книги «для взрослых» становятся излюбленным детским чтением.
И наоборот – разве всякая по-настоящему хорошая книга, написанная для детей, не заключает в себе серьезной, большой идеи, которая заставляет задумываться, делает «взрослее»?… Так же и «Мальчишки с улицы Пала». В повести Ференца Молнара тоже заложен большой, серьезный вопрос, затрагивающий самые глубокие, заветные чувства: в чем долг человека? Как поступать? К чему стремиться?… И тогда, в 1908 году, писатель ответил на этот ставший для него впоследствии роковым вопрос очень скромно, мудро и человечно. Глубиной и человечностью содержания и волнует эта повесть, хорошо известная в Венгрии всем и каждому. Она читается в детстве, а потом остается с человеком на всю жизнь, как с нами остаются «Детство Темы» или «Приключения Гекльберри Финна» и другие любимые детские книги.
Наши игры в детстве часто бывают подражанием взрослым. Такие игры всегда самые интересные: ведь они похожи на серьезную, настоящую жизнь. И мальчишки, изображаемые Молнаром, тоже подражают в своих играх взрослым: устраивают собрания, на которых ведутся настоящие протоколы; играют в войну, строя «настоящие» форты и бастионы на дровяных штабелях. А так как мальчишки они венгерские, то у них живой отзвук находят события венгерской действительности: знамя шьется трехцветное; девизом избираются гордые слова «Национальной песни» Шандора Петефи, сложенной в дни венгерской революции 1848 года; и пустырь, место своих игр, они называют «отечеством», защищая его подобно тому, как отцы их защищали родину от австрийских войск.
Правда, легко заметить, что это детское увлечение делами большими, серьезными, которые вдохновляют и взрослых, проявляется у мальчишек с улицы Пала по-разному, соответственно неодинаковым стремлениям и склонностям. Одним, например, больше нравится говорить официальные фразы, выносить выговоры, вести протоколы. Им кажется самой важной и серьезной подсмотренная у взрослых внешняя сторона жизни. Поэтому их игра превращается в бессмысленное копирование, смешное обезьянничанье. Это члены пресловутого «Общества замазки» с их глубокомысленным соблюдением разных формальных правил и не менее «глубокомысленным занятием»– жеванием замазки. Читая об их спорах, как правильнее вычеркнуть имя Немечека из черной книги, и борьбе партий по этому вопросу, те, кто знаком с замечательной сатирой английского писателя Свифта «Путешествия Гулливера», вспомнят, наверно, знаменитую распрю «тупоконечников» и «остроконечников» в Лилипутии. И в самом деле, в изображении «Общества замазки» таится шутливый намек на бесчисленные либеральные общества, которые процветали тогда в Венгрии. На заседаниях этих обществ то и дело повторялись имена Кошута и Петефи, без конца говорилось о национальной чести, патриотических заветах; но ничего подлинно живого в их деятельности не было: осталась одна трескучая риторика, пережевывание тягучей словесной «замазки».
Но среди мальчишек с улицы Пала есть и другие (например, Бока, Немечек), которых заботят не церемонии, условности, а внутреннее, нравственное содержание жизни. Играя в войну, они тоже увлекаются чинами, военными приветствиями, приказами и диспозициями. Но их больше всего волнуют честность и обман, дружба и вероломство, справедливость и несправедливость (вспомним наглый «эйнштанд» Пасторов)– одним словом, всё живые, человеческие вопросы. Они не просто подражают, а живут: возмущаются настоящими подлостями, сопротивляются грубому произволу мальчишек из Ботанического сада, которые хотят отнять у них пустырь, поддерживают друг друга в беде. И если Вейс или Лесик и другие заправилы «Общества замазки», то и дело ссорящиеся друг с другом из-за пустяков, кажутся нам смешными и глупыми не по летам, то Немечек, Бока вызывают глубокое уважение и симпатию: в них мы уже чувствуем людей с богатой внутренней жизнью. Бока и Немечек, главные герои повести, в свою очередь, мальчики очень разные. Основное различие между ними заключается, пожалуй, в том, что Бока на все смотрит очень сознательно. Это вдумчивый, честный и серьезный мальчик, твердо решивший, как надо поступать в жизни. Бока, так сказать, сам себя воспитывает: он человек строгих правил. А впечатлительный и порывистый Немечек не задумывается ни о каких правилах. Рассудительность и спокойная уверенность Боки ему несвойственны: он – сама непосредственность и повинуется чувству. Но сердце у него горячее, чуткое ко всякой несправедливости. По мере того как развертывается оборона пустыря, в которой все принимают участие, раскрывается чистая, самоотверженная натура Немечека, чьи переживания, судьба постепенно выдвигаются на главное место в повествовании.
«Мальчишки с улицы Пала» – это, собственно, повесть о том, как слабосильный, хрупкий и вовсе не храбрый мальчик, которого все могут обидеть и каждый считает ниже себя, вопреки общим ожиданиям, оказывается способным на смелые, решительные поступки, выручает товарищей, спасает честь любимого пустыря… И это ему вовсе не легко дается. Он страдает – страдает не только физически, но и морально: ему не верят, считают трусом, лжецом, а члены «Общества замазки», которые не видят дальше своего носа, объявляют даже изменником. Но он скрепя сердце продолжает делать свое дело, потому что общее благополучие, удача мальчишек с улицы Пала для него важнее всего остального, важнее обид, самолюбия. Это для Гереба выше всего он сам, его собственная удача; это Геребом руководят только честолюбие, желание выдвинуться во что бы то ни стало, которое доводит его до низкого предательства. А Немечек вовсе не рассчитывает на похвалы, награду, когда больной прибегает на «войну» и опрокидывает наземь грозного Фери Ача. Просто он за товарищей беспокоится, за пустырь, который могут у них отнять, за будущее их маленького дружеского союза. Таким уж он создан, что все принимает близко к сердцу и ко всему относится серьезно. Поэтому несправедливости, неудачи ранят его даже больнее, чем остальных. Но самозабвенная преданность делу приносит Немечеку и большое внутреннее удовлетворение. Приносит уважение, доверие мальчишек с улицы Пала и даже врагов – краснорубашечников. И это завоеванное, заслуженное уважение в тысячу раз слаще, приятнее, чем капитанский чин, чем даже знаменитая надпись – одними заглавными буквами – в Большой книге «Общества замазки»: «ЭРНЕ НЕМЕЧЕК».
Не каждый от природы бывает храбрым и сильным. Но разве человека создают одни лишь природные способности или только мнение окружающих? Человека создают его дело, стремление к благородной цели, которое придает силы, закаляет волю, помогая превозмочь боль, страх и стать выше самой горькой обиды… Образ Немечека заставляет нас почувствовать то, что смутно ощущает (и к чему по-своему стремится) его умный и честный друг Бока: смысл жизни и счастье – в самоотверженном служении общему благу, в побеждающей все препятствия верности долгу. В этом настоящая жизнь взрослого человека, полная борьбы, приносящая и радости и горе, – недолгая, но продолжающаяся вечно в великой созидательной жизни всего человечества. И хотя Немечек погиб, его светлый, трогательный образ долго будет жить в сердцах его товарищей, служа благородным примером, побуждая к честному, серьезному отношению к жизни.
Игра, начавшаяся весело и просто, перерастает в нечто очень серьезное и даже трагическое. Жизнь совсем не так проста, как казалось. В ней много сложного, непонятного, действуют какие-то несправедливые, суровые силы. Гибнет Немечек, совершивший замечательный подвиг. И пустырь, за который мальчишки с улицы Пала сражались с таким самозабвением, оплот их детской дружбы и счастья, уходит, отрекается от них, и никто из них не может ничего поделать. Столкнувшийся с этим трудным противоречием, увидевший, ощутивший всей душой, как сложна, ответственна и подчас мучительна жизнь, Бока – уже не прежний мальчик. Расставаясь с пустырем, он расстается с детством, вступая на порог зрелости.
И Молнар в этой книге тоже прощается с улетевшим детством, с миром чистых, благородных чувств, которых, как он знает, нет в мире обмана и наживы, где человек человеку – волк. И поэтому тоже история Немечека приобретает порой скорбный оттенок, и повесть кончается трагически. Но всякая трагедия не только потрясает, но в чем-то и умудряет. В жизни есть своя чистая, великая правда. И она не на стороне тупых, самодовольных чиновников вроде господина Четнеки, не на стороне и тех богатых бездельников, которых отцы снабжают деньгами и сигарами и которые с детства привыкают только командовать да обманывать, добиваться своего подлостью или грубой силой. Правда обитает в «скромных одноэтажных домиках», где живут Бока, портной Немечек и другие бедняки. Там, среди скромного трудового люда, рождаются и доброта, и самоотверженность, и настоящий героизм. Недаром через всю повесть проходит настойчивое противопоставление заносчивым «офицерам» презираемого ими «рядового» – Немечека, который на деле оказывается на целую голову выше их. Он начинает даже находить утешение, черпать своеобразную гордость в этом скромном звании: оно словно становится синонимом его правоты.
И мы верим, что горе Боки, потерявшего друга, увидевшего, как непрочно счастье в мире, где он живет, лишь укрепит мальчика. Вооруженный суровой жизненной мудростью, он пойдет и дальше прямой, честной дорогой, какой пошел бы и Немечек, если б его не унесла смерть. Впереди у Боки честное, трудовое будущее, неустанная работа на благо человечества. Мы помним что полудетское его увлечение Наполеоном, воинами не мешает ему уже задумываться о другом, внешне не столь блестящем но гораздо более благородном, трудном и славном пути врача, а может быть, ученого, побеждающего полчища болезней.
Честно делать свое дело, преданно служа людям, помня о великом долге перед теми, кто все отдал за их благо – в этом смысл простой, но глубоко человечной повести Ференца Молнара.
О. Россиянов
«Мальчишки с улицы Пала»– «детская» книга. Но деление на книги «для детей» и «для взрослых» нередко очень условно. «Детские» ли книги «Оливер Твист» Диккенса или «Капитанская дочка» Пушкина?… Мы знаем, как часто мудрые, обладающие глубоким человеческим содержанием книги «для взрослых» становятся излюбленным детским чтением.
И наоборот – разве всякая по-настоящему хорошая книга, написанная для детей, не заключает в себе серьезной, большой идеи, которая заставляет задумываться, делает «взрослее»?… Так же и «Мальчишки с улицы Пала». В повести Ференца Молнара тоже заложен большой, серьезный вопрос, затрагивающий самые глубокие, заветные чувства: в чем долг человека? Как поступать? К чему стремиться?… И тогда, в 1908 году, писатель ответил на этот ставший для него впоследствии роковым вопрос очень скромно, мудро и человечно. Глубиной и человечностью содержания и волнует эта повесть, хорошо известная в Венгрии всем и каждому. Она читается в детстве, а потом остается с человеком на всю жизнь, как с нами остаются «Детство Темы» или «Приключения Гекльберри Финна» и другие любимые детские книги.
Наши игры в детстве часто бывают подражанием взрослым. Такие игры всегда самые интересные: ведь они похожи на серьезную, настоящую жизнь. И мальчишки, изображаемые Молнаром, тоже подражают в своих играх взрослым: устраивают собрания, на которых ведутся настоящие протоколы; играют в войну, строя «настоящие» форты и бастионы на дровяных штабелях. А так как мальчишки они венгерские, то у них живой отзвук находят события венгерской действительности: знамя шьется трехцветное; девизом избираются гордые слова «Национальной песни» Шандора Петефи, сложенной в дни венгерской революции 1848 года; и пустырь, место своих игр, они называют «отечеством», защищая его подобно тому, как отцы их защищали родину от австрийских войск.
Правда, легко заметить, что это детское увлечение делами большими, серьезными, которые вдохновляют и взрослых, проявляется у мальчишек с улицы Пала по-разному, соответственно неодинаковым стремлениям и склонностям. Одним, например, больше нравится говорить официальные фразы, выносить выговоры, вести протоколы. Им кажется самой важной и серьезной подсмотренная у взрослых внешняя сторона жизни. Поэтому их игра превращается в бессмысленное копирование, смешное обезьянничанье. Это члены пресловутого «Общества замазки» с их глубокомысленным соблюдением разных формальных правил и не менее «глубокомысленным занятием»– жеванием замазки. Читая об их спорах, как правильнее вычеркнуть имя Немечека из черной книги, и борьбе партий по этому вопросу, те, кто знаком с замечательной сатирой английского писателя Свифта «Путешествия Гулливера», вспомнят, наверно, знаменитую распрю «тупоконечников» и «остроконечников» в Лилипутии. И в самом деле, в изображении «Общества замазки» таится шутливый намек на бесчисленные либеральные общества, которые процветали тогда в Венгрии. На заседаниях этих обществ то и дело повторялись имена Кошута и Петефи, без конца говорилось о национальной чести, патриотических заветах; но ничего подлинно живого в их деятельности не было: осталась одна трескучая риторика, пережевывание тягучей словесной «замазки».
Но среди мальчишек с улицы Пала есть и другие (например, Бока, Немечек), которых заботят не церемонии, условности, а внутреннее, нравственное содержание жизни. Играя в войну, они тоже увлекаются чинами, военными приветствиями, приказами и диспозициями. Но их больше всего волнуют честность и обман, дружба и вероломство, справедливость и несправедливость (вспомним наглый «эйнштанд» Пасторов)– одним словом, всё живые, человеческие вопросы. Они не просто подражают, а живут: возмущаются настоящими подлостями, сопротивляются грубому произволу мальчишек из Ботанического сада, которые хотят отнять у них пустырь, поддерживают друг друга в беде. И если Вейс или Лесик и другие заправилы «Общества замазки», то и дело ссорящиеся друг с другом из-за пустяков, кажутся нам смешными и глупыми не по летам, то Немечек, Бока вызывают глубокое уважение и симпатию: в них мы уже чувствуем людей с богатой внутренней жизнью. Бока и Немечек, главные герои повести, в свою очередь, мальчики очень разные. Основное различие между ними заключается, пожалуй, в том, что Бока на все смотрит очень сознательно. Это вдумчивый, честный и серьезный мальчик, твердо решивший, как надо поступать в жизни. Бока, так сказать, сам себя воспитывает: он человек строгих правил. А впечатлительный и порывистый Немечек не задумывается ни о каких правилах. Рассудительность и спокойная уверенность Боки ему несвойственны: он – сама непосредственность и повинуется чувству. Но сердце у него горячее, чуткое ко всякой несправедливости. По мере того как развертывается оборона пустыря, в которой все принимают участие, раскрывается чистая, самоотверженная натура Немечека, чьи переживания, судьба постепенно выдвигаются на главное место в повествовании.
«Мальчишки с улицы Пала» – это, собственно, повесть о том, как слабосильный, хрупкий и вовсе не храбрый мальчик, которого все могут обидеть и каждый считает ниже себя, вопреки общим ожиданиям, оказывается способным на смелые, решительные поступки, выручает товарищей, спасает честь любимого пустыря… И это ему вовсе не легко дается. Он страдает – страдает не только физически, но и морально: ему не верят, считают трусом, лжецом, а члены «Общества замазки», которые не видят дальше своего носа, объявляют даже изменником. Но он скрепя сердце продолжает делать свое дело, потому что общее благополучие, удача мальчишек с улицы Пала для него важнее всего остального, важнее обид, самолюбия. Это для Гереба выше всего он сам, его собственная удача; это Геребом руководят только честолюбие, желание выдвинуться во что бы то ни стало, которое доводит его до низкого предательства. А Немечек вовсе не рассчитывает на похвалы, награду, когда больной прибегает на «войну» и опрокидывает наземь грозного Фери Ача. Просто он за товарищей беспокоится, за пустырь, который могут у них отнять, за будущее их маленького дружеского союза. Таким уж он создан, что все принимает близко к сердцу и ко всему относится серьезно. Поэтому несправедливости, неудачи ранят его даже больнее, чем остальных. Но самозабвенная преданность делу приносит Немечеку и большое внутреннее удовлетворение. Приносит уважение, доверие мальчишек с улицы Пала и даже врагов – краснорубашечников. И это завоеванное, заслуженное уважение в тысячу раз слаще, приятнее, чем капитанский чин, чем даже знаменитая надпись – одними заглавными буквами – в Большой книге «Общества замазки»: «ЭРНЕ НЕМЕЧЕК».
Не каждый от природы бывает храбрым и сильным. Но разве человека создают одни лишь природные способности или только мнение окружающих? Человека создают его дело, стремление к благородной цели, которое придает силы, закаляет волю, помогая превозмочь боль, страх и стать выше самой горькой обиды… Образ Немечека заставляет нас почувствовать то, что смутно ощущает (и к чему по-своему стремится) его умный и честный друг Бока: смысл жизни и счастье – в самоотверженном служении общему благу, в побеждающей все препятствия верности долгу. В этом настоящая жизнь взрослого человека, полная борьбы, приносящая и радости и горе, – недолгая, но продолжающаяся вечно в великой созидательной жизни всего человечества. И хотя Немечек погиб, его светлый, трогательный образ долго будет жить в сердцах его товарищей, служа благородным примером, побуждая к честному, серьезному отношению к жизни.
Игра, начавшаяся весело и просто, перерастает в нечто очень серьезное и даже трагическое. Жизнь совсем не так проста, как казалось. В ней много сложного, непонятного, действуют какие-то несправедливые, суровые силы. Гибнет Немечек, совершивший замечательный подвиг. И пустырь, за который мальчишки с улицы Пала сражались с таким самозабвением, оплот их детской дружбы и счастья, уходит, отрекается от них, и никто из них не может ничего поделать. Столкнувшийся с этим трудным противоречием, увидевший, ощутивший всей душой, как сложна, ответственна и подчас мучительна жизнь, Бока – уже не прежний мальчик. Расставаясь с пустырем, он расстается с детством, вступая на порог зрелости.
И Молнар в этой книге тоже прощается с улетевшим детством, с миром чистых, благородных чувств, которых, как он знает, нет в мире обмана и наживы, где человек человеку – волк. И поэтому тоже история Немечека приобретает порой скорбный оттенок, и повесть кончается трагически. Но всякая трагедия не только потрясает, но в чем-то и умудряет. В жизни есть своя чистая, великая правда. И она не на стороне тупых, самодовольных чиновников вроде господина Четнеки, не на стороне и тех богатых бездельников, которых отцы снабжают деньгами и сигарами и которые с детства привыкают только командовать да обманывать, добиваться своего подлостью или грубой силой. Правда обитает в «скромных одноэтажных домиках», где живут Бока, портной Немечек и другие бедняки. Там, среди скромного трудового люда, рождаются и доброта, и самоотверженность, и настоящий героизм. Недаром через всю повесть проходит настойчивое противопоставление заносчивым «офицерам» презираемого ими «рядового» – Немечека, который на деле оказывается на целую голову выше их. Он начинает даже находить утешение, черпать своеобразную гордость в этом скромном звании: оно словно становится синонимом его правоты.
И мы верим, что горе Боки, потерявшего друга, увидевшего, как непрочно счастье в мире, где он живет, лишь укрепит мальчика. Вооруженный суровой жизненной мудростью, он пойдет и дальше прямой, честной дорогой, какой пошел бы и Немечек, если б его не унесла смерть. Впереди у Боки честное, трудовое будущее, неустанная работа на благо человечества. Мы помним что полудетское его увлечение Наполеоном, воинами не мешает ему уже задумываться о другом, внешне не столь блестящем но гораздо более благородном, трудном и славном пути врача, а может быть, ученого, побеждающего полчища болезней.
Честно делать свое дело, преданно служа людям, помня о великом долге перед теми, кто все отдал за их благо – в этом смысл простой, но глубоко человечной повести Ференца Молнара.
О. Россиянов
