Страница:
Начинается «чистка» по алфавиту фамилий. Маяковский разбирает стихи «не явившейся» Анны Ахматовой, приговор: запретить на три года писать стихи, «пока не исправится».
«Покончив с Ахматовой, – продолжает Миндлин, – Маяковский перешел к юным и совершенно никому не ведомым поэтам, добровольно явившимся на «чистку». Они сидели рядком на скамье, вставали один за другим, читали стихи, как правило плохие, и, очень довольные, улыбались даже тогда, когда Маяковский несколькими острыми словами буквально уничтожал их и запрещал писать. Некоторых присуждали к трехлетнему воздержанию от стихописательства, давая время на исправление. Публика потешалась, шумела, голосовала. Вообще трудно представить себе что-нибудь веселее этой «чистки» поэтов и поэтессенок. Впрочем, поэтессенок я что-то не помню. Выступали почти исключительно юнцы мужского пола. Только один из них, в светлых кудрях по плечи, с тонким женским голоском, так смутил публику, что из зала спросили:
– Вы мальчик или девочка?
– Мальчик, – ответил златокудрый поэт.
Ему единогласно запретили писать. Навсегда».
Миндлин приводит еще несколько эпизодов. Очень эффектным было выступление группы ничевоков, в которую в то время входил художник и поэт, впоследствии ставший крупнейшим исследователем-москвоведом Борис Сергеевич Земенков:
«И вдруг из-за кулис на эстраду вышли три резко дисгармонирующие с окружающей обстановкой фигуры поэтов-ничевоков. Все в высоких крахмальных воротничках, с белыми накрахмаленными манишками, в элегантных черных костюмах, лаковых башмаках, у всех волосы сверкают бриллиантином. На груди выступавшего впереди ничевока поверх манишки красный платок, заткнутый за крахмальный воротничок. В зале поднялся вой. Однако по мере того как ничевок с красным платком на груди читал манифест ничевоков, вой и шум в зале стихали. Как ни потешны были эти три ничевока, кое-что в их манифесте понравилось публике. Одобрительно приняли заявление, что Становище ничевоков отрицает за Маяковским право «чистить» поэтов. По когда ничевоки предложили, чтобы Маяковский отправился к Пампушке на Твербул (то есть к памятнику Пушкину на Тверской бульвар) чистить сапоги всем желающим, вой и шум снова усилились. Враждующие между собой части публики объединились против ничевоков. Одна часть была возмущена выступлением ничевоков против Маяковского, другая тем, что ничевоки посмели назвать памятник Пушкина «Пампушкой».
Иной характер носили «Вечера новой поэзии», на которых председательствовал В.Я. Брюсов. Он любил поэзию как явление и признавал законность существования в ней разных направлений, поэтому не позволял себе никаких оскорбительных оценок. «Своим спокойствием мэтра, – замечает литератор-современник, – он придавал какой-то вес забавам и почти хулиганству на эстраде». Брюсов считал, что новая поэзия, прежде чем обрести свой стиль, должна пройти путь проб и поисков, ошибок и достижений.
Но и на вечерах, руководимых Брюсовым, случались экстраординарные эпизоды. Одним из самых запомнившихся – выступление Сергея Есенина с чтением «Сорокоуста». Этот эпизод описан во многих воспоминаниях, привожу рассказ поэта А.Н. Арго:
«Курчаво-завитой, напомаженно-напудренный, широко расставив ноги и отставив корпус назад, размахивая руками, Есенин начал читать свой «Сорокоуст» – поэму, в первое четверостишие которой, как известно, входит непечатное выражение, – в нынешних посмертных изданиях оно заменяется несколькими строчками многоточий. (Эти «непечатные выражения» слово «задница» и фраза «Не хотите ль пососать у мерина». В Полном собрании сочинений издания 1997 года они напечатаны полностью. – В.М.)
В порядке устной поэзии, с эстрадных подмостков оно было произнесено полным голосом и вызвало естественную реакцию аудитории:
– Долой хулигана!
– Возмутительно!
– Как вам не стыдно! И это поэзия!
– Позор! Позор!
Свист, шум, крик был такой, что о продолжении выступления речи быть не могло. Есенин стоял молча, голубыми своими глазами поглядывал на публику и улыбался полунасмешливо, полурастерянно. Он, в сущности, знал, на что идет: непристойными словами в начале поэмы он привлекал внимание публики настолько, что мог быть уверен: обывательская публика в ожидании хотя бы новой непристойности не упустит ни одной строки из дальнейшего, а в дальнейшем-то следовали превосходные, громадного темперамента строки. Но скандал был отчаянный, обыватель, не вдаваясь в подробности, негодовал, возмущался озорством поэта.
Но недаром кораблем сего общественного мероприятия правил мудрый кормчий Валерий Брюсов. Он проявил в данном случае не только ум и такт, но еще и великую честность поэта.
Вставши во весь рост – как сейчас помню его стройную фигуру в знаменитом черном сюртуке, увековеченном на портрете Врубеля, – Брюсов поднял руку, призывая к порядку бушевавшую аудиторию.
Авторитет Брюсова был велик – он был первым поэтом прежнего времени… Его не все любили, но уважали в равной мере все читатели, и старые и новые.
Так стоял он с поднятой рукой и, когда собрание наконец успокоилось, произнес:
– Я, Валерий Брюсов, заявляю всем вам, что стихи Есенина, те, которые он сейчас прочтет, – лучшее из всего написанного на русском языке в стихотворной форме за последние двадцать лет.
И затем Есенину:
– Продолжайте!
Есенин закончил чтение, и аудитория не могла не оценить замечательное его стихотворение».
Так возмущавшие слушателей в 1920 году выражения, слово «задница» и фраза «Не хотите ль пососать у мерина», в нынешние времена уже никого не шокируют, и в полном собрании сочинений С.А. Есенина издания 1997 года печатаются полным текстом, без многоточий.
Бурные литературные вечера проходили в Политехническом музее до середины 1920-х годов, затем они изменились, превратившись в официоз, жестко регулируемый идеологической цензурой.
Новый бурный расцвет вечера поэзии в Политехническом переживали в 1960-е годы – годы «оттепели», тогда пришли в поэзию Б. Окуджава, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Р. Рождественский и другие.
Расцвет и широкая популярность поэзии, нетрудно заметить, приходятся на пору великих надежд на лучшее будущее, которые основываются не на беспочвенных мечтах, а на уже имеющихся в обществе признаках, фактах, предпосылках.
Справедлив, наверное, и обратный силлогизм: не звучат стихи в Большой аудитории, не покупают поэтических сборников – значит, нет в обществе ничего устремленного в будущее, непоэтический строй – непоэтическое время.
В конце 1970-х – начале 1980-х годов на площади рядом с «Детским миром» и на месте Гребневской церкви встали новые огромные, облицованные черным гранитом мрачные корпуса ведомства КГБ (архитекторы Б.В. Палуй, Г.В. Макаревич). В правом здании устроен проход внутрь двора, к дому Стахеева, в котором находится музей В.В. Маяковского.
30 октября 1990 года в сквере перед Политехническим музеем состоялось открытие еще одного памятника на Лубянской площади – памятника жертвам коммунистического режима, жертвам Лубянки и всех ее бесчисленных отделений, филиалов и лагерей ГУЛАГа.
Это первый с 1917 года и единственный до сих пор памятник Москвы, поставленный не правительством (на иных из них, как, например, на памятнике Н.В. Гоголю, установленном в 1951 году, специально отмечено надписью: «От правительства Советского Союза»), а самим народом.
 Соловецкий камень. Современная фотография
Соловецкий камень. Современная фотография
Памятником стал валун, привезенный с Соловецких островов – первого советского лагеря, открытого в 1922 году, где чекисты всласть и вволю могли измываться над своими жертвами – священниками, профессорами, бывшими гимназистами, офицерами, которые предпочли эмиграции службу родной стране, монахами и монахинями, подростками из интеллигентных семей, были там врачи и поэты, ученые и актеры, философы и юристы, инженеры и строители, дипломаты и агрономы, крестьяне и политики – цвет нации. В Соловках чекисты отрабатывали технику пыток и убийств, придумывали виды каторжных работ, создавали систему унижений и превращения человека в «лагерную пыль» – в безвольного, потерявшего человеческий облик раба. Особенно раздражало чекистов, что эти измученные, полуживые мужчины и женщины, старики и дети (на Соловках находилась группа арестованных бойскаутов) умирали, но сохраняли человеческое достоинство… Вот из этого ада, со знаменитых Соловков, был привезен в Москву, к стенам Лубянки, камень.
На гранитном пьедестале, на который положен валун, надпись, сообщающая, что «этот камень с территории Соловецкого лагеря особого назначения» и что он «установлен в память о миллионах жертв тоталитарного режима».
В 1925 году, весною, на Страстной неделе, в Великий четверг заключенный Соловков Михаил Фроловский написал стихотворение, которое может быть названо первым предчувствием Соловецкого камня-памятника:
«Товарищи предлагают, – сказал Хрущев, – увековечить память видных деятелей партии и государства, которые стали жертвами необоснованных репрессий в период культа личности. Мы считаем это предложение правильным. Целесообразно было бы поручить Центральному Комитету, который будет избран XXII съездом, решить этот вопрос положительно. Может быть, следует соорудить памятник в Москве, чтобы увековечить память товарищей, ставших жертвами произвола. (Аплодисменты.)».
Вторично эта же идея была высказана 27 лет спустя – на XIX партийной конференции 1 июля 1988 года в заключительной речи М.С. Горбачева. «И еще, товарищи, – сказал он, – один вопрос, который был поднят накануне конференции и на ней самой, – о сооружении памятника жертвам репрессий. Вы, вероятно, помните, что об этом говорилось в заключительном слове на XXII съезде партии и было встречено тогда с одобрением. Поднимался этот вопрос и на XXVII съезде партии, но не получил практического решения. Как говорилось в докладе, восстановление справедливости по отношению к жертвам беззаконий – наш политический и нравственный долг. Давайте исполним его сооружением памятника в Москве. Этот шаг, я уверен, будет поддержан всем советским народом. (Аплодисменты)».
Почти три десятилетия разделяют эти два выступления. Но ни правительство «оттепели» Хрущева, ни перестроечное Горбачева так и не исполнили этого «политического и нравственного» долга да и не могли, в частности, потому, что они сами имели прямое отношение к коммунистическому «произволу».
Однако слова генсека развязали руки общественной инициативе. Снизу, общественностью, было образовано всесоюзное добровольное историко-просветительское общество «Мемориал», которое, как сказано в его уставе, «считает своей главною задачей создание на добровольные пожертвования памятника жертвам сталинизма, а также информационно-исследовательского и просветительного центра «Мемориал» с общедоступным музеем, архивом и библиотекой». «Мемориал» и взял на себя дело создания памятника.
В ноябре 1988 года в Доме культуры МЭЛЗ (Московского электролампового завода) на Большой Семеновской улице состоялась выставка проектов памятника. В основном их авторами были не профессиональные скульпторы и архитекторы, а люди, которые сами подвергались репрессиям, и те, кто действительно – сердцем – сопереживал жертвам общенародной трагедии. При обсуждении места памятника предлагались различные места Москвы – Красная площадь, Воробьевы горы, площадка снесенного в 1931 году «в связи с реконструкцией Москвы» храма Христа Спасителя, но чаще всего назывался дом КГБ на Лубянке, именно его большинство считало наиболее подходящим для мемориала-музея…
От грандиозного памятника пришлось отказаться – не по средствам: правительство денег не дало, а на рубли, выделенные из нищенских пенсий бывших зеков, такого памятника не поставишь… Ни один проект из представленных на выставке не получил одобрения, поэтому решили ставить символически памятный знак – просто Камень. Теперь уже не вспомнить, кому первому пришла мысль о камне с Соловков, кажется, что всем обсуждавшим проект одновременно. Но мысль оказалась счастливой. «Стал памятником простой природный камень, а не рукотворный обелиск. Видимо, потому, что ни один архитектор, ни один скульптор не может постичь в своем решении всей бездны мрака, ужаса и страха, разверзшейся в стране в те годы», – так писал газетный репортер. Место же для памятника Моссовет отвел не из названных народом, но поблизости от одного из них, не на видном месте, а в сторонке, не сразу и увидишь, – на Лубянской площади, в сквере на месте дома Шипова.
Утром 30 октября 1990 года участники торжественной церемонии открытия памятника-камня – бывшие лагерники, дети погибших – собрались у Сретенских ворот на бульваре.
Повсюду видны прибитые на палки таблички с названиями лагерей: Воркута, Дальлаг, Дмитровлаг, Тайшетлаг, Бамлаг… Табличек много, очень много, возле одних – десяток-полтора человек, возле других – двое-трое, а кое-кто одиноко бродит среди толпы со своим плакатиком, высматривая, не встретит ли солагерника… Много было лагерей, многие миллионы сидели в них, но немногие вышли, а из тех, кто уцелел, единицы дожили до открытия памятника…
Со священниками во главе, с иконами и хоругвями процессия двинулась по Большой Лубянке (тогда еще улице Дзержинского). Из репродуктора на медленно ехавшей автомашине женский голос перечислял фамилии, имена, отчества, и после каждого имени – итог судьбы: расстрелян…
На митинге у камня, наряду с официальными лицами и представителями, выступил старый соловчанин – писатель Олег Васильевич Волков. Его голос звучал в скорбной, внимающей тишине, его устами говорила сама история. Советские газеты тогда не опубликовали его выступление, оно было напечатано много позже. Вот эта речь:
«Казалось бы, можно сказать «Ныне отпущаеши» – на одной из центральных площадей Москвы заложен памятник невинным жертвам жестокого опыта, проделанного над народом во имя социалистической утопии, обернувшейся разрушением страны и всеобщим одичанием, утратой веры в добро и братскую солидарность между людьми.
С Соловецкого архипелага доставлен в Москву камень – пусть он будет напоминать нам и нашим потомкам о тяжелейшем периоде нашей истории – начале крестного пути народа, пролегшего через Соловки. Именно там была проведена в жизнь и разработана система массовых репрессий, перечеркнувшая все представления о правосудии и законности.
Площадь, на которой мы сейчас собрались, окаймлена громадами многоэтажных домов, принадлежащих ведомству зловеще прославившейся организации преследований и бессудных расправ над теми, кто был призван покорно безмолвствовать перед лицом глобального террора. На нас с вами глядят окна домов, где вершились расправы над невиновными, трагическая судьба которых должна была внушать населению страны беспредельный страх перед властью, требовавшей слепой покорности и немоты.
Но вокруг нас не только эти нависающие тяжкими воспоминаниями здания. Здесь же стоит памятник и тому, кто по праву может считаться одним из главных руководителей когорт карателей и палачей: вот он – Железный Феликс, тот самый легендарный ленинский сподвижник, имя которого прочно слилось с представлением о массовых расстрелах и реках пролитой крови.
И вот как совпало, что именно здесь, в нескольких десятках метров от священного Соловецкого камня, в самом центре Москвы маячит силуэт палача тех самых жертв, память о которых мы собрались почтить.
И в этом есть какое-то странное трагическое недоразумение. Либо пусть стоит здесь памятник Дзержинскому, по нему и площадь названа. Либо пусть его уберут, и она снова станет Лубянкой, куда люди будут приходить отдать долг памяти миллионов жертв коммунистического террора.
Совесть и здравый смысл не допускают такой двойственности».
Потом была панихида, звучал хор, горели свечи…
«На открытии памятника, – было напечатано в газетах на следующий день, – присутствовал первый секретарь МГК КПСС Ю.А. Прокофьев. Он возложил к подножию валуна букет бордовых гвоздик».
 Митинг у памятника Дзержинскому на Лубянской площади. Фотография 1991 г.
Митинг у памятника Дзержинскому на Лубянской площади. Фотография 1991 г.
После открытия памятника «жертвам тоталитарного режима» бывший заключенный Лев Николаевич Мартюхин, представлявшийся при знакомстве «заключенный-каторжанин Соловков, Беломорканала и Колымы», написал стихотворение «Соловецкий камень». Он прожил долгую жизнь, ему шел уже девятый десяток, в Соловецком камне для него воплотилась память обо всем, что пережила Россия и пережил он за советское время.
Мартюхин называет Камень «окаменевшим сердцем России».
В толпе было много корреспондентов радио, они записывали высказывания людей. Может быть, в архивах сохранились эти голоса площади, так похожие один на другой, потому что людьми овладело единое чувство, единая мысль, единый порыв к свободе.
Но московская власть воспринимала события иначе, чем люди на площади. Об этом – ином – взгляде рассказывает в своих воспоминаниях В.И. Ресин («Вечерний клуб», 6–12 ноября 1999 г.):
«22 августа (1991 г. – Ред.), когда, казалось бы, все в городе успокоилось, вечером звонят домой и сообщают: на площади Дзержинского вокруг памятника собралась громадная возбужденная толпа. Люди собираются сносить статую!
Приезжаю на площадь Дзержинского. Статуя стоит на месте, на пьедестале, но на шее с петлей, скрученной из троса. Люди пытаются повалить монумент, не представляя, что вручную это сделать практически невозможно. И опасно. Если дело пустить на самотек – все может кончится трагически и для тех, кто пытается свалить монумент, и для городских подземных коммуникаций. Они могли пострадать при падении многотонной глыбы с высокого пьедестала на землю, пронизанную кабелями, ведущими к зданию Комитета госбезопасности.
На площади происходил стихийный митинг. Круглый каменный цилиндр-пьедестал, на котором стояла бронзовая фигура Феликса Дзержинского, весь был испещрен надписями типа: «Палач», «Подлежит сносу!»
 Лубянская площадь. В дни надежды на свободу. Фотография 1991 г.
Лубянская площадь. В дни надежды на свободу. Фотография 1991 г.
Юрий Михайлович вышел из машины и встал рядом с выступавшими. Толпа вокруг монумента ему, как и мне, была не по душе. Нужно было срочно сбить накал страстей, подавить агрессию, взять ситуацию под контроль, управлять озлобившейся массой, способной наделать бед.
Лужков в этой «ситуации ошибки», когда сходятся огонь и пламя, когда невозможно ни сделать что нужно, ни оставить как есть, принял еще одно свое подлинно управленческое решение – объявить о намерении правительства города немедленно демонтировать монумент. Но не руками толпы, а – специалистов.
Для этого срочно потребовалось вызвать монтажников и технику, они могли выполнить это решение быстро и профессионально.
Я дал команду, чтобы на площадь Дзержинского немедленно прибыли мощный кран «Главмосинжстроя» и монтажники.
Толпа после решения Лужкова успокоилась, стала ждать приезда монтажников, никто больше не предпринимал усилий свалить вручную обреченный на казнь монумент.
Больше никто не пытался и ворваться в здание КГБ, после того, как одна из дверей серого дома приоткрылась и в лица нападавшим ударила струя газа.
В то время, когда мы ожидали монтажников, к Лужкову подошли молодые люди и представились «защитниками Белого дома». Они потребовали технику, чтобы демонтировать не только памятник Дзержинскому, но и бронзовые памятники Свердлову и Калинину. Первый запятнал себя кровавым «расказачиванием», второй преступным «раскулачиванием». Премьер пошел им навстречу.
В полночь убрали статую Свердлова на площади Революции. Спустя час осталась без монумента глыба камня на проспекте Калинина, ныне Воздвиженке…»
В том же 1991 году Моссовет принял решение о возвращении площади исторического названия – Лубянская площадь.
Символом нового – освободившегося от тотального режима – времени стало на Лубянской площади здание «Детского мира», памятник действительно эпохального значения.
«Детский мир» строился по проекту группы архитекторов под руководством А.Н. Душкина (1903–1977) – выдающегося советского архитектора, автора таких замечательных работ, как станции метрополитена «Площадь Революции», «Кропоткинская», «Маяковская», высотного здания у Красных Ворот. «Детский мир» стал его последней работой и такой же принципиальной для архитектуры 1950-х годов, какими являются его предыдущие проекты. В начале 2000-х годов пошли разговоры о «моральной устарелости» здания, о его сносе и постройке нового. Но, к счастью, разум одержал верх над капиталистической алчностью, и «Детский мир» был поставлен на охрану как памятник советской архитектуры, правда, к сожалению, интерьеры и внутренняя планировка, также, конечно, являющаяся архитектурным памятником, будут уничтожены и превращены в типовой «торгово-развлекательный центр». Этого куска личной выгоды капитализм архитектуре и памяти не уступил.
В конце 1980-х – начале 1990-х годов на Лубянской площади у «Детского мира» и в его здании зашумел рынок «свободной торговли», вернулся описанный Маяковским «толчок» с орущими, «как грешные верблюды в конце мира», спекулянтами.
Воплощением идей рыночной экономики и ее влияния на градостроительство и в том числе на современный вид Лубянской площади внес и свою лепту построенный на ней в 1999 году Торговый дом «Наутилус».
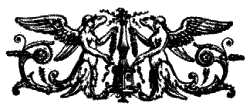
Большая Лубянка
 Здание ОГПУ. Фотография начала 1930-х гг.
Здание ОГПУ. Фотография начала 1930-х гг.
За Лубянской площадью Троицкая дорога шла по улице, которая теперь называется Большой Лубянкой. В разные времена эти места и сама улица назывались по-разному: Кучково поле, Никольская улица, Сретенская, Лубянка, Большая Лубянская улица, улица имени Дзержинского, или просто – улица Дзержинского, и, наконец, снова – с 1991 года – Большая Лубянка.
«Покончив с Ахматовой, – продолжает Миндлин, – Маяковский перешел к юным и совершенно никому не ведомым поэтам, добровольно явившимся на «чистку». Они сидели рядком на скамье, вставали один за другим, читали стихи, как правило плохие, и, очень довольные, улыбались даже тогда, когда Маяковский несколькими острыми словами буквально уничтожал их и запрещал писать. Некоторых присуждали к трехлетнему воздержанию от стихописательства, давая время на исправление. Публика потешалась, шумела, голосовала. Вообще трудно представить себе что-нибудь веселее этой «чистки» поэтов и поэтессенок. Впрочем, поэтессенок я что-то не помню. Выступали почти исключительно юнцы мужского пола. Только один из них, в светлых кудрях по плечи, с тонким женским голоском, так смутил публику, что из зала спросили:
– Вы мальчик или девочка?
– Мальчик, – ответил златокудрый поэт.
Ему единогласно запретили писать. Навсегда».
Миндлин приводит еще несколько эпизодов. Очень эффектным было выступление группы ничевоков, в которую в то время входил художник и поэт, впоследствии ставший крупнейшим исследователем-москвоведом Борис Сергеевич Земенков:
«И вдруг из-за кулис на эстраду вышли три резко дисгармонирующие с окружающей обстановкой фигуры поэтов-ничевоков. Все в высоких крахмальных воротничках, с белыми накрахмаленными манишками, в элегантных черных костюмах, лаковых башмаках, у всех волосы сверкают бриллиантином. На груди выступавшего впереди ничевока поверх манишки красный платок, заткнутый за крахмальный воротничок. В зале поднялся вой. Однако по мере того как ничевок с красным платком на груди читал манифест ничевоков, вой и шум в зале стихали. Как ни потешны были эти три ничевока, кое-что в их манифесте понравилось публике. Одобрительно приняли заявление, что Становище ничевоков отрицает за Маяковским право «чистить» поэтов. По когда ничевоки предложили, чтобы Маяковский отправился к Пампушке на Твербул (то есть к памятнику Пушкину на Тверской бульвар) чистить сапоги всем желающим, вой и шум снова усилились. Враждующие между собой части публики объединились против ничевоков. Одна часть была возмущена выступлением ничевоков против Маяковского, другая тем, что ничевоки посмели назвать памятник Пушкина «Пампушкой».
Иной характер носили «Вечера новой поэзии», на которых председательствовал В.Я. Брюсов. Он любил поэзию как явление и признавал законность существования в ней разных направлений, поэтому не позволял себе никаких оскорбительных оценок. «Своим спокойствием мэтра, – замечает литератор-современник, – он придавал какой-то вес забавам и почти хулиганству на эстраде». Брюсов считал, что новая поэзия, прежде чем обрести свой стиль, должна пройти путь проб и поисков, ошибок и достижений.
Но и на вечерах, руководимых Брюсовым, случались экстраординарные эпизоды. Одним из самых запомнившихся – выступление Сергея Есенина с чтением «Сорокоуста». Этот эпизод описан во многих воспоминаниях, привожу рассказ поэта А.Н. Арго:
«Курчаво-завитой, напомаженно-напудренный, широко расставив ноги и отставив корпус назад, размахивая руками, Есенин начал читать свой «Сорокоуст» – поэму, в первое четверостишие которой, как известно, входит непечатное выражение, – в нынешних посмертных изданиях оно заменяется несколькими строчками многоточий. (Эти «непечатные выражения» слово «задница» и фраза «Не хотите ль пососать у мерина». В Полном собрании сочинений издания 1997 года они напечатаны полностью. – В.М.)
В порядке устной поэзии, с эстрадных подмостков оно было произнесено полным голосом и вызвало естественную реакцию аудитории:
– Долой хулигана!
– Возмутительно!
– Как вам не стыдно! И это поэзия!
– Позор! Позор!
Свист, шум, крик был такой, что о продолжении выступления речи быть не могло. Есенин стоял молча, голубыми своими глазами поглядывал на публику и улыбался полунасмешливо, полурастерянно. Он, в сущности, знал, на что идет: непристойными словами в начале поэмы он привлекал внимание публики настолько, что мог быть уверен: обывательская публика в ожидании хотя бы новой непристойности не упустит ни одной строки из дальнейшего, а в дальнейшем-то следовали превосходные, громадного темперамента строки. Но скандал был отчаянный, обыватель, не вдаваясь в подробности, негодовал, возмущался озорством поэта.
Но недаром кораблем сего общественного мероприятия правил мудрый кормчий Валерий Брюсов. Он проявил в данном случае не только ум и такт, но еще и великую честность поэта.
Вставши во весь рост – как сейчас помню его стройную фигуру в знаменитом черном сюртуке, увековеченном на портрете Врубеля, – Брюсов поднял руку, призывая к порядку бушевавшую аудиторию.
Авторитет Брюсова был велик – он был первым поэтом прежнего времени… Его не все любили, но уважали в равной мере все читатели, и старые и новые.
Так стоял он с поднятой рукой и, когда собрание наконец успокоилось, произнес:
– Я, Валерий Брюсов, заявляю всем вам, что стихи Есенина, те, которые он сейчас прочтет, – лучшее из всего написанного на русском языке в стихотворной форме за последние двадцать лет.
И затем Есенину:
– Продолжайте!
Есенин закончил чтение, и аудитория не могла не оценить замечательное его стихотворение».
Так возмущавшие слушателей в 1920 году выражения, слово «задница» и фраза «Не хотите ль пососать у мерина», в нынешние времена уже никого не шокируют, и в полном собрании сочинений С.А. Есенина издания 1997 года печатаются полным текстом, без многоточий.
Бурные литературные вечера проходили в Политехническом музее до середины 1920-х годов, затем они изменились, превратившись в официоз, жестко регулируемый идеологической цензурой.
Новый бурный расцвет вечера поэзии в Политехническом переживали в 1960-е годы – годы «оттепели», тогда пришли в поэзию Б. Окуджава, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Р. Рождественский и другие.
Расцвет и широкая популярность поэзии, нетрудно заметить, приходятся на пору великих надежд на лучшее будущее, которые основываются не на беспочвенных мечтах, а на уже имеющихся в обществе признаках, фактах, предпосылках.
Справедлив, наверное, и обратный силлогизм: не звучат стихи в Большой аудитории, не покупают поэтических сборников – значит, нет в обществе ничего устремленного в будущее, непоэтический строй – непоэтическое время.
В конце 1970-х – начале 1980-х годов на площади рядом с «Детским миром» и на месте Гребневской церкви встали новые огромные, облицованные черным гранитом мрачные корпуса ведомства КГБ (архитекторы Б.В. Палуй, Г.В. Макаревич). В правом здании устроен проход внутрь двора, к дому Стахеева, в котором находится музей В.В. Маяковского.
30 октября 1990 года в сквере перед Политехническим музеем состоялось открытие еще одного памятника на Лубянской площади – памятника жертвам коммунистического режима, жертвам Лубянки и всех ее бесчисленных отделений, филиалов и лагерей ГУЛАГа.
Это первый с 1917 года и единственный до сих пор памятник Москвы, поставленный не правительством (на иных из них, как, например, на памятнике Н.В. Гоголю, установленном в 1951 году, специально отмечено надписью: «От правительства Советского Союза»), а самим народом.

Памятником стал валун, привезенный с Соловецких островов – первого советского лагеря, открытого в 1922 году, где чекисты всласть и вволю могли измываться над своими жертвами – священниками, профессорами, бывшими гимназистами, офицерами, которые предпочли эмиграции службу родной стране, монахами и монахинями, подростками из интеллигентных семей, были там врачи и поэты, ученые и актеры, философы и юристы, инженеры и строители, дипломаты и агрономы, крестьяне и политики – цвет нации. В Соловках чекисты отрабатывали технику пыток и убийств, придумывали виды каторжных работ, создавали систему унижений и превращения человека в «лагерную пыль» – в безвольного, потерявшего человеческий облик раба. Особенно раздражало чекистов, что эти измученные, полуживые мужчины и женщины, старики и дети (на Соловках находилась группа арестованных бойскаутов) умирали, но сохраняли человеческое достоинство… Вот из этого ада, со знаменитых Соловков, был привезен в Москву, к стенам Лубянки, камень.
На гранитном пьедестале, на который положен валун, надпись, сообщающая, что «этот камень с территории Соловецкого лагеря особого назначения» и что он «установлен в память о миллионах жертв тоталитарного режима».
В 1925 году, весною, на Страстной неделе, в Великий четверг заключенный Соловков Михаил Фроловский написал стихотворение, которое может быть названо первым предчувствием Соловецкого камня-памятника:
Впервые о памятнике жертвам коммунистических репрессий публично заговорил Н.С. Хрущев 27 октября 1961 года на XXII съезде партии, посвященном разоблачению «культа личности Сталина». Тогда Хрущев назвал политических заключенных ГУЛАГа «жертвами сталинского произвола».
Спит тюрьма и трудно дышит,
Каждый вздох – тоска и стон,
Только мертвый камень слышит,
Ничего не скажет он.
Но когда последней дрожью
Содрогнется шар земной,
Вопль камней к престолу Божью
Пронесется в тьме ночной.
И когда, трубе послушный,
Мир стряхнет последний сон,
Вспомнит камень равнодушный
Каждый вздох и каждый стон.
И когда последний пламень
Опалит и свет и тьму,
Все расскажет мертвый камень,
Камень, сложенный в тюрьму.
Спит тюрьма и тяжко дышит,
Каждый вздох – тоска и стон,
Неподкупный камень слышит,
Богу всё расскажет он.
«Товарищи предлагают, – сказал Хрущев, – увековечить память видных деятелей партии и государства, которые стали жертвами необоснованных репрессий в период культа личности. Мы считаем это предложение правильным. Целесообразно было бы поручить Центральному Комитету, который будет избран XXII съездом, решить этот вопрос положительно. Может быть, следует соорудить памятник в Москве, чтобы увековечить память товарищей, ставших жертвами произвола. (Аплодисменты.)».
Вторично эта же идея была высказана 27 лет спустя – на XIX партийной конференции 1 июля 1988 года в заключительной речи М.С. Горбачева. «И еще, товарищи, – сказал он, – один вопрос, который был поднят накануне конференции и на ней самой, – о сооружении памятника жертвам репрессий. Вы, вероятно, помните, что об этом говорилось в заключительном слове на XXII съезде партии и было встречено тогда с одобрением. Поднимался этот вопрос и на XXVII съезде партии, но не получил практического решения. Как говорилось в докладе, восстановление справедливости по отношению к жертвам беззаконий – наш политический и нравственный долг. Давайте исполним его сооружением памятника в Москве. Этот шаг, я уверен, будет поддержан всем советским народом. (Аплодисменты)».
Почти три десятилетия разделяют эти два выступления. Но ни правительство «оттепели» Хрущева, ни перестроечное Горбачева так и не исполнили этого «политического и нравственного» долга да и не могли, в частности, потому, что они сами имели прямое отношение к коммунистическому «произволу».
Однако слова генсека развязали руки общественной инициативе. Снизу, общественностью, было образовано всесоюзное добровольное историко-просветительское общество «Мемориал», которое, как сказано в его уставе, «считает своей главною задачей создание на добровольные пожертвования памятника жертвам сталинизма, а также информационно-исследовательского и просветительного центра «Мемориал» с общедоступным музеем, архивом и библиотекой». «Мемориал» и взял на себя дело создания памятника.
В ноябре 1988 года в Доме культуры МЭЛЗ (Московского электролампового завода) на Большой Семеновской улице состоялась выставка проектов памятника. В основном их авторами были не профессиональные скульпторы и архитекторы, а люди, которые сами подвергались репрессиям, и те, кто действительно – сердцем – сопереживал жертвам общенародной трагедии. При обсуждении места памятника предлагались различные места Москвы – Красная площадь, Воробьевы горы, площадка снесенного в 1931 году «в связи с реконструкцией Москвы» храма Христа Спасителя, но чаще всего назывался дом КГБ на Лубянке, именно его большинство считало наиболее подходящим для мемориала-музея…
От грандиозного памятника пришлось отказаться – не по средствам: правительство денег не дало, а на рубли, выделенные из нищенских пенсий бывших зеков, такого памятника не поставишь… Ни один проект из представленных на выставке не получил одобрения, поэтому решили ставить символически памятный знак – просто Камень. Теперь уже не вспомнить, кому первому пришла мысль о камне с Соловков, кажется, что всем обсуждавшим проект одновременно. Но мысль оказалась счастливой. «Стал памятником простой природный камень, а не рукотворный обелиск. Видимо, потому, что ни один архитектор, ни один скульптор не может постичь в своем решении всей бездны мрака, ужаса и страха, разверзшейся в стране в те годы», – так писал газетный репортер. Место же для памятника Моссовет отвел не из названных народом, но поблизости от одного из них, не на видном месте, а в сторонке, не сразу и увидишь, – на Лубянской площади, в сквере на месте дома Шипова.
Утром 30 октября 1990 года участники торжественной церемонии открытия памятника-камня – бывшие лагерники, дети погибших – собрались у Сретенских ворот на бульваре.
Повсюду видны прибитые на палки таблички с названиями лагерей: Воркута, Дальлаг, Дмитровлаг, Тайшетлаг, Бамлаг… Табличек много, очень много, возле одних – десяток-полтора человек, возле других – двое-трое, а кое-кто одиноко бродит среди толпы со своим плакатиком, высматривая, не встретит ли солагерника… Много было лагерей, многие миллионы сидели в них, но немногие вышли, а из тех, кто уцелел, единицы дожили до открытия памятника…
Со священниками во главе, с иконами и хоругвями процессия двинулась по Большой Лубянке (тогда еще улице Дзержинского). Из репродуктора на медленно ехавшей автомашине женский голос перечислял фамилии, имена, отчества, и после каждого имени – итог судьбы: расстрелян…
На митинге у камня, наряду с официальными лицами и представителями, выступил старый соловчанин – писатель Олег Васильевич Волков. Его голос звучал в скорбной, внимающей тишине, его устами говорила сама история. Советские газеты тогда не опубликовали его выступление, оно было напечатано много позже. Вот эта речь:
«Казалось бы, можно сказать «Ныне отпущаеши» – на одной из центральных площадей Москвы заложен памятник невинным жертвам жестокого опыта, проделанного над народом во имя социалистической утопии, обернувшейся разрушением страны и всеобщим одичанием, утратой веры в добро и братскую солидарность между людьми.
С Соловецкого архипелага доставлен в Москву камень – пусть он будет напоминать нам и нашим потомкам о тяжелейшем периоде нашей истории – начале крестного пути народа, пролегшего через Соловки. Именно там была проведена в жизнь и разработана система массовых репрессий, перечеркнувшая все представления о правосудии и законности.
Площадь, на которой мы сейчас собрались, окаймлена громадами многоэтажных домов, принадлежащих ведомству зловеще прославившейся организации преследований и бессудных расправ над теми, кто был призван покорно безмолвствовать перед лицом глобального террора. На нас с вами глядят окна домов, где вершились расправы над невиновными, трагическая судьба которых должна была внушать населению страны беспредельный страх перед властью, требовавшей слепой покорности и немоты.
Но вокруг нас не только эти нависающие тяжкими воспоминаниями здания. Здесь же стоит памятник и тому, кто по праву может считаться одним из главных руководителей когорт карателей и палачей: вот он – Железный Феликс, тот самый легендарный ленинский сподвижник, имя которого прочно слилось с представлением о массовых расстрелах и реках пролитой крови.
И вот как совпало, что именно здесь, в нескольких десятках метров от священного Соловецкого камня, в самом центре Москвы маячит силуэт палача тех самых жертв, память о которых мы собрались почтить.
И в этом есть какое-то странное трагическое недоразумение. Либо пусть стоит здесь памятник Дзержинскому, по нему и площадь названа. Либо пусть его уберут, и она снова станет Лубянкой, куда люди будут приходить отдать долг памяти миллионов жертв коммунистического террора.
Совесть и здравый смысл не допускают такой двойственности».
Потом была панихида, звучал хор, горели свечи…
«На открытии памятника, – было напечатано в газетах на следующий день, – присутствовал первый секретарь МГК КПСС Ю.А. Прокофьев. Он возложил к подножию валуна букет бордовых гвоздик».

После открытия памятника «жертвам тоталитарного режима» бывший заключенный Лев Николаевич Мартюхин, представлявшийся при знакомстве «заключенный-каторжанин Соловков, Беломорканала и Колымы», написал стихотворение «Соловецкий камень». Он прожил долгую жизнь, ему шел уже девятый десяток, в Соловецком камне для него воплотилась память обо всем, что пережила Россия и пережил он за советское время.
Мартюхин называет Камень «окаменевшим сердцем России».
Год спустя, в 1991-м, после провала ГКЧП – попытки старых партийных функционеров вернуть себе всю полноту власти – народная ненависть обратилась, как некогда на Бастилию, на символы партийным вождям, многими тысячами наставленных режимом на улицах и площадях всех населенных пунктов. В Москве первым объектом этой ненависти, естественно, стали здание ВЧК – НКВД на Лубянке и памятник Дзержинскому. Люди, опьяненные воздухом свободы, желали, подобно тому, как французы в XVIII веке разнесли по кирпичам символ гнета – Бастилию, стереть с лица земли «Лубянку» – кровавый символ организации государственного террора, жертвами которого пали миллионы ни в чем не повинных людей. Это был страстный – закономерный и справедливый – порыв народа. Памятник Дзержинскому пытались свергнуть с пьедестала под восторженные крики многих тысяч москвичей, заполнивших площадь.
Камень-надгробие безвестной могилы.
Траур, свеча, панихида и тризна.
Убитый народ, палачи и громилы…
Некрополь жертв коммунизма!
Классы, борьба, злоба и месть…
Лубянка! – кровавое слово чекиста.
Старая площадь – «ум, совесть и честь».
И партийный билет коммуниста.
Камень – царский дворец и Октябрь Петрограда!
Большевистские съезды, ЦК резолюции
И убийство матросов Кронштадта
По приказу вождя революции!..
А деревня, земля, колоски и декреты?!
Пир сатаны на разбое и мести…
Сельсовет, ГПУ, кулаки и комбеды.
Эшелоны в тайгу и расстрелы на месте.
В нем история, символ, эпоха.
Кровь на полотнище красного флага.
Камень-алтарь, крест и Голгофа,
Ледяной крематорий ГУЛАГа.
Он – ровесник планеты и память веков.
Вечно живой и нетленный свидетель.
Вестник мира и правды и… тяжких оков.
Деспотии и бедствий всех лихолетий.
Приди же, подумай, погрусти, поклонись
Надгробию жертв и страданий безмерных.
Пойми, ужаснись и о них содрогнись,
Без вины, ни за что убиенных.
Исповедуй у камня свою совесть и грех.
О пощади нас, Господь! Спаситель-Мессия!
О, где же ты, вещий Олег?
И где же наш витязь, Россия?
В толпе было много корреспондентов радио, они записывали высказывания людей. Может быть, в архивах сохранились эти голоса площади, так похожие один на другой, потому что людьми овладело единое чувство, единая мысль, единый порыв к свободе.
Но московская власть воспринимала события иначе, чем люди на площади. Об этом – ином – взгляде рассказывает в своих воспоминаниях В.И. Ресин («Вечерний клуб», 6–12 ноября 1999 г.):
«22 августа (1991 г. – Ред.), когда, казалось бы, все в городе успокоилось, вечером звонят домой и сообщают: на площади Дзержинского вокруг памятника собралась громадная возбужденная толпа. Люди собираются сносить статую!
Приезжаю на площадь Дзержинского. Статуя стоит на месте, на пьедестале, но на шее с петлей, скрученной из троса. Люди пытаются повалить монумент, не представляя, что вручную это сделать практически невозможно. И опасно. Если дело пустить на самотек – все может кончится трагически и для тех, кто пытается свалить монумент, и для городских подземных коммуникаций. Они могли пострадать при падении многотонной глыбы с высокого пьедестала на землю, пронизанную кабелями, ведущими к зданию Комитета госбезопасности.
На площади происходил стихийный митинг. Круглый каменный цилиндр-пьедестал, на котором стояла бронзовая фигура Феликса Дзержинского, весь был испещрен надписями типа: «Палач», «Подлежит сносу!»

Юрий Михайлович вышел из машины и встал рядом с выступавшими. Толпа вокруг монумента ему, как и мне, была не по душе. Нужно было срочно сбить накал страстей, подавить агрессию, взять ситуацию под контроль, управлять озлобившейся массой, способной наделать бед.
Лужков в этой «ситуации ошибки», когда сходятся огонь и пламя, когда невозможно ни сделать что нужно, ни оставить как есть, принял еще одно свое подлинно управленческое решение – объявить о намерении правительства города немедленно демонтировать монумент. Но не руками толпы, а – специалистов.
Для этого срочно потребовалось вызвать монтажников и технику, они могли выполнить это решение быстро и профессионально.
Я дал команду, чтобы на площадь Дзержинского немедленно прибыли мощный кран «Главмосинжстроя» и монтажники.
Толпа после решения Лужкова успокоилась, стала ждать приезда монтажников, никто больше не предпринимал усилий свалить вручную обреченный на казнь монумент.
Больше никто не пытался и ворваться в здание КГБ, после того, как одна из дверей серого дома приоткрылась и в лица нападавшим ударила струя газа.
В то время, когда мы ожидали монтажников, к Лужкову подошли молодые люди и представились «защитниками Белого дома». Они потребовали технику, чтобы демонтировать не только памятник Дзержинскому, но и бронзовые памятники Свердлову и Калинину. Первый запятнал себя кровавым «расказачиванием», второй преступным «раскулачиванием». Премьер пошел им навстречу.
В полночь убрали статую Свердлова на площади Революции. Спустя час осталась без монумента глыба камня на проспекте Калинина, ныне Воздвиженке…»
В том же 1991 году Моссовет принял решение о возвращении площади исторического названия – Лубянская площадь.
Символом нового – освободившегося от тотального режима – времени стало на Лубянской площади здание «Детского мира», памятник действительно эпохального значения.
«Детский мир» строился по проекту группы архитекторов под руководством А.Н. Душкина (1903–1977) – выдающегося советского архитектора, автора таких замечательных работ, как станции метрополитена «Площадь Революции», «Кропоткинская», «Маяковская», высотного здания у Красных Ворот. «Детский мир» стал его последней работой и такой же принципиальной для архитектуры 1950-х годов, какими являются его предыдущие проекты. В начале 2000-х годов пошли разговоры о «моральной устарелости» здания, о его сносе и постройке нового. Но, к счастью, разум одержал верх над капиталистической алчностью, и «Детский мир» был поставлен на охрану как памятник советской архитектуры, правда, к сожалению, интерьеры и внутренняя планировка, также, конечно, являющаяся архитектурным памятником, будут уничтожены и превращены в типовой «торгово-развлекательный центр». Этого куска личной выгоды капитализм архитектуре и памяти не уступил.
В конце 1980-х – начале 1990-х годов на Лубянской площади у «Детского мира» и в его здании зашумел рынок «свободной торговли», вернулся описанный Маяковским «толчок» с орущими, «как грешные верблюды в конце мира», спекулянтами.
Воплощением идей рыночной экономики и ее влияния на градостроительство и в том числе на современный вид Лубянской площади внес и свою лепту построенный на ней в 1999 году Торговый дом «Наутилус».
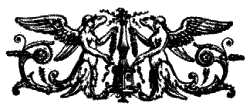
Большая Лубянка

За Лубянской площадью Троицкая дорога шла по улице, которая теперь называется Большой Лубянкой. В разные времена эти места и сама улица назывались по-разному: Кучково поле, Никольская улица, Сретенская, Лубянка, Большая Лубянская улица, улица имени Дзержинского, или просто – улица Дзержинского, и, наконец, снова – с 1991 года – Большая Лубянка.
