* * *
Сейчас, в начале XXI в. места, которые изучал Н. М. Пржевальский, сильно изменились. Но не с точки зрения природы. Автор этих строк, проводивший полевые исследования вразных частях Монголии в 1990-х г., смог убедиться, что эта часть Евразии все еще мало заселена; здесь пьянит пропитанный полынью воздух, неумолчно шумит ковыль, а монголы – как отмечал в своих дневниках Пржевальский – ездят по-прежнему в гости на лошадях. Деградация степных и пустынных ландшафтов проявляется в этих районах локально: там, где ведется орошаемое земледелие, идет добыча полезных ископаемых и бурлит городская жизнь.В наши дни путешественник уже не чувствует такой свободы, уединенности и воли в этих краях, как это было более столетия назад. Это можно сказать и об уссурийской тайге. Наиболее перспективная среди приамурских селений с точки зрения Пржевальского, Хабаровка превратилась в семисоттысячный город, а Владивосток, в котором на момент посещения Пржевальским проживало всего около пятисот человек, стал тихоокеанскими воротами России.
Началась и успешно проходила индустриализация и в соседнем Китае, а также в Монголии; она сопровождалась строительством горнопромышленных предприятий, бурением нефтяных скважин, постройкой крупных электростанций. Развитие железных дорог изменило и продолжает менять транспортную систему региона. На малообжитых землях, посещенных когда-то Пржевальским, в течение нескольких десятилетий второй половины ХХ в. проводились ядерные испытания (под Семипалатинском в Казахстане и у озера Лобнор в Китае); здесь же располагается китайский космодром.
Многое за минувшие полтора столетия произошло и в политической истории Центральной Азии. Вооруженные конфликты в окраинных землях Китая, немало мешавшие Пржевальскому во время его путешествий, продолжались и позднее и формально завершились образованием нескольких автономных районов Китая: Тибетского, Синьцзян-Уй-гурского, Внутренней Монголии, Нинься-Хуэйского. На протяжении столетия неспокойными были и пограничные отношения России (СССР) и Китая. Не прошла стороной эти места и Вторая мировая война… Во времена путешествий Пржевальского исследованная им территория была подчинена России и Китаю. Сейчас здесь существует целый ряд других самостоятельных государств: Монголия, Казахстан, Киргизия (территории двух последних были конечными и отправными пунктами тибетских путешествий Пржевальского).
После распада СССР изменилось отношение к могиле Пржевальского в окрестностях уже бывшего Пржевальска, вновь называемого Каракол. В связи со сменой исторических приоритетов это место, где ранее не иссякал поток посетителей, сегодня оказалось в стороне от туристических маршрутов. На рубеже ХХ и XXI столетий в мемориальном парке Пржевальского появилась еще одна могила – заслуженного киргизского академика.
Мне впервые довелось побывать там совсем недавно, в 2006 г., пройтись по абсолютно безлюдным аллеям парка, рассмотреть пожелтевшие и потрескавшиеся экспонаты музея, побеседовать с единственной смотрительницей – 80-летней русской женщиной, молча постоять у могилы путешественника под взглядом бронзового орла и с надеждой подумать о том, что и через десятки лет независимо ни от чего Россия не забудет своего великого сына – патриота, ученого и просто мужественного человека Николая Михайловича Пржевальского.
Климанова Оксана Александровна, кандидат географических наук, старший научный сотрудник географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
Путешествие в Уссурийском крае
Предисловие автора
Посвящается моей любимой матери
Сильная, с детства взлелеянная страсть к путешествию заставила меня после нескольких лет предварительной подготовки перебраться на службу в Восточную Сибирь – эту громадную и столь интересную во всех отношениях окраину царства русского.
Счастье улыбнулось мне здесь на первых же порах. Едва в апреле 1867 года я приехал в Иркутск, как, благодаря радушному содействию со стороны сибирского отдела Русского Географического общества и просвещенному сочувствию ко всякому научному стремлению бывшего начальника штаба здешних войск, ныне покойного генерал-майора Кукеля, через месяц по приезде я уже получил командировку в Уссурийский край, который составляет лучшую и наиболее интересную часть наших амурских владений. Служебная цель этой командировки заключалась в различных статистических изысканиях, рядом с которыми могли итти и мои личные занятия, имевшие предметом посильное изучение природы и людей нового, малоисследованного края.
Таким образом, на моих плечах лежали две ноши, из которых первая, т. е. служебная, как безусловно обязательная, часто действовала не совсем выгодно относительно другой. Для человека, связанного службой и, следовательно, лица ответственного, каким был я, дело личных исследований и дело науки поневоле подчинялось служебным расчетам и требованиям, а потому часто не могло быть настолько полным, насколько того желалось с моей стороны.
Таким образом, из двух с лишком лет, проведенных мною в Уссурийском и вообще Амурском крае, я должен был чисто по служебным обязанностям прожить полгода в г. Николаевске на устье Амура и почти целое лето 1868 года находиться участником в военных действиях против китайских разбойников, появлявшихся в наших пределах. В том и другом случае время для научных изысканий прошло совершенно бесследно.
С другой стороны, многочисленность лежавших на мне занятий не могла не отразиться на их большей или меньшей полноте и успешности. Таким образом, кроме различных статистических исследований и иногда производства съемки, я должен был при постоянных передвижениях с места на место делать ежедневно метеорологические наблюдения, собирать и сушить растения, стрелять птиц, приготовлять из них чучела, вести дневник и т. д, словом, беспрестанно хватать то одну, то другую работу.
Притом, к большому счастью я должен отнести то обстоятельство, что имел у себя деятельного и усердного помощника в лице воспитанника иркутской гимназии Николая Ягу-нова, который был неизменным спутником моих странствований. С этим энергичным юношей делил я все свои труды, заботы и радости, так что считаю святым долгом высказать ему, как ничтожную дань, мою искреннюю признательность.
Независимо от исполнения служебных поручений и составления различных коллекций, главным предметом моих специальных исследований в продолжение всей экспедиции были наблюдения над птицами, преимущественно бассейна озера Ханки, где мне удалось провести две весны 1868 и 1869 годов.
Результаты своих орнитологических наблюдений я намерен изложить в особой, специальной статье.
Для того же чтобы представить общую картину Уссурийского края, я решился напечатать предлагаемую книгу, которая должна заключать в себе рассказ очевидца о стране, им посещенной; рассказ, конечно, часто неполный и отрывочный, но написанный с искренним желанием автора передать снисходительному суду публики в правдивой, беспристрастной форме те наблюдения и впечатления, которые вынесены им из путешествия в стране далекой и малоизвестной.
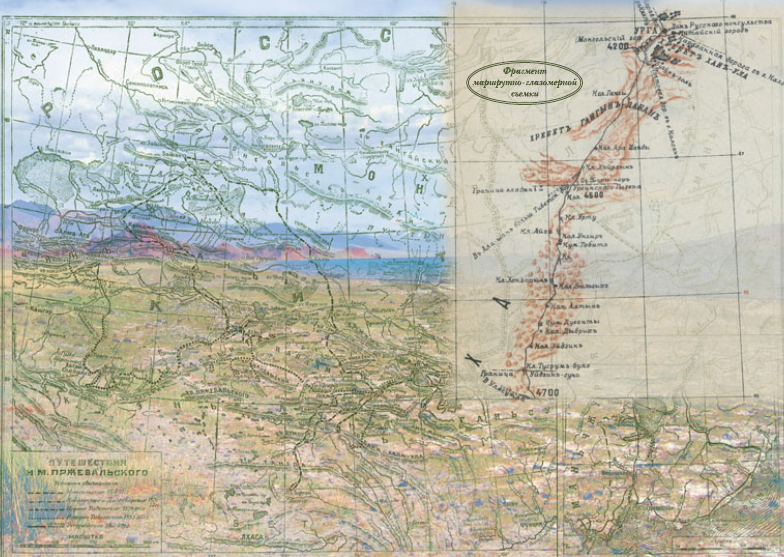
Глава первая
Отъезд из Иркутска. – Байкал. – Забайкалье. – Плавание вниз по Шилке. – Прибытие на Амур. – Дальнейшее следование. – Прибытие на Уссури
Дорог и памятен для каждого человека тот день, в который осуществляются его заветные стремления, когда после долгих препятствий он видит, наконец, достижение цели, давно желанной.
Таким незабвенным днем было для меня 26 мая 1867 года, когда, получив служебную командировку в Уссурийский край и наскоро запасшись всем необходимым для предстоящего путешествия, я выехал из Иркутска по дороге, ведущей к озеру Байкалу и далее через все Забайкалье к Амуру.
Миновав небольшое шестидесятиверстное расстояние между Иркутском и Байкалом, я вскоре увидел перед собой громадную водную гладь этого озера, обставленного высокими горами, на вершине которых еще виднелся местами лежащий снег.
Летнее сообщение через Байкал производилось в то время двумя частными купеческими пароходами, которые возили пассажиров и грузы товаров. Пристанями для всех пароходов служили: на западном берегу озера селение Лиственничное, лежащее у истока реки Ангары, а на восточном – Посольское, расстояние между которыми около 90 верст [96 км].
Во время лета пароходство производилось правильно по расписанию; но зато осенью, когда на Байкале свирепствуют сильные ветры,[5] скорость и правильность сообщения зависела исключительно от состояния погоды.
Кроме водного сообщения через Байкал, вокруг южной оконечности этого озера существует еще сухопутное почтовое, по так называемой кругобайкальской дороге, устроенной несколько лет назад. Впрочем, летом по этой дороге почти никто не ездит, так как во время существования пароходов каждый находил гораздо удобнее и спокойнее совершить переезд через озеро.
На одном из таких пароходов перебрался и я на противоположную сторону Байкала и тотчас же отправился на почтовых в дальнейший путь.
Дружно понеслась лихая тройка, и быстро стали мелькать различные ландшафты: горы, речки, долины, русские деревни, бурятские улусы…[6]
Без остановок, в насколько дней, проехал я тысячу верст поперек всего Забайкалья до селения Сретенского на реке Шил-ке, откуда уже начинается пароходное сообщение с Амуром.
Местность на всем вышеозначенном протяжении носит вообще гористый характер, то дикий и угрюмый там, где горы покрыты дремучими, преимущественно хвойными лесами, то более смягченный там, где расстилаются безлесные степные пространства. Последние преобладают в восточной части Забайкалья по Ингоде, Аргуни и, наконец, по Шилке.
В таких степных местностях, представляющих на каждом шагу превосходные пастбища, весьма обширно развито всякое скотоводство как у наших русских крестьян и казаков, так и у кочевых бурят, известных в здешних местах под именем братских.
Однако Забайкалье произвело на меня не совсем благоприятное впечатление.
Суровый континентальный климат этой части Азии давал вполне знать о себе, и, несмотря на конец мая, по ночам бывало так холодно, что я едва мог согреваться в полушубке, а на рассвете 30-го числа этого месяца даже появился небольшой мороз, и земля, по низменным местам, покрылась инеем.
Растительная жизнь также еще мало была развита: деревья и кустарники не вполне развернули свои листья, а трава на песчаной и частью глинистой почве степей едва поднималась на вершок [4,4 см] и почти вовсе не прикрывала грязносерого грунта.
С большей отрадой останавливался взор только на плодородных долинах рек Селенги, Уды, Кыргылея и др., которые уже были покрыты яркой зеленью и пестрым ковром весенних цветов, преимущественно лютика и синего касатика.
Даже птиц по дороге встречалось сравнительно немного, так как время весеннего пролета уже прошло, а оставшиеся по большей части сидели на яйцах.
Только кой-где важно расхаживал одинокий журавль или бегали небольшие стада дроф, а на озерах плавали утки различных пород. Иногда раздавался звонкий голос лебедя-кликуна, между тем как знакомый европейский певец жаворонок заливался в вышине своей звонкой трелью и сильно оживлял ею безмолвные степи.
С перевалом за Яблонный [Яблоневый] хребет, главный кряж которого проходит недалеко от областного города Читы и имеет здесь до 4000 футов [1220 м] абсолютной высоты, характер местности несколько изменился: она сделалась более открытой, степной.
Вместе с тем и сам климат стал как будто теплее, так что на живописных берегах Ингоды уже были в полном цвету боярка, шиповник, черемуха, яблоня, а по лугам красовались касатик, лютик, лапчатка, одуванчик, первоцвет и другие весенние цветы.
Из животного царства характерным явлением этой степной части Забайкалья служат байбаки, или, по-местному, тарбаганы, небольшие зверьки из отряда грызунов, живущие в норках, устраиваемых под землей.
Впрочем, большую часть дня, в особенности утро и вечер, эти зверьки проводят на поверхности земли, добывая себе пищу или просто греясь на солнце возле своих нор, от которых никогда не удаляются на большое расстояние. Застигнутый врасплох, тарбаган пускается бежать что есть духу к своей норе и останавливается только у ее отверстия, где уже считает себя вполне безопасным. Если предмет, возбудивший его страх, например человек или собака, находится еще не слишком близко, то, будучи крайне любопытен, этот зверек обыкновенно не прячется в нору, но с удивлением рассматривает своего неприятеля.
Часто он становится при этом на задние лапы и подпускает к себе человека шагов на сто, так что убить его в подобном положении пулей из штуцера для хорошего стрелка довольно легко. Однако, будучи даже смертельно ранен, тарбаган все еще успеет заползти в свою нору, откуда уже его нельзя иначе достать, как откапывая. Мне самому во время проезда случилось убить несколько тарбаганов, но я не взял ни одного из них, так как не имел ни времени, ни охоты заняться откапыванием норы.
Русские вовсе не охотятся за тарбаганами, но буряты и тунгусы промышляют их ради мяса и жира, которого осенью старый самец дает до пяти фунтов [до 2 кг].
Мясо употребляется с великой охотой в пищу теми же самыми охотниками, а жир идет в продажу.
Добывание тарбаганов производится различным способом: их стреляют из ружей, ловят в петли, наконец, откапывают поздней осенью из нор, в которых они предаются зимней спячке.
Однако такое откапывание дело нелегкое, потому что норы у тарбаганов весьма глубоки и на большое расстояние идут извилисто под землей. Зато, напав на целое общество, промышленник сразу забирает иногда до двадцати зверьков.
Утром 5 июня я приехал в селение Сретенское. Однако здесь нужно было прождать несколько дней, так как пароход не мог отходить за мелководьем Шилки.
Нужно заметить, что Сретенское есть крайний пункт, откуда отправляются пароходы, плавающие по Амуру. Выше этого места они могут подниматься не более как верст на сто до города Нерчинска и то лишь при большой воде.
В тех видах, что Сретенское есть крайний пункт амурского пароходства, здесь устроена гавань для починки и зимовки пароходов. Впрочем, большая часть этих пароходов зимует в городе Николаевске, а в Сретенском остается не более двух или трех.
Вообще все водное сообщение по Амуру производится в настоящее время 12 казенными и 5 частными пароходами; кроме того, здесь есть еще 4 парохода телеграфного и 3 инженерного ведомств, так что всего 24 паровых судна.
Несмотря, однако, на такое довольно значительное их количество, водное сообщение по Амуру далеко нельзя назвать скорым и удобным.
Определенных, правильных рейсов здесь не существует до сих пор, а пароходы приходят и уходят, плывут дальше или ближе, направляются в ту или другую сторону смотря по надобности и расчетам местного начальства.
Такие надобности обусловливаются главным образом перевозкой солдат и буксировкой барж с различными казенными транспортами, так что пассажиры, волей или неволей, должны иногда жить недели две-три на одном и том же месте в ожидании отходящего парохода.
Затем, если число таковых пассажиров велико, то они помещаются как попало: кто в каюте, набитой народом, как сельдями в бочке, а кто и на палубе, под открытым небом.
Притом же ко всем неудобствам здешней пароходной езды присоединяется еще то обстоятельство, что на многих пароходах вовсе нет буфетов, и путники должны сами заботиться о своем продовольствии.
Подобное условие составляет весьма неприятную задачу, так как при быстроте езды и малых остановках только для нагрузки дров или для ночлега нет времени для закупки припасов, которых часто и вовсе нельзя найти в бедных казачьих станицах. Притом, даже и купивши этих припасов, некому и негде их приготовить при тесноте пароходной кухни.
Последнее удовольствие суждено было испытать и мне, когда, наконец, 9 июня пароход вышел из Сретенского и направился вниз по Шилке.
Не успели мы отойти и сотни верст, как этот пароход, налетевши с размаху на камень, сделал себе огромную пробоину в подводной части и должен был остановиться для починки в Шилкинском заводе, возле которого случилось несчастье.
Между тем вода в Шилке опять начала сбывать, так что пароход и починившись мог простоять здесь долгое время, поэтому я решился ехать далее на лодке.
Пригласив с собой одного из пассажиров, бывших на пароходе, и уложив кое-как свои вещи на утлой ладье, мы пустились вниз по реке.
Признаюсь, я был отчасти рад такому случаю, потому что, путешествуя в лодке, мог располагать своим временем и ближе познакомиться с местностями, по которым проезжал.
Вскоре мы прибыли в казачью станицу Горбицу, откуда до слияния Шилки с Аргунью тянется на протяжении двухсот верст пустынное, ненаселенное место. Для поддержания почтового сообщения здесь расположено только семь одиноких почтовых домиков, известных по всему Амуру и Забайкалью под метким именем «семи смертных грехов».
Действительно, эти станции вполне заслуживают такого названия по тем всевозможным неприятностям, которые встречает здесь зимой каждый проезжающий как относительно помещения, так и относительно почтовых лошадей, содержимых крайне небрежно и едва способных волочить свои собственные ноги, а не возить путников.
На всем вышеозначенном двухсотверстном протяжении берега Шилки носят дикий мрачный характер. Сжатая в одно русло шириной 70—100 сажен [140–200 м], эта река быстро стремится между горами, которые часто вдвигаются в нее голыми, отвесными утесами и только изредка образуют неширокие пади и долины.
Сами горы покрыты хвойными лесами, состоящими из сосны и лиственницы, а в иных местах, в особенности на так называемых россыпях, т. е. рассыпавшихся от выветривания горных породах, совершенно обнажены.
Хотя животная жизнь в здешних горных лесах весьма обильна и в них водится множество различных зверей: медведей, сохатых, изюбров, белок, кабарги и отчасти соболей, но все-таки эти леса, как вообще вся сибирская тайга, характеризуются своей могильной тишиной и производят на непривычного человека мрачное, подавляющее впечатление.
Даже певчую птицу в них можно услышать только изредка: она как будто боится петь в этой глуши.
Остановишься, бывало, в таком лесу, прислушаешься, и ни малейший звук не нарушает тишины. Разве только изредка стукнет дятел или прожужжит насекомое и улетит бог знает куда. Столетние деревья угрюмо смотрят кругом, густое мелколесье и гниющие пни затрудняют путь на каждом шагу и дают живо чувствовать, что находишься в лесах девственных, до которых еще не коснулась рука человека…
Несколько оживленнее были только горные пади, где показывался лиственный лес, и редкие, неширокие луга по берегам Шилки там, где горы отходили в сторону на небольшое расстояние. Травянистая флора таких местностей была весьма разнообразна и являлась в полной весенней свежести и красоте.
Замечательно, что, несмотря на половину июня, по берегам Шилки иногда еще попадался лед, пластами сажен в семьдесят [метров 150] длиной при толщине более двух футов [60 см]. Гребцы казаки говорили мне, что тут можно встретить лед до начала июля, и это служит весьма красноречивой рекомендацией суровости здешнего климата.
Во время плавания по реке нам везде попадались различные птицы: кулики, утки, чомги, цапли, черные аисты, и как страстный охотник я не мог утерпеть, чтобы не выстрелить в ту или другую из них.
Обыкновенно я помещался на носу лодки и постоянно посылал приветствия всем встречающимся тварям то из ружья, то из штуцера, смотря по расстоянию.
Часто также случалось, что, заметив где-нибудь в стороне сидящего на вершине дерева орла, я приказывал лодке привалить к берегу и сам шел подкрадываться к осторожной птице.
Такие остановки как нельзя более задерживали скорость езды, мой товарищ-пассажир сто раз каялся, что поехал со мной, я сам давал себе обещание не вылезать больше из лодки и не ходить в сторону, но через какой-нибудь час вновь замечал орла или аиста, и вновь повторялась та же история.
Однажды мне посчастливилось даже убить кабаргу, которая переплывала через Шилку. Вообще кабарги здесь очень много по скалистым утесам и каменистым россыпям в горах, но это зверь весьма чуткий и осторожный, так что убить его очень трудно.
Местные жители добывают кабаргу, устраивая в лесах завалы из валежника и делая в них сажен через пятьдесят проходы, в которых настораживаются бревна. Встречая на своем пути такой завал, кабарга идет вдоль него, пока не найдет отверстие, в которое старается пролезть, в это время настороженное бревно падает и давит зверя.
Такой лов бывает в особенности удачен в декабре, во время течки, когда самец везде следует за самкой, которая идет впереди. Когда упавшее бревно задавит самку, тогда самец долго еще бегает около этого места, попадает на другой проход и в свою очередь бывает задавлен.
Кроме того, кабаргу, так же как и косулю, можно убивать на пищик, которым подражают голосу ее детеныша.
Мясо кабарги на вкус неприятно, но главная добыча от этого зверя, кроме шкуры, состоит в мешочке мускуса, который находится у самца на брюхе и ценится в здешних местах от одного до двух рублей.
Благодаря быстрому течению Шилки мы успевали, несмотря на частые остановки, проезжать верст по сто в сутки и 14 июня прибыли к тому месту, где эта река, сливаясь с Ар-гунью, дает начало великому Амуру.
Последний имеет здесь не более полутораста сажен [320 м] ширины и, почти не изменяя характера берегов Шилки, прорывается через северную часть Хинганского хребта, который, как известно, отделяет собой Маньчжурию[7] от Монголии. Как здесь, так и несколько далее река имеет общее направление к востоку до Албазина – казачьей станицы, выстроенной на месте бывшего городка, знаменитого геройской защитой в конце XVII столетия горсти наших казаков против многочисленного китайского войска, их осаждавшего. В самой станице до сих пор еще видны остатки валов прежнего укрепления, а на острове у противоположного берега реки сохранились следы китайской батареи.
В настоящее время Албазин – одна из лучших казачьих станиц верхнего Амура, и в нем считается белее ста дворов.
Быстрому возрастанию его много способствуют открытые в 1866 году верстах в полутораста отсюда золотые россыпи. Во время моего проезда работы на этих приисках еще не начались, но в 1868 году уже было добыто более пятидесяти пудов золота, а в 1869 году около ста пудов [1640 кг].
Прибыв в Албазин, я застал там совершенно неожиданно частный пароход, отходивший в город Благовещенск, и потому, оставив лодку, поплыл далее опять на пароходе.
Начиная отсюда, вместе с поворотом Амура к югу изменяется и самый характер его течения. Взамен одного сжатого русла, река разбивается на рукава и образует большие и малые острова, хотя ширина ее увеличивается немного, так что местами от одного берега до другого около полуверсты, а местами только сажен двести [400 м] или даже того менее.
Быстрота течения все еще очень велика, и часто можно слышать особый, дребезжащий шум от мелкой гальки, которую катит река по своему песчаному и каменистому ложу.
Обе стороны Амура по-прежнему обставлены горами, которые здесь уже гораздо ниже и носят более мягкий характер. Эти горы на правом берегу составляют отроги северной части Хинганского хребта и известны под именем Ильхури-Алинь, на левой же стороне реки они носят название хребта Нюкжа, который служит разделом между притоками Зеи и верхнего Амура.
Первый из этих хребтов, т. е. Ильхури-Алинь, удаляясь то более, то менее от берега реки, тянется далеко к югу и соединяется с северными отрогами Буреинского хребта или Малого Хингана. Другие же горы, Нюкжа, идут, постоянно понижаясь, до устья реки Зеи и, наконец, сливаются с равнинами, которые, начиная отсюда, тянутся по левому берегу Амура.
Из многих, часто весьма красивых и величественных утесов, образуемых береговыми горами, замечательны: скала
Корсакова и гора Цагаян, которая протянулась дугой более чем на версту по левому берегу реки и возвышается до 300 футов [90 м] над ее уровнем.
Желтоватые, изборожденные бока этой горы, состоящей из песчаника, представляют красивый вид, и в них почти на середине вышины заметны прослойки каменного угля, который по временам дымится.
Дорог и памятен для каждого человека тот день, в который осуществляются его заветные стремления, когда после долгих препятствий он видит, наконец, достижение цели, давно желанной.
Таким незабвенным днем было для меня 26 мая 1867 года, когда, получив служебную командировку в Уссурийский край и наскоро запасшись всем необходимым для предстоящего путешествия, я выехал из Иркутска по дороге, ведущей к озеру Байкалу и далее через все Забайкалье к Амуру.
Миновав небольшое шестидесятиверстное расстояние между Иркутском и Байкалом, я вскоре увидел перед собой громадную водную гладь этого озера, обставленного высокими горами, на вершине которых еще виднелся местами лежащий снег.
Летнее сообщение через Байкал производилось в то время двумя частными купеческими пароходами, которые возили пассажиров и грузы товаров. Пристанями для всех пароходов служили: на западном берегу озера селение Лиственничное, лежащее у истока реки Ангары, а на восточном – Посольское, расстояние между которыми около 90 верст [96 км].
Во время лета пароходство производилось правильно по расписанию; но зато осенью, когда на Байкале свирепствуют сильные ветры,[5] скорость и правильность сообщения зависела исключительно от состояния погоды.
Кроме водного сообщения через Байкал, вокруг южной оконечности этого озера существует еще сухопутное почтовое, по так называемой кругобайкальской дороге, устроенной несколько лет назад. Впрочем, летом по этой дороге почти никто не ездит, так как во время существования пароходов каждый находил гораздо удобнее и спокойнее совершить переезд через озеро.
На одном из таких пароходов перебрался и я на противоположную сторону Байкала и тотчас же отправился на почтовых в дальнейший путь.
Дружно понеслась лихая тройка, и быстро стали мелькать различные ландшафты: горы, речки, долины, русские деревни, бурятские улусы…[6]
Без остановок, в насколько дней, проехал я тысячу верст поперек всего Забайкалья до селения Сретенского на реке Шил-ке, откуда уже начинается пароходное сообщение с Амуром.
Местность на всем вышеозначенном протяжении носит вообще гористый характер, то дикий и угрюмый там, где горы покрыты дремучими, преимущественно хвойными лесами, то более смягченный там, где расстилаются безлесные степные пространства. Последние преобладают в восточной части Забайкалья по Ингоде, Аргуни и, наконец, по Шилке.
В таких степных местностях, представляющих на каждом шагу превосходные пастбища, весьма обширно развито всякое скотоводство как у наших русских крестьян и казаков, так и у кочевых бурят, известных в здешних местах под именем братских.
Однако Забайкалье произвело на меня не совсем благоприятное впечатление.
Суровый континентальный климат этой части Азии давал вполне знать о себе, и, несмотря на конец мая, по ночам бывало так холодно, что я едва мог согреваться в полушубке, а на рассвете 30-го числа этого месяца даже появился небольшой мороз, и земля, по низменным местам, покрылась инеем.
Растительная жизнь также еще мало была развита: деревья и кустарники не вполне развернули свои листья, а трава на песчаной и частью глинистой почве степей едва поднималась на вершок [4,4 см] и почти вовсе не прикрывала грязносерого грунта.
С большей отрадой останавливался взор только на плодородных долинах рек Селенги, Уды, Кыргылея и др., которые уже были покрыты яркой зеленью и пестрым ковром весенних цветов, преимущественно лютика и синего касатика.
Даже птиц по дороге встречалось сравнительно немного, так как время весеннего пролета уже прошло, а оставшиеся по большей части сидели на яйцах.
Только кой-где важно расхаживал одинокий журавль или бегали небольшие стада дроф, а на озерах плавали утки различных пород. Иногда раздавался звонкий голос лебедя-кликуна, между тем как знакомый европейский певец жаворонок заливался в вышине своей звонкой трелью и сильно оживлял ею безмолвные степи.
С перевалом за Яблонный [Яблоневый] хребет, главный кряж которого проходит недалеко от областного города Читы и имеет здесь до 4000 футов [1220 м] абсолютной высоты, характер местности несколько изменился: она сделалась более открытой, степной.
Вместе с тем и сам климат стал как будто теплее, так что на живописных берегах Ингоды уже были в полном цвету боярка, шиповник, черемуха, яблоня, а по лугам красовались касатик, лютик, лапчатка, одуванчик, первоцвет и другие весенние цветы.
Из животного царства характерным явлением этой степной части Забайкалья служат байбаки, или, по-местному, тарбаганы, небольшие зверьки из отряда грызунов, живущие в норках, устраиваемых под землей.
Впрочем, большую часть дня, в особенности утро и вечер, эти зверьки проводят на поверхности земли, добывая себе пищу или просто греясь на солнце возле своих нор, от которых никогда не удаляются на большое расстояние. Застигнутый врасплох, тарбаган пускается бежать что есть духу к своей норе и останавливается только у ее отверстия, где уже считает себя вполне безопасным. Если предмет, возбудивший его страх, например человек или собака, находится еще не слишком близко, то, будучи крайне любопытен, этот зверек обыкновенно не прячется в нору, но с удивлением рассматривает своего неприятеля.
Часто он становится при этом на задние лапы и подпускает к себе человека шагов на сто, так что убить его в подобном положении пулей из штуцера для хорошего стрелка довольно легко. Однако, будучи даже смертельно ранен, тарбаган все еще успеет заползти в свою нору, откуда уже его нельзя иначе достать, как откапывая. Мне самому во время проезда случилось убить несколько тарбаганов, но я не взял ни одного из них, так как не имел ни времени, ни охоты заняться откапыванием норы.
Русские вовсе не охотятся за тарбаганами, но буряты и тунгусы промышляют их ради мяса и жира, которого осенью старый самец дает до пяти фунтов [до 2 кг].
Мясо употребляется с великой охотой в пищу теми же самыми охотниками, а жир идет в продажу.
Добывание тарбаганов производится различным способом: их стреляют из ружей, ловят в петли, наконец, откапывают поздней осенью из нор, в которых они предаются зимней спячке.
Однако такое откапывание дело нелегкое, потому что норы у тарбаганов весьма глубоки и на большое расстояние идут извилисто под землей. Зато, напав на целое общество, промышленник сразу забирает иногда до двадцати зверьков.
Утром 5 июня я приехал в селение Сретенское. Однако здесь нужно было прождать несколько дней, так как пароход не мог отходить за мелководьем Шилки.
Нужно заметить, что Сретенское есть крайний пункт, откуда отправляются пароходы, плавающие по Амуру. Выше этого места они могут подниматься не более как верст на сто до города Нерчинска и то лишь при большой воде.
В тех видах, что Сретенское есть крайний пункт амурского пароходства, здесь устроена гавань для починки и зимовки пароходов. Впрочем, большая часть этих пароходов зимует в городе Николаевске, а в Сретенском остается не более двух или трех.
Вообще все водное сообщение по Амуру производится в настоящее время 12 казенными и 5 частными пароходами; кроме того, здесь есть еще 4 парохода телеграфного и 3 инженерного ведомств, так что всего 24 паровых судна.
Несмотря, однако, на такое довольно значительное их количество, водное сообщение по Амуру далеко нельзя назвать скорым и удобным.
Определенных, правильных рейсов здесь не существует до сих пор, а пароходы приходят и уходят, плывут дальше или ближе, направляются в ту или другую сторону смотря по надобности и расчетам местного начальства.
Такие надобности обусловливаются главным образом перевозкой солдат и буксировкой барж с различными казенными транспортами, так что пассажиры, волей или неволей, должны иногда жить недели две-три на одном и том же месте в ожидании отходящего парохода.
Затем, если число таковых пассажиров велико, то они помещаются как попало: кто в каюте, набитой народом, как сельдями в бочке, а кто и на палубе, под открытым небом.
Притом же ко всем неудобствам здешней пароходной езды присоединяется еще то обстоятельство, что на многих пароходах вовсе нет буфетов, и путники должны сами заботиться о своем продовольствии.
Подобное условие составляет весьма неприятную задачу, так как при быстроте езды и малых остановках только для нагрузки дров или для ночлега нет времени для закупки припасов, которых часто и вовсе нельзя найти в бедных казачьих станицах. Притом, даже и купивши этих припасов, некому и негде их приготовить при тесноте пароходной кухни.
Последнее удовольствие суждено было испытать и мне, когда, наконец, 9 июня пароход вышел из Сретенского и направился вниз по Шилке.
Не успели мы отойти и сотни верст, как этот пароход, налетевши с размаху на камень, сделал себе огромную пробоину в подводной части и должен был остановиться для починки в Шилкинском заводе, возле которого случилось несчастье.
Между тем вода в Шилке опять начала сбывать, так что пароход и починившись мог простоять здесь долгое время, поэтому я решился ехать далее на лодке.
Пригласив с собой одного из пассажиров, бывших на пароходе, и уложив кое-как свои вещи на утлой ладье, мы пустились вниз по реке.
Признаюсь, я был отчасти рад такому случаю, потому что, путешествуя в лодке, мог располагать своим временем и ближе познакомиться с местностями, по которым проезжал.
Вскоре мы прибыли в казачью станицу Горбицу, откуда до слияния Шилки с Аргунью тянется на протяжении двухсот верст пустынное, ненаселенное место. Для поддержания почтового сообщения здесь расположено только семь одиноких почтовых домиков, известных по всему Амуру и Забайкалью под метким именем «семи смертных грехов».
Действительно, эти станции вполне заслуживают такого названия по тем всевозможным неприятностям, которые встречает здесь зимой каждый проезжающий как относительно помещения, так и относительно почтовых лошадей, содержимых крайне небрежно и едва способных волочить свои собственные ноги, а не возить путников.
На всем вышеозначенном двухсотверстном протяжении берега Шилки носят дикий мрачный характер. Сжатая в одно русло шириной 70—100 сажен [140–200 м], эта река быстро стремится между горами, которые часто вдвигаются в нее голыми, отвесными утесами и только изредка образуют неширокие пади и долины.
Сами горы покрыты хвойными лесами, состоящими из сосны и лиственницы, а в иных местах, в особенности на так называемых россыпях, т. е. рассыпавшихся от выветривания горных породах, совершенно обнажены.
Хотя животная жизнь в здешних горных лесах весьма обильна и в них водится множество различных зверей: медведей, сохатых, изюбров, белок, кабарги и отчасти соболей, но все-таки эти леса, как вообще вся сибирская тайга, характеризуются своей могильной тишиной и производят на непривычного человека мрачное, подавляющее впечатление.
Даже певчую птицу в них можно услышать только изредка: она как будто боится петь в этой глуши.
Остановишься, бывало, в таком лесу, прислушаешься, и ни малейший звук не нарушает тишины. Разве только изредка стукнет дятел или прожужжит насекомое и улетит бог знает куда. Столетние деревья угрюмо смотрят кругом, густое мелколесье и гниющие пни затрудняют путь на каждом шагу и дают живо чувствовать, что находишься в лесах девственных, до которых еще не коснулась рука человека…
Несколько оживленнее были только горные пади, где показывался лиственный лес, и редкие, неширокие луга по берегам Шилки там, где горы отходили в сторону на небольшое расстояние. Травянистая флора таких местностей была весьма разнообразна и являлась в полной весенней свежести и красоте.
Замечательно, что, несмотря на половину июня, по берегам Шилки иногда еще попадался лед, пластами сажен в семьдесят [метров 150] длиной при толщине более двух футов [60 см]. Гребцы казаки говорили мне, что тут можно встретить лед до начала июля, и это служит весьма красноречивой рекомендацией суровости здешнего климата.
Во время плавания по реке нам везде попадались различные птицы: кулики, утки, чомги, цапли, черные аисты, и как страстный охотник я не мог утерпеть, чтобы не выстрелить в ту или другую из них.
Обыкновенно я помещался на носу лодки и постоянно посылал приветствия всем встречающимся тварям то из ружья, то из штуцера, смотря по расстоянию.
Часто также случалось, что, заметив где-нибудь в стороне сидящего на вершине дерева орла, я приказывал лодке привалить к берегу и сам шел подкрадываться к осторожной птице.
Такие остановки как нельзя более задерживали скорость езды, мой товарищ-пассажир сто раз каялся, что поехал со мной, я сам давал себе обещание не вылезать больше из лодки и не ходить в сторону, но через какой-нибудь час вновь замечал орла или аиста, и вновь повторялась та же история.
Однажды мне посчастливилось даже убить кабаргу, которая переплывала через Шилку. Вообще кабарги здесь очень много по скалистым утесам и каменистым россыпям в горах, но это зверь весьма чуткий и осторожный, так что убить его очень трудно.
Местные жители добывают кабаргу, устраивая в лесах завалы из валежника и делая в них сажен через пятьдесят проходы, в которых настораживаются бревна. Встречая на своем пути такой завал, кабарга идет вдоль него, пока не найдет отверстие, в которое старается пролезть, в это время настороженное бревно падает и давит зверя.
Такой лов бывает в особенности удачен в декабре, во время течки, когда самец везде следует за самкой, которая идет впереди. Когда упавшее бревно задавит самку, тогда самец долго еще бегает около этого места, попадает на другой проход и в свою очередь бывает задавлен.
Кроме того, кабаргу, так же как и косулю, можно убивать на пищик, которым подражают голосу ее детеныша.
Мясо кабарги на вкус неприятно, но главная добыча от этого зверя, кроме шкуры, состоит в мешочке мускуса, который находится у самца на брюхе и ценится в здешних местах от одного до двух рублей.
Благодаря быстрому течению Шилки мы успевали, несмотря на частые остановки, проезжать верст по сто в сутки и 14 июня прибыли к тому месту, где эта река, сливаясь с Ар-гунью, дает начало великому Амуру.
Последний имеет здесь не более полутораста сажен [320 м] ширины и, почти не изменяя характера берегов Шилки, прорывается через северную часть Хинганского хребта, который, как известно, отделяет собой Маньчжурию[7] от Монголии. Как здесь, так и несколько далее река имеет общее направление к востоку до Албазина – казачьей станицы, выстроенной на месте бывшего городка, знаменитого геройской защитой в конце XVII столетия горсти наших казаков против многочисленного китайского войска, их осаждавшего. В самой станице до сих пор еще видны остатки валов прежнего укрепления, а на острове у противоположного берега реки сохранились следы китайской батареи.
В настоящее время Албазин – одна из лучших казачьих станиц верхнего Амура, и в нем считается белее ста дворов.
Быстрому возрастанию его много способствуют открытые в 1866 году верстах в полутораста отсюда золотые россыпи. Во время моего проезда работы на этих приисках еще не начались, но в 1868 году уже было добыто более пятидесяти пудов золота, а в 1869 году около ста пудов [1640 кг].
Прибыв в Албазин, я застал там совершенно неожиданно частный пароход, отходивший в город Благовещенск, и потому, оставив лодку, поплыл далее опять на пароходе.
Начиная отсюда, вместе с поворотом Амура к югу изменяется и самый характер его течения. Взамен одного сжатого русла, река разбивается на рукава и образует большие и малые острова, хотя ширина ее увеличивается немного, так что местами от одного берега до другого около полуверсты, а местами только сажен двести [400 м] или даже того менее.
Быстрота течения все еще очень велика, и часто можно слышать особый, дребезжащий шум от мелкой гальки, которую катит река по своему песчаному и каменистому ложу.
Обе стороны Амура по-прежнему обставлены горами, которые здесь уже гораздо ниже и носят более мягкий характер. Эти горы на правом берегу составляют отроги северной части Хинганского хребта и известны под именем Ильхури-Алинь, на левой же стороне реки они носят название хребта Нюкжа, который служит разделом между притоками Зеи и верхнего Амура.
Первый из этих хребтов, т. е. Ильхури-Алинь, удаляясь то более, то менее от берега реки, тянется далеко к югу и соединяется с северными отрогами Буреинского хребта или Малого Хингана. Другие же горы, Нюкжа, идут, постоянно понижаясь, до устья реки Зеи и, наконец, сливаются с равнинами, которые, начиная отсюда, тянутся по левому берегу Амура.
Из многих, часто весьма красивых и величественных утесов, образуемых береговыми горами, замечательны: скала
Корсакова и гора Цагаян, которая протянулась дугой более чем на версту по левому берегу реки и возвышается до 300 футов [90 м] над ее уровнем.
Желтоватые, изборожденные бока этой горы, состоящей из песчаника, представляют красивый вид, и в них почти на середине вышины заметны прослойки каменного угля, который по временам дымится.
