Эльфы и их хобби (сборник)
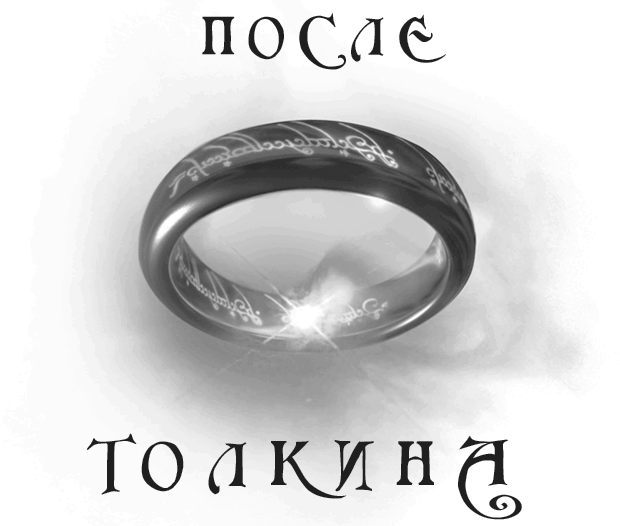
I. Маяк на краю света
Андрей Балабуха. Маяк на краю света
Quo, quo, scelesti, ruitis?..
Quintus Horatius Flaccus, Epod VII
Работать по утрам не любит никто – а уж хоббиты меньше всех. Утречком порядочному хоббиту надо: во-первых, выспаться, а для этого встать надлежит поближе к полудню; во-вторых, позавтракать, а на это серьезное занятие отводить меньше двух часов грешно; в-третьих, вдумчиво перекурить, что означает минимум три трубки. За этим последним занятием, правда, можно заодно обдумать дела, которыми предстоит посвятить день. Так то порядочным! А здесь собрались те, кому на приличную нору где-нибудь в Засельи, скажем, да чтобы с каким-никаким участком, еще вкалывать и вкалывать. А вкалывать приходится и по ночам, и по утрам. Какая уж тут порядочность – один распорядок!
Последний подъем – он самый трудный. Потому как раз что он последний – кураж весь вытек, ноги налились, и только знай себе считаешь шаги, а их аккурат девятьсот восемьдесят: за столько-то лет назубок выучил. Ведешь в поводу пони, смотришь под ноги и высчитываешь, сколько еще впереди. Ну, все, последняя дюжина. Уф!
Взойдя наконец на складскую площадку, Барнабас Стукк разгрузил пони, – бедная скотинка тоже изнемогла, – взвалил кули с углем на самую вершину кучи, в третий ряд, и вышел отдышаться на смотровую галерею. Вид с нее, впрочем, открывался безрадостный – куда ни кинь взгляд, одна вода, вода, вода, волны, волны, волны… Оно, конечно, если через парапет перегнуться и посмотреть прямо вниз, берег увидеть можно. Только смотреть в эту пропасть не хочется: мало того, что стоит тучерез на высоченной скале, так и сам он возносится без малого еще на полсотни туазов. Барнабас обвел взглядом горизонт. Даже единого паруса не видно. Так ведь днем они и появляются редко, все больше по вечерам да по ночам… Хоббит смачно плюнул в море, повернулся и по пологому пандусу, спиралью вьющемуся вдоль стен башни, повел своего пони вниз, к выходу из маяка, к земле и сочной травке.
Там уже поджидали остальные. Пони, враз забыв про усталость, резво потрусил на луг, к своим приятелям, а Барнабас тяжело зашагал к уже накрытому то ли для позднего завтрака, то ли для раннего обеда – называй как хочешь – столу, откуда призывно махал верный помощник Перигрин Пикль.
– Шире шаг, Барни, шире шаг! Стынет!
Любит Перри паниковать да поторапливать! Ничего не остыло, так что подзаправились по-хоббичьи основательно, но с разумением, чтобы не затяжелеть – работы впереди еще вдосталь: и стекла помыть – за ночь успевают порядком закоптиться; и первую порцию угля на решетку горелки выложить; и… и… Хозяйство-то непростое и немалое – всем четверым по уши дел хватит. Так и не привыкать же – не первый год, чай, службу несут…
И, конечно, управились вовремя.
Теперь и расслабиться можно.
– Ну что, старшой, забьем козла? – потирая в предвкушении руки, предложил Перри.
Не подумайте ничего плохого: хоббиты – народ гуманный, хотя до самой идеи гуманизма пока еще в своем развитии не дошли. И к животным относятся по-доброму, пусть даже до принятия закона об их охране или составления Красных книг не додумались. А уж чтобы какие-нибудь там жертвоприношения – так и вовсе ни-ни! При одной мысли о подобном дрожь пробирает. Конечно, от жареной козлятинки на ужин не откажутся. Но, во-первых, для доброго жаркого только молоденький козленок годится, причем лучше – козочка, и уж всяко никак не козел. Во-вторых – не самим же забивать? Это занятие другим передоверять принято – корчмарям, скажем, предпочтительно из верзил. Так что господин Пикль имел в виду всего лишь давным-давно занесенную из дальних краев игру, первоначально называвшуюся «орочьими костями». Откуда пошло такое название, не знает никто. То ли впрямь в былые времена выдумали ее орки, то ли сама игра по общему мнению подходила исключительно для могучего орочьего интеллекта – трудно сказать. Козел же здесь появился по недоразумению, ибо стол для «орочьих костей» традиционно раскладывали на козлах. Но давно известно: ничто так легко и надолго не приживается, как случайное и неправильное словоупотребление.
– Почему бы и нет? – отозвался Барнабас. – Играют все?
А как же иначе?
Патлатый Самюэль Сонкинс, в быту откликающийся на невесть откуда взявшееся и опять же потому добротно приклеившееся имя Самсон, мигом притащил козлы, а последний из четверки, Пит Брендивиск, – столешницу, сколоченную из плотно согнанных досок и отполированную многолетним употреблением. Стол расставили в тени тучереза – солнце в этот час еще поджаривало на совесть. Оно конечно, тень уползать будет, но на два-три кона хватит, а там и передвинуться можно. Разлили по кружкам сладкий октябрьский эль – под него игра идет особенно хорошо. Перри торжественно высыпал из кожаного мешочка кости и тщательно перемешал, приговаривая:
– Ты варись погуще, каша, чтоб удача стала наша!
– Это чья же? – насторожился Пит. – Играть-то ведь каждый за себя будем!
Хоббиты, надо заметить, командных игр не любят, даже двое на двое, предпочитая во всем основательную самодостаточность. То есть исключения, конечно, встречаются, но не то чтобы часто.
– А общая, – охотно пояснил Перри. – Чья бы ни была, твоя, моя, а все наша, хоббичья. А уж между собой всяко да разберемся.
– Уговорил, – кивнул Пит.
Диалог этот предшествовал игре всякий раз, однако никогда не надоедал.
Но разобрали кости в торжественном молчании. И дело пошло. Первое время слышались только звучные глотки да стук костей по дереву. Но мало-помалу под игру зашел разговор. Как всегда, необязательный, ничего не значащий, а потому особенно милый сердцу.
– Ты сегодня на галерею выходил, Барри? – полюбопытствовал Самсон.
Барнабас кивнул, сосредоточенно рассматривая кости. Если двойка на столе уцелеет, то длинный конец – его.
– И что там?
– А ничего.
Только бы Пит не забил вожделенную двойку!
– Ни одного паруса? – настаивал Самсон.
– Я же сказал!
А, дракон тебя жги, накрылась-таки двоечка!
– Так я не про те, что из Серой Гавани, – не отставал Самсон. – Те, всякий знает, только к ночи появляются. Зато уж потом прут – только огни считай. Я про те, что на восток идут. Ну, гондорские там или еще какие…
– Не сезон, – веско бросил Пит, дуплясь на оба конца – везет же ему! – Ветры не те. Вот погоди, к осени так целыми караванами потянутся.
Помолчали, воздавая должное элю. Перри долго разглядывал лежащие на ладони костяшки, наконец решился, выбрал:
– Все, забой! Считайте, у кого сколько!
Подсчитали, записали, снова смешали кости. Следующий кон провели в безмолвии, только кости резко погрохатывали о доски. И опять выиграл господин Пикль. Самсон вновь наполнил кружки. Пит вытащил кисет, и все последовали его примеру, на время позабыв об игре, – курение требует самоотдачи и сосредоточенности, разве что на приятную беседу отвлечься можно. А за этим дело не стало.
– И все-таки не пойму я, – вернулся к бесконечным своим вопросам Самсон. – Вот сами посудите. Тучерез наш верзилы строили…
– Дунаданы, – уточнил Пит. – Так это же когда было!
Но Самсон не дал себя сбить:
– А без разницы – работа, она всегда в цене, да еще такая. Сколько в такую башнюгу денежек вбухано?
– Изрядно, – степенно согласился Барнабас. – Только ты все дворцы да крепости по Средьземелью посчитай. Каждый не дешевле. И за все кто-то кому-то платил.
– Не путай, старшой, – гнул свое Самсон. – Дворец – он чтобы себя показать, власть там да величие. За то и плачено. Крепость – чтобы в покое жить. А тут? Вот хрустали эти жукоглазые наверху – гномья работа. Кто-кто, а уж эти не продешевят! Да и уголь они каждый месяц обозами пригоняют. Даром что ли? Нам вот тоже платят – и прилично. А чего все это ради, если кораблей не видать? Эльфийские – те только уходят и уходят. Гнома на воду веревкой не затащишь, почти как нашего брата. Корабли верзил ходят, да редко. Так ведь за веки вечные все это не окупится! Ну растолкуйте мне, в чем я неправ?
Барнабас задумался. В чем-то ведь парень прав. Не во всем, может, но зерно, похоже, есть. Сам он на эту тему особо не размышлял: раз маяки зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. А раз так – кому-то нужно их обихаживать. Так почему не им?
Неожиданно его невысказанную точку зрения поддержал вслух Перри:
– Есть такая штука, Самсон, миропорядок называется. Всегда был мыс Край Света. И маяк на нем от веку стоит. Посмотри, сколько тех же дворцов с крепостями в запустении пребывает, в заброшенности находится, в руинах лежит. А тут все – чин-чинарем. Выходит, поважнее маяк иного прочего. И не нам этот миропорядок не то что менять – обсуждать даже. Потому как от обсуждений все равно ничего не изменится, – и сменил тему: – Ну что, продолжим?
Продолжили.
Первую партию в конце четвертого кона выиграл-таки Перри. Ладно, записали счет, раскинули вторую – только стол малость передвинули, следуя за тенью.
– А кстати, – заметил вдруг ни с того ни с сего Пит, – с чего это мыс Краем Света называется? По мне, так уж правильнее – Край Тьмы. Как мы там, наверху, шуровать уголек начинаем – всякой тьме полный конец! Не зря же говорят, что наш огонь не за одну дюжину лиг видно.
– Умница! – расхохотался Барнабас. – Вот и выпьем за переименование, – он поднял кружку. – Как инспектор в следующий раз наведается, предложим!
– Как же, – Самсон был преисполнен скептицизма, – переименуют тебе, держи карман шире. Знаешь, во что обойдется на всех портуланах, периплах да картах название поменять?
Такое соображение Барнабасу в голову не приходило. До чего же любит Самсон деньги считать – хоть свои, хоть чужие. Драконьей в нем крови толика, что ли?
– Ну тогда сами здесь доску сделаем, – отмахнулся он. – Что нам до карт? Много ты ими пользуешься?
Аргумент был убийственным.
Вторую партию выиграл Самсон – деньги уверенно шли к деньгам. Барнабас прикинул: в сумме он оказался должен не меньше семи монет – без малого дневной заработок. Вот невезуха! Ну ничего, авось в третьей партии отыграться повезет. Хотя бы частично.
Пит нацедил из бочки второй кувшин эля – снова перекурили, потягивая сладковатую горечь цвета осенней ночи, накрытой шапкой тающего желтоватого весеннего снега. Повспоминали девочек, временами наезжавших на маяк, чтобы день-другой скрашивать жизнь четырем одиноким хоббитам. Порассуждали о видах на урожай курительного зелья. Обсудили достоинства и недостатки участка, который уже почти присмотрел себе в Малом Прилесье господин Пикль. Словом, хорошо потолковали и снова раскинули «орочьи кости».
В начале третьего кона неуемный Самсон вылез с очередным вопросом:
– Ну вот плывут они, эльфы, из своей Серой Гавани, плывут… Еще при дедах наших начали, если не при прадедах. А зачем плывут? Куда плывут?
– На запад, – отмахнулся Перри, тщательно изучая дугою выстроенный перед собой забор из костяшек.
– Это всякий знает. А куда на запад?
– К себе. Откуда пришли.
– У всего на свете много имен, – вмешался Барнабас. На сей раз ему пока везло, так что он непрочь был поболтать. – Вот ты говоришь, Серая Гавань. Но ведь ее называют также Скари. А еще – Митлондом. И других названий полдюжины есть.
– А какая связь?
– Простая. Даже эльфы – и те зовут свой западный остров по-разному. Одни – Валинором, другие – Ардой Истинной или Ардой Незапятнанной, которой не касалось Зло. Длинно, зато красиво. Думаю, и третьи есть. И четвертые. Точно не знаю. А вот гномы называют ту землю Брандановым островом. Южные народы говорят про остров Дильмун. Северяне из Аххиявы – про Острова Блаженных, Элизий с Огигией… Альбионцы уверяют, будто там, на западе, лежит остров Авалон. Вилусцы чернобородые заморскую эту землю Антилией именуют. А иные – Бразилом… Сколько народов, словом, столько имен. Даже больше. Вот и рассуди теперь, как на твой вопрос ответить.
– И откуда только ты всей этой премудрости набрался? – с тайным злоехидством в голосе полюбопытствовал Перри, не отрывая, впрочем, взгляда от костей.
– А я вообще умный! – гордо парировал Барнабас.
Самсон задумчиво почесал за ухом и сделал добрый глоток, дабы получше упорядочить мысли.
– А еще кто-то, – вмешался Пит, – называет ту землю Атлантидой.
– Атлантида, – задумчиво повторил Самсон. – Это название я уже когда-то слышал. Тоже красивое. Ладно, пусть будет Атлантида. Хоть знаю теперь, куда они плывут… И пусть их вовек не терзают ферры. Пусть им всем там хорошо живется.
– А нам тут – без них, – хохотнул Пит.
– Эй, постой-ка, – заинтересовался Барнабас. – Что еще за ферры такие?
Самсон развел руками:
– Не знаю… Само как-то вырвалось, если вы понимаете, о чем это я. Слышал где-то, наверное. «Ферры – демоны Атлантиды». Может, в песне какой?..
Перри извлек из своего забора костяшку и грохнул по столу:
– Кончайте болтать и считайте очки! Забой!
Мария Галина. Ганка и ее эльф
Татьяне Кохановской, высказавшей идею, которая и легла в основу этого рассказа…
Звались горы по-страшному – Горганы…
Зеленокутские, вроде бы, когда-то и пришли из-за этих самых Горган, потому и слыли до сих пор чужаками. Совершенно непонятно, однако, как они ухитрились это сделать.
Потому что в горах жили тролли.
Огромные и свирепые, сплошь покрытые рыжей шерстью; кряжистые, точно камни, они и сами были способны закидать путников камнями или устроить обвал.
И еще тролли были людоедами. Расщепленные человечьи кости валялись в горных расщелинах вперемешку с костями горных баранов…
Лес между Зеленым Кутом и горами был как бы защитной прослойкой – здесь водились свои собственные странные создания, с которыми, однако, если правильно себя вести, поладить было можно: у зеленокутцев вошло в обычай оставлять на ночь плошки с молоком у своих крылечек, просто так, на всякий случай, чтобы пиво не скисало, – и верно, зеленокутское пиво считалось самым лучшим в округе, потому что помимо хмеля и ячменя добавляли туда лесные травы, отдающие тонкой горечью и медом.
Отец Маркиан, уродившийся неизвестно в кого рыжим, человек здоровенный, красномордый, веснушчатый и вспыльчивый, время от времени топтал сапогами плошки с молоком, которые зеленокутцы заботливо выставляли с вечера. Увидев утром разбитую плошку и широкую спину яростно удаляющегося отца Маркиана, очередной зеленокутец лишь сокрушенно качал головой и потихоньку выставлял новую плошку. Надо сказать, сапоги отца Маркиана, те самые, которыми он втаптывал в землю толстенькие черепки, были приобретены на ярмарке от щедрот леса, и тачал их – опять же от щедрот леса – самый лучший тамошний сапожник. Но об этом жители Зеленого Кута, зная нрав отца Маркиана, предпочитали ему не напоминать. Все помнили, как он чуть было не проклял Федору-травницу, когда дюжину зим назад, а то и больше (кто эти зимы считает?), она подобрала эльфенка.
Федора-травница жила на отшибе, как и полагается знающей женщине, ее хатка примыкала вплотную к оврагу, за которым и начинался зеленокутский лес, так что Федора бродила ночами по опушке, собирая целебные травы (есть травы, которые нужно собирать в новолуние, а есть – которые в полнолуние, говорила она). С нечистью она ладила и ночного леса не боялась: запозднившиеся зеленокутские мужья, расходящиеся по домам из крохотной корчмы «Под дубом», порой видели скользящую в высокой, по пояс траве темную согбенную тень на дальнем склоне оврага. Во время одной из таких вылазок она и натолкнулась на эльфенка, дрожащего от холода в травяном гнезде (трава была свита в жгуты, так что светловолосая голова эльфенка торчала из него, точно кукушкино яйцо). Эльфенок плакал – тихонько, точно котенок мяукал, и сердце одинокой Федоры не выдержало. Она закутала эльфенка в платок и притащила в свою хижину: обогревшись, он стал лепетать что-то по-своему, молоко от федориной козы пил с удовольствием, животиком почти не маялся, и все было бы хорошо, если бы весть о найденыше не дошла до отца Маркиана. Некрещеной нечисти в его приходе нет и не будет, заявил он, но Федора ни с того ни с сего крестить эльфенка наотрез отказалась – видать, испугалась, что он обернется дымом и вылетит в трубу, сплетничали бабы.
Обе стороны уперлись, и отец Маркиан пригрозил старухе проклятием и отлучением, ежели в недельный срок она не одумается, но Федора не одумалась, а просто собралась в одночасье и пропала вместе с эльфенком и козой. Зеленокутцы остались без своей травницы, что было очень нехорошо, и отец Маркиан целых два или три дня чувствовал себя даже несколько виноватым и не топтал блюдечки с молоком, отчего оставленное молоко – если его не успевала ночью вылакать нечисть, скисало, оставляя на стенках плошек жирные желтые кольца…
Эта история так бы и осталась без продолжения (разве что, оставшись без целебных отваров Федоры-травницы, зимой померла от грудной жабы старая Марьяна), если бы не Ганка, которая и родилась-то после того, как Федора и ее эльфенок затерялись под кронами зеленокутского леса.
* * *
Отец Ганки был углежогом, и дед Ганки по отцовской линии был углежогом, и дед по материнской линии был углежогом, и два старших брата ее были углежогами, так что женщинам этого семейства на роду было написано готовить еду впрок, да побольше, – с лета и до самой зимы углежоги, считай, живут у своих клетей на лесных вырубках…При таком образе жизни с лесом надо быть в ладу – и в семействе Ганки ни разу не было случая, чтобы углежог обидел кого-то из лесных жителей; или что углежога кто-то обидел; про щекотунчиков или потерчат, заманивающих путников в топь блуждающими огнями, углежоги знали только понаслышке. Ходила, впрочем, история о том, что бабка Ганкина, в былые дни отличавшаяся нравом горячим, застав однажды вилию в землянке своего благоверного, гнала ту вилию поленом до самого болота, а та даже оборотиться ни во что приличное не успела – так и драпала, придерживая хвост руками, чтобы о него ненароком не споткнуться. Некоторые бабкины сверстницы, впрочем, намекали, что это была вовсе и не вилия, а своя же сельчанка, дотоле всегда слывшая скромницей и верной супругой.
На Ганке – единственной сестре своих плечистых, мрачноватых, с короткими обгоревшими ресницами братьев, – лежала обязанность таскать в землянку провизию: не ежедневные обеды, как вы могли бы подумать, но раз-другой в неделю сыр, яйца, а иногда и битую птицу. Все остальное – муку, брюкву, пласты розового соленого сала и просо для каш – запасливые и всегда голодные углежоги привозили в курень на телеге; почти вся провизия доставлялась в запечатанных глиняных горшках, чтобы не растащили лесные мыши. Девке, какой бы она ни была крепкой и здоровой, такой горшок и не поднять…
Ноша все равно получалась немаленькая, и у Ганки были крепкие руки и ноги, а еще – фамильная легкая удача, что в лесу немаловажно. За все время ее неблизких прогулок ни разу она не потерпела никакого вреда от лесной нечисти, да и от зверья тоже, и даже тайком усматривала в этом некую для себя обиду, словно никто в лесу, буквально кишащем своей тайной жизнью, ею, Ганкой, и не интересовался…
Пока идешь через лес, надо чем-то занять голову, и Ганка занимала ее тем, что рассказывала сама себе всякие истории – не вслух, а молча, про себя. Истории эти по мере того, как Ганка взрослела, становились все длинней и запутанней.
Вот, скажем, десяти лет от роду она придумала историю про девочку, которая несет пирожки больной бабушке (непонятно, с чего больная бабушка ни с того ни с сего поселилась в одиночестве в лесу, но такие мелочи Ганку не интересовали), и волка-оборотня, который повстречался ей, все выведал, а потом побежал вперед, бабушку съел, а сам обернулся бабушкой, улегся в бабушкину постель, натянул чепчик и стал говорить тоненьким голосом всякие глупости. А потом, когда волк уже тянул к девочке страшные когтистые лапы, ворвались в избушку вместе с холодным зимним светом и снежным колючим вихрем братья девочки, углежоги, как раз заготовлявшие дрова для куреня, и зарубили волка топорами. Бабушку было немножко жалко, впрочем, понятно было, что все это понарошку – настоящая бабка Ганки, та, которая излупила поленом вилию, волку бы тоже спуску не дала, даже в свои нынешние годы…
А двенадцати лет она воображала себе, что вот идет она по лесу и видит, как на тропинку падает чья-то тень, и путь ей преграждает прекрасный юнак… Этот юнак – графский сын, он упал с горячего коня и расшибся, преследуя страшного свирепого вепря, и клык вепря пропорол ему бок, и коварный егерь, который давно уже искал подходящего случая, чтобы отомстить (а за что, кстати, отомстить? – наверное, этот юнак влюбился в егерскую женку, и та ответила ему взаимностью), бросил его в лесу, а всей свите сказал, что тот ускакал в горы и упал в пропасть, и вот этот юноша… И он падает, бледный и окровавленный прямо к ее, Ганкиным ногам, и она его относит на пригорок и накладывает ему на рану мох и паутину, и он просит только, чтобы она никому не открывала его убежища… а почему, кстати? Наверное, дело все-таки не в егере, а в том, что его замыслил погубить собственный отец, или лучше – отчим. Вот он-то и заплатил егерю, и тот оставил графского сына один на один с разъяренным секачом, и вот юнак последним отчаянным усилием вонзает кинжал вепрю в горло и, значит, еще одним последним усилием выползает из-под страшной вепревой туши, и бредет по тропе, и встречает Ганку, и Ганка, как уже было сказано… тем более, что у нее с собой баклага с пивом и круг сыра, и вот она дает ему подкрепиться, и…
И тут он, конечно, понимает, что страсть его к егерской женке была ошибкой юности (значит, была все-таки егерская женка, хм…), а любит он лишь одну Ганку, дочь углежога, и вот он берет ее руки в свои, и ведет в замок, а коварный отчим, конечно, против, и мама против, и они строят козни и придумывают какую-то ужасную пакость, которая их разлучает (на этом месте Ганка начала хлюпать носом), и когда вытерла грязной ладошкой глаза, поняла, что тропинку пересекает чья-то тень.
На какой-то миг Ганка решила, что это волк – волка она придумала раньше, чем прекрасного юнака. Потом – что все-таки это прекрасный юнак, поскольку на волка незнакомец был мало похож. И он, несомненно, был юным. И, безусловно, – чужаком, и чудным притом. Хрупким и тонким, таким тонким и хрупким, что, казалось, растворялся в полосах теней и света. И еще – рыжеволосым, ярко, огненно-рыжеволосым, и бледным, чуть ли не в прозелень бледным – как бы сразу и огонь и вода. И глаза у него были зеленые, как вода, стоячая вода в углублении поросшего мхом камня, и на дне этой воды – солнечные золотые вспышки.
Такого никак невозможно бояться, подумала Ганка, хотя и одет чужак был чудно: в какую-то юбку, плетеную из сухой травы, и солнечные пятна прыгали по голой бледной его груди и по босым грязным ногам. Зато на рыжих волосах красовался пышный венок из папоротника, диких злаков и поникших лесных фиалок, колокольчиков и маргариток. Существо, отважившееся нахлобучить на себя такой венок, кем бы оно ни было, не может быть страшным, решила Ганка.
Она набрала в грудь воздух, и осторожно, словно боясь спугнуть мотылька, выдохнула его вместе с вопросом:
– Ты эльф?
Чужак поправил венок, так, что тот съехал с правого уха на макушку, и сказал:
– Наверное. Нравится?
– Венок? – поняла Ганка, хотя при известном воображении это «нравится» можно было отнести к чему угодно.
– Да! – обрадовался эльф, – правда, красивый? Я его долго плел… солнце сначала стояло вон тут, а потом, когда я закончил, ушло вон туда. Вон за ту сосну.
По всему получалось, что венок был вчерашний.
– Могу тебе подарить, – великодушно предложил эльф.
– Лучше новый сплети, – практично сказала Ганка, – этот скоро завянет.
– Все красивое вообще быстро вянет, – грустно ответил эльф, – и если я сплету тебе новый, он тоже завянет на следующее утро.
– Ну так хотя бы на следующее.
Венок, украшавший голову эльфа, подумала она, до следующего утра никак не дотянет.
Эльф по-прежнему топтался на тропинке, мешая пройти, и Ганка не знала, что делать. Прогнать? Он может обидеться, а обида эльфа – дело страшное и опасное, эльфы злопамятны и непредсказуемы и еще управляют странными силами. И еще могут отобрать удачу. Потому Ганка, помолчав, осторожно сказала:
– Какую дань ты потребуешь, лесной дух? Только я могу дать тебе разве что что-то из вот этой корзинки… И то не все – иначе мои братья и отец у клети останутся голодными.
Тут она приврала – она несла всего лишь десяток яиц, домашний пышный хлеб новой выпечки, молодой лук, круг колбасы и круг сыра, так, побаловаться, а кашу для кулеша братья давно уже сварили, и даже в расчете на нее, Ганку.
Эльф потянул коротким носом:
– Там что у тебя? Сыр?
– Ну, – согласилась Ганка.
– Ух ты! – сказал эльф, – давно уж я не ел сыра.
– Угощайся на здоровье – Ганка развернула сырую тряпицу, в которую сыр был завернут. Сыр пах так вкусно, ну, скажем, не вкусно, забористо пах, что она и сама вдруг почувствовала, что ужас до чего хочет есть…
На обочине тропки лежала удобная коряжка: высеребренная солнцем и дождями, сухая и крепенькая, такая крепенькая, что даже муравьи отказались в ней селиться, и Ганка, усевшись бок о бок с эльфом, отломила ему и себе щедрый кусок сыра и не менее щедрый ломоть свежего, пахнущего кислинкой хлеба.
