Когда Рон вбежал в кабинет, Ин не дала ему сказать ни слова.
— Установи Фару электроды в дыхательном центре, это очень срочно, потому я тебя и вызвала, — сказала она.
— Электроды? Фару? А что с ним случилось?
— Возбуждение нефункционирующего центра импульсами из здорового. Как в ваших опытах.
— Но Фар…
— Не спорь с ним, Рон. Мы уже спорили. Установи ему электроды.
Фар кивнул головой.
— Установи, — подтвердил он.
— Как хочешь, но ты ведь знаешь…
— Знаю. Я уже все обдумал.
Рон снова взглянул на Ин.
— Хорошо, — согласился он. — Выходи в операционную, Фар. Больно не будет, — добавил он, словно говоря с больным.
Кабина была маленькая. "Никогда не думал, глядя извне, что она действительно такая тесная", — подумал Фар. Операционный стол, прямоугольный, белый, как тот, на котором лежит юноша, большая, яркая лампа и ровно столько места, чтобы можно было улечься на стол.
Он улегся, автомат слегка прижал ему голову.
"Это анестезирующий электрод", — успел он еще подумать, а потом наступило короткое беспамятство.
Короткое только для него, так как фактически прошли минуты, пока операция была выполнена.
Он вышел из кабины и подошел к пультам управления.
— Может быть, я сделаю это? — предложил Рон.
— Нет! — Фар сел перед экраном и смотрел прямо перед собой.
— Фар, что с тобой? — Ин положила ему руку на плечо. — Ничего. Иди к гомотрону и перейди на контроль. Сейчас начнем.
Она отошла к автомеду.
"А потом она улетит на Марс, — подумал Фар. — Я буду получать открытки на Новый год, открытки с красной марсианской пустыней, когда.у нас будет холодно и будет падать снег. А потом уже ничего не буду получать, потому что открытки посылаются не вечно…"
— Есть контроль, — произнесла Ин.
Фар выключил искусственное легкое и теперь думал только о серых тканях на экране, раздвигаемых концами электродов…
— Шевельнулись… мышцы шевельнулись, — сказала Ин.
"Значит, попал. Его центр реагирует, и мышцы двигаются, — подумал Фар. — Теперь маленькая поправка".
Он передвинул электрод на долю миллиметра.
— Лучше… теперь лучше. — Ин встала и подошла к нему. — Как ты себя чувствуешь?
— Вернись к пультам, — коротко сказал он.
Да, мышцы двигались, явственно увеличивая объем грудной клетки юноши.
— Посмотри на экране распределение напряжений…
— Были какие-то проблески, но погоди… — Она наклонилась к экрану. — Какой-то перепад уже есть!
Фар разомкнул контур, и импульсы из его мозга больше не шли по проводам.
— Дышит, — произнес он.
— Дышит, вправду дышит! — повторила Ин, вглядывалась в экран, словно впервые видела такой процесс. — Он будет жить, Фар!
— Поздравляю. Удалось! — сказал Рон. — Теперь нужно передать его новые параметры гомотрону, а ты, Фар, возвращайся в операционную.
И снова Фар лежал в маленькой кабине на белом столе, под огромной лампой.
Выйдя оттуда, он снова взглянул на Ин и Рона, склонившихся над пультами.
По каменным ступеням он спустился на гелиодром. Дождь перестал, и на площадке блестели лужи. "Это была трудная для нашей группы операция, — подумал он. — Жаль, что последняя".
Он повернулся к зданию и увидел Ин.
Перепрыгивая через лужи, она бежала к нему по серой площадке гелиодрома.
А.ДНЕПРОВ (СССР)
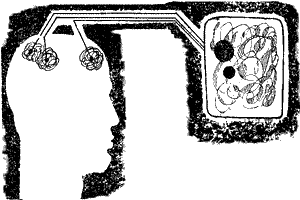
— Я немедленно возвращаюсь в Москву. Магнитоплан отправляется через сорок минут. Через час мне нужно встретиться с Корио.
Я удивился. Наш отпуск только начался, а что касается Корио, то он сам должен был прибыть на берег моря со дня на день.
— Что такое стряслось? — спросил я сестру.
— А вот послушай. "Олла, мне нужно с тобой повидаться. В моем распоряжении только сутки. Сегодня в двадцать два часа решается моя судьба. Корио".
— Это звучит, как в старых приключенческих романах, — сказал я.
Я знаю Корио много лет как очень умного и уравновешенного человека. Его работы по микроструктуре энергетических полей сделали его имя известным среди ученых всей планеты. Год назад Корио получил Почетную грамоту Народов Земли второй степени и звание Ученого первого класса.
В скупых строках фототелеграммы я уловил скрытую тревогу. Олла чувствовала тревогу любимого человека значительно острее, чем я. Она торопливо начала складывать свои вещи.
— Корио не пошлет такую телеграмму без всяких оснований. Если с ним все благополучно, я сегодня же вернусь, — сказала Олла. — Если же нет…
— Ну что ты! — воскликнул я, беря сестру за руки. — Что может с ним случиться? Болезнь? Опасность? Ну что еще там? Я себе просто не представляю, что в наше время может случиться с человеком. Был бы он космонавтом или летчиком-испытателем… Он ведь физик-теоретик.
— Корио не пошлет такую телеграмму без всяких оснований, — повторила Олла упорно. — До свидания, Авро!
Она подошла ко мне и поцеловала меня в лоб.
— До свидания. От меня пожми руку Корио. И еще, позвони мне вечером. Было бы хорошо, если бы у видеотелефона с тобой был и Корио.
Олла улыбнулась и вышла из комнаты. Я помахал ей рукой с террасы. Через несколько минут от Южной станции, прямо через горы умчался монорельсовый электровоз. В нем Олла отправилась на аэродром.
После обеда я спустился на набережную посмотреть на море. Набережная была пустынной, только несколько любителей морского прибоя сидели с полузакрытыми глазами и слушали, как о бетонные стены разбиваются волны. Над морем висела сероватая дымка, сквозь которую солнце казалось оранжевым. Было очень жарко и влажно. У гранитного спуска к воде я посмотрел на гигантские термометр и гигрометр. Двадцать девять по Цельсию и восемьдесят процентов влажности: как в теплой ванне.
Я долго стоял у двух колонн из стекла, которые одновременно являлись измерительными приборами и украшением лестницы, ведущей к морю. Архитектору, создавшему этот ансамбль, удалось слить воедино целесообразность и красоту.
— Если так будет продолжаться, я отсюда уеду, — услышал я голос сзади.
— А, старый ворчун Онкс! Что же тебе здесь не нравится?
Это был мой друг, Онкс Фелитов. Ему никогда ничего не нравится. Его специальность — ворчать и во всем выискивать недостатки. Недаром он член критического Совета Центрального промышленного управления.
— Мне не нравится вот это, — он показал пальцем на измерительные приборы.
— А по-моему, недурно. Архитектор, безусловно, малый с фантазией.
— Я о другом. Мне не нравятся показания приборов. Не знаю, как ты, а я жару переношу неважно. Особенно когда воздух больше, чем наполовину, состоит из водяных паров.
Я рассмеялся.
— Ну, тогда тебе нужно ехать отдыхать на север, например в Гренландию.
Онкс поморщился. Не говоря ни слова, он протянул мне бюллетень Института погоды.
— Вот читай про Гренландию…
Я прочитал:
"Пятое января. Восточное побережье Гренландии +10…" — Чудесно! Скоро там зацветут магнолии!
— Не знаю, зацветут ли. Только на памяти человечества такого еще не бывало.
Продолжая что-то бормотать, Онкс побрел вдоль набережной, то и дело вытирая платком потную шею.
К шести часам я вернулся в свою комнату и уселся у видеотелефона. Олла должна была вот-вот появиться на матовом экране прибора.
Так я просидел до ужина. Вызова из Москвы не последовало. Я пошел в столовую.
Олла позвонила мне только в двадцать три часа, когда я начал дремать, почувствовав облегчение от жары после трех часов работы регулятора микроклимата.
— Что случилось? — воскликнул я, всматриваясь в лицо сестры. Оно было каким-то странным и чужим. — Что случилось, Олла? Где Корио?
Олла жалко улыбнулась. Я видел, как дрожали ее губы.
— Ты плачешь, милая? Ты плачешь?! — закричал я.
Я никогда не видел свою сестру плачущей. Никогда. Только в те времена, когда она была совсем-совсем маленькой. Я вообще никогда не видел плачущих людей!
Олла отрицательно покачала головой, пытаясь что-то мне сказать.
— Нет, ты плачешь! Немедленно говори, что случилось!
Она посмотрела мне прямо в глаза, и я видел, что они блестят от слез. Мое сердце разрывалось на части. Люди плачут только тогда, когда на них обрушивается большое несчастье или когда они испытывают страшную боль.
— Только что я почти попрощалась с Корио, — наконец сказала Олла шепотом.
— Он?..
— Нет, он жив и чувствует себя прекрасно. Но мы с ним на всякий случай попрощались…
— Он тебя не любит? Он тебя больше не любит?
Олла опустила голову и странно улыбнулась.
— Не знаю… Это все так непонятно… Я ничего не понимаю в том, что произошло…
У меня перехватило дыхание. Если бы Олла была рядом со мной, я бы добился от нее ответа. Но она была далеко — на расстоянии полутора тысяч километров, и я мог лишь беспомощно наблюдать, как она страдала.
— Милая моя, расскажи все по порядку. Я должен тебе помочь. Тебе все должны помочь.
— Мне никто не сможет помочь. Никто.
Олла отбросила прядь волос со лба и, сжав зубы, процедила:
— Скоро не будет Корио…
Я ухватился за металлическую раму экрана.
— Ведь ты же сказала, что он жив и чувствует себя хорошо…
— Да… Но…
Я видел, как сестра не выдержала, слезы брызнули из ее глаз, и, закрыв лицо ладонями, она исчезла. Я продолжал звать ее, кричал в трубку, грозился пожаловаться на операторов. Наконец на экране появилось строгое лицо девушки, которая сказала:
— Ваш корреспондент закончил разговор.
По местному телефону сообщили мне, что первый магнитоплан отправляется в Москву завтра в пять утра.
— Итак, тебе надоел юг? — спросил я безразлично, думая совсем о другом.
— Как бы не так, — проворчал старик. — Получил телефонограмму срочно выехать в Совет.
— Появилась необходимость кого-нибудь за что-нибудь срочно раскритиковать? — спросил я.
— Какое-то важное дело. Ты ведь знаешь, по пустякам из отпуска не вызывают.
Когда мы заняли места рядом, Онкс наклонился ко мне и прошептал:
— Я, кажется, догадываюсь, в чем дело.
— Ну?
— В этой проклятой погоде. Перед отъездом из Москвы у нас в Совете говорили о том. что началось интенсивное таяние льдов в Антарктиде и в Гренландии.
Я вопросительно посмотрел на Фелитова.
— Это грозит большими бедствиями. Представляешь, что будет, если уровень воды в Мировом океане поднимется метра на четыре!
— Для этого необходимо, чтобы растаяли всё льды Гренландии и Антарктики.
— А если они действительно растают?
— Не вижу оснований, — сказал я и углубился в свои мысли.
Вначале заревели обычные реактивные моторы, а когда самолет поднялся на высоту около двадцати тысяч метров, были включены магнитные двигатели, и в салоне воцарилась тишина, пронизываемая едва уловимым свистом выбрасываемого из магнитной ловушки мощного потока ионизированного газа.
Магнитоплан рассекал разреженный воздух со скоростью пяти тысяч километров в час, а я то и дело поглядывал на ручной хронометр: мне казалось, что машина приближается к Москве слишком медленно. Только один раз я посмотрел вниз и заметил, что на необъятных просторах Земля была не белой, как обычно зимой, а грязно-серой. Таял снег, таял в январе. А над магнитопланом простиралась пурпурная бездна, пронизываемая оранжевыми полосами из-за горизонта, где поднималось солнце.
Я удивился, когда обнаружил, что моя квартира заперта. Постучал — дверь открыли. Олла бросилась мне на грудь и зарыдала. Как бы извиняясь, она прошептала:
— Я заперлась, чтобы кто-нибудь случайно не вошел и не увидел, что я плачу…
— А теперь ты мне все объяснишь по порядку, — сказал я, усаживая почти насильно сестру в кресло против себя.
Олла глотнула из стакана какую-то жидкость, наверное лекарство.
— Случилось большое несчастье, Авро… Несчастье, которое грозит всем нам, всем людям…
Она встала и подошла к стеллажу с книгами.
— Вот смотри, — протянула она мне листок бумаги, на которой были нарисованы четыре линии — красная, синяя, зеленая и желтая.
— Это мне оставил Корио. Он сказал, что ты все поймешь. Красная линия показывает рост среднеземной температуры по дням. Синяя — рост влажности в атмосфере. Зеленая — интенсивность ультрафиолетового излучения Солнца. Желтая — интенсивность инфракрасного излучения. Смотри, как круто кривые ползут вверх. С каждым днем активность Солнца увеличивается…
Я посмотрел на кривые. На горизонтальной оси было отложено девяносто интервалов, соответствующих девяноста дням. На вертикальной оси были показаны результаты измерений температуры, влажности и интенсивности радиации. За последние три месяца кривые круто поднялись вверх, почти в три раза превысив значение измеряемых величин вначале. Я с удивлением посмотрел на Оллу.
— Все это пока держится в большом секрете. Но ты сам должен понять, что случится, если так будет продолжаться.
Я кивнул головой и затем спросил:
— А при чем здесь Корио?
— Не торопись. Научные сотрудники из Центральной службы Солнца установили, что так будет продолжаться в течение года. Начнут испаряться океаны, таять льды, Землю окутает плотная пелена водяных паров, сквозь которые будут проникать лишь тепловые лучи. Температурные условия, невыносимые для всего земного…
— А что известно о причинах повышения активности Солнца?
— В своем движении во вселенной Солнце и вся наша планетная система попали в густое облако водорода. Интенсивность реакции синтеза гелия на Солнце возрастает с каждым днем. По данным спектрального анализа, мы пересечем область максимальной плотности водорода через четыре месяца… Если ничего не будет предпринято, температура на Земле поднимется на десять-двадцать градусов.
Мне стало жарко, я подошел к окну и отдернул плотный занавес. Впервые за свою жизнь я посмотрел на Солнце с ненавистью. Утреннее, оранжевое, оно казалось зловещим. Я задернул занавес и возвратился к сестре.
— Не плачь. Плакать нехорошо. Я уверен, что наши ученые что-нибудь придумают.
— Я тоже уверена. Корио придумает… Но я его так люблю…
Я ничего не понимал.
— Но, Олла, милая! Какое имеет отношение, ваша любовь к стихийному бедствию?
— Не говори больше об этом, Авро!.. — почти с отчаянием в голосе воскликнула Олла. — Умоляю тебя…
— Почему?
— Потому что… Потому что Корио…
В этот момент дверь комнаты отворилась, вошел Корио. Не обращая на меня внимания, он бросился к Олле и сжал ее в своих объятиях. Я отошел к окну, снова отодвинул занавес и стал смотреть на Солнце. Как все перепуталось всего за несколько часов! Нехорошее чувство неприязни к другу шевельнулось в моем сердце. Что бы там ни было, но к страданиям Оллы он имел какое-то отношение. И вот сейчас он что-то торопливо шепчет ей на ухо, и она отвечает ему таким же торопливым шепотом. Это стало невыносимым. Я резко повернулся к ним и грубо бросил:
— Прекратите эту комедию и объясните, что здесь происходит.
Корио поднялся с дивана и протянул мне обе руки.
— Здравствуй, Авро!
— Здравствуй! Почему плачет Олла?
Я заметил, что лицо его было усталым, глаза ввалились.
— Я ничего толком не могу добиться от нее, — сказал я более мягко. — Она рассказала мне все про задвигающуюся катастрофу. Остальное я не понимаю.
— Я тоже не очень понимаю… Собственно, понимаю только в самых общих чертах… Дело в том, что… как бы тебе сказать… я согласился работать в теоретической группе, которая будет разрабатывать меры и средства для предотвращения бедствия.
— Ну и что же?
— Времени на работу очень мало, чересчур мало, не более десяти дней. Иначе будет поздно.
— Так.
— Ты сам понимаешь, проблема очень сложная. Ее решение требует огромного напряжения ума. Это раз. Второе: решение должно быть абсолютно правильным, потому что за ним сразу последуют практические мероприятия, связанные с деятельностью людей, промышленности и так далее. Просчетов быть не должно. Иначе — гибель…
— Да. Ну и что же?
— Значит, умы, которые в эти десять дней будут работать над проблемой, должны быть необыкновенными. Это должны быть гениальные ученые.
Я с удивлением посмотрел на своего друга. Конечно, он был выдающимся ученым, но гениальным…
— В том то и дело, что ты прав, — угадал мою мысль Корио. — Конечно, я довольно заурядный ученый. Но беда в том, что вообще, как показали недавно выполненные исследования, на Земле не существует ученого, который в такой короткий срок смог бы переработать огромное количество научной информации и найти решение.
— Для переработки научной информации можно привлечь машины.
— Верно. Но для машин нужно составить программу.
— И нет ученых, которые бы смогли это сделать?
— За такой короткий промежуток времени — нет…
— Так что же тогда?
— Нужно создать таких ученых.
Я остолбенел. Этого еще не хватало! За последние сто лет люди привыкли к фантастическим успехам науки. Они свыклись с полетами в космос, они больше не удивляются управляемой термоядерной реакции, они перестали восхищаться животными, выращиваемыми в искусственной среде, их больше не удивляют успехи в области экспериментальной генетики, которые позволяли получить совершенно новые виды живых существ. Но создавать гениальных ученых…
— Чушь какая-то, — пробормотал я, с подозрением глядя на Корио.
— Я знал, что ты мне не поверишь. Я хочу, чтобы ты и Олла пошли со мной на заседание ученого совета Института структурной нейрокибернетики. Там по этому вопросу сегодня будет дискуссия. Основной докладчик — доктор Фавранов…
Доктор Фавранов… Я был однажды на его публичной лекции и помнил, как он заявил тогда:
— Коммунистическое общество освободило человечество от всех материальных забот, от всякого морального гнета. На повестке дня стоит важная задача — раскрепостить гений человека. Человек имеет в себе все необходимое, чтобы стать гениальным.
— Организация нервной системы человека, доставшаяся нам по наследству, — говорил Фавранов, — слишком несовершенна и обременительна. Мы не можем ждать, пока она отомрет сама собой. Еще многие поколения людей будут чувствовать безотчетный и беспричинный страх, отчаяние, ненависть, горе, печаль. Задача науки — ускорить процесс духовного совершенствования человека.
На схемах, проектируемых на экран, докладчик показал, какие участки центральной нервной системы современного человека являются, как он выразился, "аппендиксами", тормозящими проявление гения человечества в области науки и искусства.
— И вы предлагаете удалить эти "аппендиксы"? — спросил Фавранова председательствовавший доктор Майнеров.
— Да, конечно.
— И после этого человек обретет способности?
— Тот, кто обладает нужным комплексом знаний, будет пользоваться им более эффективно. Кто таких знаний не имеет, приобретет их достаточно легко. Вы, конечно, понимаете, — добавил Фавранов, — что речь идет не о хирургическом вмешательстве в структуру коры головного мозга. Ненужные традиционные нервные связи можно легко и безболезненно разорвать при помощи обыкновенной ультразвуковой иглы.
Сидевшая рядом со мной Олла медленно поднялась.
— Разрешите вопрос, доктор.
— Пожалуйста.
— Скажите, а не повлечет ли за собой такая операция полное изменение личности человека? Хочу сказать, не станет ли человек совсем другим?
Фавранов ласково улыбнулся.
— Конечно, человек станет другим. Он станет лучше, богаче, умнее. Он станет внутренне свободным,
Олла тяжело опустилась в кресло.
— Вы понимаете, доктор Фавранов, что значит изменить личность человека? Вы чувствуете всю этическую глубину проблемы? — спросил Майнеров.
— Да, конечно. Человек, который первым согласится на такую операцию, совершит подвиг. Для того чтобы решиться стать совершенно другим, необходимо огромное мужество. Мы абсолютно уверены в безопасности операции. Правда, мы не знаем, как глубоко и далеко пойдет изменение личности, как измененное "я" будет относиться к самому себе, к окружающим его людям. Но анализ нервных путей и проведенные математические расчеты показывают, что его интеллектуальная работа будет неизмеримо продуктивней.
— Друзья, — обратился к аудитории Майнеров, — вы, конечно, понимаете, какими чрезвычайными обстоятельствами вызвана сегодняшняя дискуссия. Я прошу вас высказаться по затронутым вопросам.
— Давай выйдем, — прошептала Олла. — Я больше не могу.
Мы вышли из здания института и уселись на скамейке прямо перед воротами в парк. Я знал, что Олла не уйдет отсюда, пока не увидит Корио. Снег таял на глазах. В бетонированной канавке журчал ручеек. Мимо изгороди прошли какие-то женщины, и мы слышали, как одна сказала: "По данным института прогнозов, такая погода была триста лет назад…"
— Ты знаешь, чего я боюсь? — не выдержав, спросила Олла.
— Да. Ты боишься, что после операции он перестанет тебя любить.
— Или я его… Вдруг он станет совершенно другим человеком?..
Снег под ногами совершенно растаял, и мы увидели кусок сырой земли и на ней зеленую прошлогоднюю траву.
— Скоро здесь будет тепло, как летом, — пробормотал я.
— Это ужасно… Это страшно… Знаешь, мне стыдно, что я… что я не хочу, чтобы Корио…
— Я понимаю, Олла. Но может быть, ты себя так чувствуешь по тем же причинам, по каким люди не могут стать гениальными?
— А я не могу себе представить, как я могу чувствовать себя иначе.
— Ты же слышала, Фавранов говорит, что таких чувств просто не должно быть, что их можно и нужно ликвидировать.
— Я не знаю, хорошо ли это. Я бы ни за что не согласилась стать другой. О, это, наверное, страшнее, чем умереть совсем.
Если стать другим только чуть-чуть, то это ничего. Что я мог ей ответить? "Стать совершенно другим" — это просто не укладывалось в моей голове.
— Конечно, это подвиг, — после долгих раздумий, сказал я. — Подвиг, требующий не меньшего мужества и отваги, чем первый полет на аэроплане, чем первое путешествие в космос. Всегда кто-то первый, самый мужественный, должен для людей что-то совершить и своим примером увлечь других.
— И все же в этом есть что-то противоестественное, — прошептала Олла. — Ив воздухе и в космосе человек остается самим собой. Здесь он никуда не девается, никуда не улетает, а становится другим.
— Но, Олла, скажи, что плохого в том, что наука разработала рациональные способы перестройки человеческой психики?
Не знаю, для кого больше я затеял этот спор: для себя или для Оллы. Я сам тоже хотел постигнуть этическую глубину проблемы, о которой говорил доктор Майнеров.
— Такие свойства человека, как его ум, характер, его чувства, интуиция, составляют сущность его личности, его "я". Лиши его искусственно одного из характерных только для него элементов, и он станет другим. Я глубоко убеждена, что такое искусственное вмешательство в самую сущность человеческого неправомерно и неэтично.
— Даже если это необходимо для решения жизненно важной задачи, если это делается во имя всего человечества?
— Даже, — твердо сказала Олла.
— А как же тогда следует судить о людях, которые для спасения своих товарищей жертвуют своей жизнью? Помнишь, в истории войн рассказывается о легендарном герое Александре Матросове, который своим телом закрыл вражеский пулемет и спас жизнь нескольких сот человек?
— Он умер, оставаясь Александром Матросовым. А Корио будет жить, перестав быть Корио.
— Он станет для людей более ценным и полезным, чем Корио сейчас.
— Но он будет другим, понимаешь, совершенно другим, чужим…
— Сейчас нет чужих людей, — сказал я. — Все люди — товарищи и друзья.
— Он может стать чужим для меня!
Я обнял Оллу и хотел ей сказать что-то, хотел успокоить, но к нам подошел Корио.
Он был очень взволнован.
— Ну что? — спросил я.
— Решено. Я первый.
— Установи Фару электроды в дыхательном центре, это очень срочно, потому я тебя и вызвала, — сказала она.
— Электроды? Фару? А что с ним случилось?
— Возбуждение нефункционирующего центра импульсами из здорового. Как в ваших опытах.
— Но Фар…
— Не спорь с ним, Рон. Мы уже спорили. Установи ему электроды.
Фар кивнул головой.
— Установи, — подтвердил он.
— Как хочешь, но ты ведь знаешь…
— Знаю. Я уже все обдумал.
Рон снова взглянул на Ин.
— Хорошо, — согласился он. — Выходи в операционную, Фар. Больно не будет, — добавил он, словно говоря с больным.
Кабина была маленькая. "Никогда не думал, глядя извне, что она действительно такая тесная", — подумал Фар. Операционный стол, прямоугольный, белый, как тот, на котором лежит юноша, большая, яркая лампа и ровно столько места, чтобы можно было улечься на стол.
Он улегся, автомат слегка прижал ему голову.
"Это анестезирующий электрод", — успел он еще подумать, а потом наступило короткое беспамятство.
Короткое только для него, так как фактически прошли минуты, пока операция была выполнена.
Он вышел из кабины и подошел к пультам управления.
— Может быть, я сделаю это? — предложил Рон.
— Нет! — Фар сел перед экраном и смотрел прямо перед собой.
— Фар, что с тобой? — Ин положила ему руку на плечо. — Ничего. Иди к гомотрону и перейди на контроль. Сейчас начнем.
Она отошла к автомеду.
"А потом она улетит на Марс, — подумал Фар. — Я буду получать открытки на Новый год, открытки с красной марсианской пустыней, когда.у нас будет холодно и будет падать снег. А потом уже ничего не буду получать, потому что открытки посылаются не вечно…"
— Есть контроль, — произнесла Ин.
Фар выключил искусственное легкое и теперь думал только о серых тканях на экране, раздвигаемых концами электродов…
— Шевельнулись… мышцы шевельнулись, — сказала Ин.
"Значит, попал. Его центр реагирует, и мышцы двигаются, — подумал Фар. — Теперь маленькая поправка".
Он передвинул электрод на долю миллиметра.
— Лучше… теперь лучше. — Ин встала и подошла к нему. — Как ты себя чувствуешь?
— Вернись к пультам, — коротко сказал он.
Да, мышцы двигались, явственно увеличивая объем грудной клетки юноши.
— Посмотри на экране распределение напряжений…
— Были какие-то проблески, но погоди… — Она наклонилась к экрану. — Какой-то перепад уже есть!
Фар разомкнул контур, и импульсы из его мозга больше не шли по проводам.
— Дышит, — произнес он.
— Дышит, вправду дышит! — повторила Ин, вглядывалась в экран, словно впервые видела такой процесс. — Он будет жить, Фар!
— Поздравляю. Удалось! — сказал Рон. — Теперь нужно передать его новые параметры гомотрону, а ты, Фар, возвращайся в операционную.
И снова Фар лежал в маленькой кабине на белом столе, под огромной лампой.
Выйдя оттуда, он снова взглянул на Ин и Рона, склонившихся над пультами.
По каменным ступеням он спустился на гелиодром. Дождь перестал, и на площадке блестели лужи. "Это была трудная для нашей группы операция, — подумал он. — Жаль, что последняя".
Он повернулся к зданию и увидел Ин.
Перепрыгивая через лужи, она бежала к нему по серой площадке гелиодрома.
А.ДНЕПРОВ (СССР)
ПОДВИГ (Национальная премия)
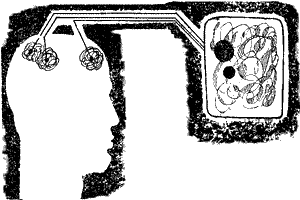
I
Все началось неожиданно. Олла пришла взволнованная, с фототелеграммой в руках.— Я немедленно возвращаюсь в Москву. Магнитоплан отправляется через сорок минут. Через час мне нужно встретиться с Корио.
Я удивился. Наш отпуск только начался, а что касается Корио, то он сам должен был прибыть на берег моря со дня на день.
— Что такое стряслось? — спросил я сестру.
— А вот послушай. "Олла, мне нужно с тобой повидаться. В моем распоряжении только сутки. Сегодня в двадцать два часа решается моя судьба. Корио".
— Это звучит, как в старых приключенческих романах, — сказал я.
Я знаю Корио много лет как очень умного и уравновешенного человека. Его работы по микроструктуре энергетических полей сделали его имя известным среди ученых всей планеты. Год назад Корио получил Почетную грамоту Народов Земли второй степени и звание Ученого первого класса.
В скупых строках фототелеграммы я уловил скрытую тревогу. Олла чувствовала тревогу любимого человека значительно острее, чем я. Она торопливо начала складывать свои вещи.
— Корио не пошлет такую телеграмму без всяких оснований. Если с ним все благополучно, я сегодня же вернусь, — сказала Олла. — Если же нет…
— Ну что ты! — воскликнул я, беря сестру за руки. — Что может с ним случиться? Болезнь? Опасность? Ну что еще там? Я себе просто не представляю, что в наше время может случиться с человеком. Был бы он космонавтом или летчиком-испытателем… Он ведь физик-теоретик.
— Корио не пошлет такую телеграмму без всяких оснований, — повторила Олла упорно. — До свидания, Авро!
Она подошла ко мне и поцеловала меня в лоб.
— До свидания. От меня пожми руку Корио. И еще, позвони мне вечером. Было бы хорошо, если бы у видеотелефона с тобой был и Корио.
Олла улыбнулась и вышла из комнаты. Я помахал ей рукой с террасы. Через несколько минут от Южной станции, прямо через горы умчался монорельсовый электровоз. В нем Олла отправилась на аэродром.
После обеда я спустился на набережную посмотреть на море. Набережная была пустынной, только несколько любителей морского прибоя сидели с полузакрытыми глазами и слушали, как о бетонные стены разбиваются волны. Над морем висела сероватая дымка, сквозь которую солнце казалось оранжевым. Было очень жарко и влажно. У гранитного спуска к воде я посмотрел на гигантские термометр и гигрометр. Двадцать девять по Цельсию и восемьдесят процентов влажности: как в теплой ванне.
Я долго стоял у двух колонн из стекла, которые одновременно являлись измерительными приборами и украшением лестницы, ведущей к морю. Архитектору, создавшему этот ансамбль, удалось слить воедино целесообразность и красоту.
— Если так будет продолжаться, я отсюда уеду, — услышал я голос сзади.
— А, старый ворчун Онкс! Что же тебе здесь не нравится?
Это был мой друг, Онкс Фелитов. Ему никогда ничего не нравится. Его специальность — ворчать и во всем выискивать недостатки. Недаром он член критического Совета Центрального промышленного управления.
— Мне не нравится вот это, — он показал пальцем на измерительные приборы.
— А по-моему, недурно. Архитектор, безусловно, малый с фантазией.
— Я о другом. Мне не нравятся показания приборов. Не знаю, как ты, а я жару переношу неважно. Особенно когда воздух больше, чем наполовину, состоит из водяных паров.
Я рассмеялся.
— Ну, тогда тебе нужно ехать отдыхать на север, например в Гренландию.
Онкс поморщился. Не говоря ни слова, он протянул мне бюллетень Института погоды.
— Вот читай про Гренландию…
Я прочитал:
"Пятое января. Восточное побережье Гренландии +10…" — Чудесно! Скоро там зацветут магнолии!
— Не знаю, зацветут ли. Только на памяти человечества такого еще не бывало.
Продолжая что-то бормотать, Онкс побрел вдоль набережной, то и дело вытирая платком потную шею.
К шести часам я вернулся в свою комнату и уселся у видеотелефона. Олла должна была вот-вот появиться на матовом экране прибора.
Так я просидел до ужина. Вызова из Москвы не последовало. Я пошел в столовую.
Олла позвонила мне только в двадцать три часа, когда я начал дремать, почувствовав облегчение от жары после трех часов работы регулятора микроклимата.
— Что случилось? — воскликнул я, всматриваясь в лицо сестры. Оно было каким-то странным и чужим. — Что случилось, Олла? Где Корио?
Олла жалко улыбнулась. Я видел, как дрожали ее губы.
— Ты плачешь, милая? Ты плачешь?! — закричал я.
Я никогда не видел свою сестру плачущей. Никогда. Только в те времена, когда она была совсем-совсем маленькой. Я вообще никогда не видел плачущих людей!
Олла отрицательно покачала головой, пытаясь что-то мне сказать.
— Нет, ты плачешь! Немедленно говори, что случилось!
Она посмотрела мне прямо в глаза, и я видел, что они блестят от слез. Мое сердце разрывалось на части. Люди плачут только тогда, когда на них обрушивается большое несчастье или когда они испытывают страшную боль.
— Только что я почти попрощалась с Корио, — наконец сказала Олла шепотом.
— Он?..
— Нет, он жив и чувствует себя прекрасно. Но мы с ним на всякий случай попрощались…
— Он тебя не любит? Он тебя больше не любит?
Олла опустила голову и странно улыбнулась.
— Не знаю… Это все так непонятно… Я ничего не понимаю в том, что произошло…
У меня перехватило дыхание. Если бы Олла была рядом со мной, я бы добился от нее ответа. Но она была далеко — на расстоянии полутора тысяч километров, и я мог лишь беспомощно наблюдать, как она страдала.
— Милая моя, расскажи все по порядку. Я должен тебе помочь. Тебе все должны помочь.
— Мне никто не сможет помочь. Никто.
Олла отбросила прядь волос со лба и, сжав зубы, процедила:
— Скоро не будет Корио…
Я ухватился за металлическую раму экрана.
— Ведь ты же сказала, что он жив и чувствует себя хорошо…
— Да… Но…
Я видел, как сестра не выдержала, слезы брызнули из ее глаз, и, закрыв лицо ладонями, она исчезла. Я продолжал звать ее, кричал в трубку, грозился пожаловаться на операторов. Наконец на экране появилось строгое лицо девушки, которая сказала:
— Ваш корреспондент закончил разговор.
По местному телефону сообщили мне, что первый магнитоплан отправляется в Москву завтра в пять утра.
II
Поднимаясь в сумерках по трапу в самолет с магнитным двигателем, я нечаянно толкнул локтем пассажира, шедшего впереди меня. Он обернулся, и я узнал Онкса Фелитова.— Итак, тебе надоел юг? — спросил я безразлично, думая совсем о другом.
— Как бы не так, — проворчал старик. — Получил телефонограмму срочно выехать в Совет.
— Появилась необходимость кого-нибудь за что-нибудь срочно раскритиковать? — спросил я.
— Какое-то важное дело. Ты ведь знаешь, по пустякам из отпуска не вызывают.
Когда мы заняли места рядом, Онкс наклонился ко мне и прошептал:
— Я, кажется, догадываюсь, в чем дело.
— Ну?
— В этой проклятой погоде. Перед отъездом из Москвы у нас в Совете говорили о том. что началось интенсивное таяние льдов в Антарктиде и в Гренландии.
Я вопросительно посмотрел на Фелитова.
— Это грозит большими бедствиями. Представляешь, что будет, если уровень воды в Мировом океане поднимется метра на четыре!
— Для этого необходимо, чтобы растаяли всё льды Гренландии и Антарктики.
— А если они действительно растают?
— Не вижу оснований, — сказал я и углубился в свои мысли.
Вначале заревели обычные реактивные моторы, а когда самолет поднялся на высоту около двадцати тысяч метров, были включены магнитные двигатели, и в салоне воцарилась тишина, пронизываемая едва уловимым свистом выбрасываемого из магнитной ловушки мощного потока ионизированного газа.
Магнитоплан рассекал разреженный воздух со скоростью пяти тысяч километров в час, а я то и дело поглядывал на ручной хронометр: мне казалось, что машина приближается к Москве слишком медленно. Только один раз я посмотрел вниз и заметил, что на необъятных просторах Земля была не белой, как обычно зимой, а грязно-серой. Таял снег, таял в январе. А над магнитопланом простиралась пурпурная бездна, пронизываемая оранжевыми полосами из-за горизонта, где поднималось солнце.
Я удивился, когда обнаружил, что моя квартира заперта. Постучал — дверь открыли. Олла бросилась мне на грудь и зарыдала. Как бы извиняясь, она прошептала:
— Я заперлась, чтобы кто-нибудь случайно не вошел и не увидел, что я плачу…
— А теперь ты мне все объяснишь по порядку, — сказал я, усаживая почти насильно сестру в кресло против себя.
Олла глотнула из стакана какую-то жидкость, наверное лекарство.
— Случилось большое несчастье, Авро… Несчастье, которое грозит всем нам, всем людям…
Она встала и подошла к стеллажу с книгами.
— Вот смотри, — протянула она мне листок бумаги, на которой были нарисованы четыре линии — красная, синяя, зеленая и желтая.
— Это мне оставил Корио. Он сказал, что ты все поймешь. Красная линия показывает рост среднеземной температуры по дням. Синяя — рост влажности в атмосфере. Зеленая — интенсивность ультрафиолетового излучения Солнца. Желтая — интенсивность инфракрасного излучения. Смотри, как круто кривые ползут вверх. С каждым днем активность Солнца увеличивается…
Я посмотрел на кривые. На горизонтальной оси было отложено девяносто интервалов, соответствующих девяноста дням. На вертикальной оси были показаны результаты измерений температуры, влажности и интенсивности радиации. За последние три месяца кривые круто поднялись вверх, почти в три раза превысив значение измеряемых величин вначале. Я с удивлением посмотрел на Оллу.
— Все это пока держится в большом секрете. Но ты сам должен понять, что случится, если так будет продолжаться.
Я кивнул головой и затем спросил:
— А при чем здесь Корио?
— Не торопись. Научные сотрудники из Центральной службы Солнца установили, что так будет продолжаться в течение года. Начнут испаряться океаны, таять льды, Землю окутает плотная пелена водяных паров, сквозь которые будут проникать лишь тепловые лучи. Температурные условия, невыносимые для всего земного…
— А что известно о причинах повышения активности Солнца?
— В своем движении во вселенной Солнце и вся наша планетная система попали в густое облако водорода. Интенсивность реакции синтеза гелия на Солнце возрастает с каждым днем. По данным спектрального анализа, мы пересечем область максимальной плотности водорода через четыре месяца… Если ничего не будет предпринято, температура на Земле поднимется на десять-двадцать градусов.
Мне стало жарко, я подошел к окну и отдернул плотный занавес. Впервые за свою жизнь я посмотрел на Солнце с ненавистью. Утреннее, оранжевое, оно казалось зловещим. Я задернул занавес и возвратился к сестре.
— Не плачь. Плакать нехорошо. Я уверен, что наши ученые что-нибудь придумают.
— Я тоже уверена. Корио придумает… Но я его так люблю…
Я ничего не понимал.
— Но, Олла, милая! Какое имеет отношение, ваша любовь к стихийному бедствию?
— Не говори больше об этом, Авро!.. — почти с отчаянием в голосе воскликнула Олла. — Умоляю тебя…
— Почему?
— Потому что… Потому что Корио…
В этот момент дверь комнаты отворилась, вошел Корио. Не обращая на меня внимания, он бросился к Олле и сжал ее в своих объятиях. Я отошел к окну, снова отодвинул занавес и стал смотреть на Солнце. Как все перепуталось всего за несколько часов! Нехорошее чувство неприязни к другу шевельнулось в моем сердце. Что бы там ни было, но к страданиям Оллы он имел какое-то отношение. И вот сейчас он что-то торопливо шепчет ей на ухо, и она отвечает ему таким же торопливым шепотом. Это стало невыносимым. Я резко повернулся к ним и грубо бросил:
— Прекратите эту комедию и объясните, что здесь происходит.
Корио поднялся с дивана и протянул мне обе руки.
— Здравствуй, Авро!
— Здравствуй! Почему плачет Олла?
Я заметил, что лицо его было усталым, глаза ввалились.
— Я ничего толком не могу добиться от нее, — сказал я более мягко. — Она рассказала мне все про задвигающуюся катастрофу. Остальное я не понимаю.
— Я тоже не очень понимаю… Собственно, понимаю только в самых общих чертах… Дело в том, что… как бы тебе сказать… я согласился работать в теоретической группе, которая будет разрабатывать меры и средства для предотвращения бедствия.
— Ну и что же?
— Времени на работу очень мало, чересчур мало, не более десяти дней. Иначе будет поздно.
— Так.
— Ты сам понимаешь, проблема очень сложная. Ее решение требует огромного напряжения ума. Это раз. Второе: решение должно быть абсолютно правильным, потому что за ним сразу последуют практические мероприятия, связанные с деятельностью людей, промышленности и так далее. Просчетов быть не должно. Иначе — гибель…
— Да. Ну и что же?
— Значит, умы, которые в эти десять дней будут работать над проблемой, должны быть необыкновенными. Это должны быть гениальные ученые.
Я с удивлением посмотрел на своего друга. Конечно, он был выдающимся ученым, но гениальным…
— В том то и дело, что ты прав, — угадал мою мысль Корио. — Конечно, я довольно заурядный ученый. Но беда в том, что вообще, как показали недавно выполненные исследования, на Земле не существует ученого, который в такой короткий срок смог бы переработать огромное количество научной информации и найти решение.
— Для переработки научной информации можно привлечь машины.
— Верно. Но для машин нужно составить программу.
— И нет ученых, которые бы смогли это сделать?
— За такой короткий промежуток времени — нет…
— Так что же тогда?
— Нужно создать таких ученых.
Я остолбенел. Этого еще не хватало! За последние сто лет люди привыкли к фантастическим успехам науки. Они свыклись с полетами в космос, они больше не удивляются управляемой термоядерной реакции, они перестали восхищаться животными, выращиваемыми в искусственной среде, их больше не удивляют успехи в области экспериментальной генетики, которые позволяли получить совершенно новые виды живых существ. Но создавать гениальных ученых…
— Чушь какая-то, — пробормотал я, с подозрением глядя на Корио.
— Я знал, что ты мне не поверишь. Я хочу, чтобы ты и Олла пошли со мной на заседание ученого совета Института структурной нейрокибернетики. Там по этому вопросу сегодня будет дискуссия. Основной докладчик — доктор Фавранов…
Доктор Фавранов… Я был однажды на его публичной лекции и помнил, как он заявил тогда:
— Коммунистическое общество освободило человечество от всех материальных забот, от всякого морального гнета. На повестке дня стоит важная задача — раскрепостить гений человека. Человек имеет в себе все необходимое, чтобы стать гениальным.
III
Доклад доктора Фавранова был не таким популярным, как тот, который я слушал несколько лет назад. В кратком введении он сообщил о наблюдениях его института над часто встречающимися случаями гениальности у детей, которая с годами угасает. Он подверг анализу это явление и сообщил, что основная причина такого угасания — это многочисленные побочные и ненужные в новых социальных условиях нервные связи, которые возникли у человека в процессе многовековой эволюции. Хотя коммунизм избавил человека от борьбы за существование, от страха перед неизвестным, от заботы о своей жизни и жизни своего потомства, физиологическая структура нервной системы продолжает повторять схему, которая была человеку нужна тогда, когда на земле царили волчьи законы. Необходимость в аппарате приспособления к враждебным условиям жизни исчезла при социализме. В коммунистическом же обществе отдельные проявления этой приспособляемости являются главным тормозом раскрытия гигантских творческих способностей людей.— Организация нервной системы человека, доставшаяся нам по наследству, — говорил Фавранов, — слишком несовершенна и обременительна. Мы не можем ждать, пока она отомрет сама собой. Еще многие поколения людей будут чувствовать безотчетный и беспричинный страх, отчаяние, ненависть, горе, печаль. Задача науки — ускорить процесс духовного совершенствования человека.
На схемах, проектируемых на экран, докладчик показал, какие участки центральной нервной системы современного человека являются, как он выразился, "аппендиксами", тормозящими проявление гения человечества в области науки и искусства.
— И вы предлагаете удалить эти "аппендиксы"? — спросил Фавранова председательствовавший доктор Майнеров.
— Да, конечно.
— И после этого человек обретет способности?
— Тот, кто обладает нужным комплексом знаний, будет пользоваться им более эффективно. Кто таких знаний не имеет, приобретет их достаточно легко. Вы, конечно, понимаете, — добавил Фавранов, — что речь идет не о хирургическом вмешательстве в структуру коры головного мозга. Ненужные традиционные нервные связи можно легко и безболезненно разорвать при помощи обыкновенной ультразвуковой иглы.
Сидевшая рядом со мной Олла медленно поднялась.
— Разрешите вопрос, доктор.
— Пожалуйста.
— Скажите, а не повлечет ли за собой такая операция полное изменение личности человека? Хочу сказать, не станет ли человек совсем другим?
Фавранов ласково улыбнулся.
— Конечно, человек станет другим. Он станет лучше, богаче, умнее. Он станет внутренне свободным,
Олла тяжело опустилась в кресло.
— Вы понимаете, доктор Фавранов, что значит изменить личность человека? Вы чувствуете всю этическую глубину проблемы? — спросил Майнеров.
— Да, конечно. Человек, который первым согласится на такую операцию, совершит подвиг. Для того чтобы решиться стать совершенно другим, необходимо огромное мужество. Мы абсолютно уверены в безопасности операции. Правда, мы не знаем, как глубоко и далеко пойдет изменение личности, как измененное "я" будет относиться к самому себе, к окружающим его людям. Но анализ нервных путей и проведенные математические расчеты показывают, что его интеллектуальная работа будет неизмеримо продуктивней.
— Друзья, — обратился к аудитории Майнеров, — вы, конечно, понимаете, какими чрезвычайными обстоятельствами вызвана сегодняшняя дискуссия. Я прошу вас высказаться по затронутым вопросам.
— Давай выйдем, — прошептала Олла. — Я больше не могу.
Мы вышли из здания института и уселись на скамейке прямо перед воротами в парк. Я знал, что Олла не уйдет отсюда, пока не увидит Корио. Снег таял на глазах. В бетонированной канавке журчал ручеек. Мимо изгороди прошли какие-то женщины, и мы слышали, как одна сказала: "По данным института прогнозов, такая погода была триста лет назад…"
— Ты знаешь, чего я боюсь? — не выдержав, спросила Олла.
— Да. Ты боишься, что после операции он перестанет тебя любить.
— Или я его… Вдруг он станет совершенно другим человеком?..
Снег под ногами совершенно растаял, и мы увидели кусок сырой земли и на ней зеленую прошлогоднюю траву.
— Скоро здесь будет тепло, как летом, — пробормотал я.
— Это ужасно… Это страшно… Знаешь, мне стыдно, что я… что я не хочу, чтобы Корио…
— Я понимаю, Олла. Но может быть, ты себя так чувствуешь по тем же причинам, по каким люди не могут стать гениальными?
— А я не могу себе представить, как я могу чувствовать себя иначе.
— Ты же слышала, Фавранов говорит, что таких чувств просто не должно быть, что их можно и нужно ликвидировать.
— Я не знаю, хорошо ли это. Я бы ни за что не согласилась стать другой. О, это, наверное, страшнее, чем умереть совсем.
Если стать другим только чуть-чуть, то это ничего. Что я мог ей ответить? "Стать совершенно другим" — это просто не укладывалось в моей голове.
— Конечно, это подвиг, — после долгих раздумий, сказал я. — Подвиг, требующий не меньшего мужества и отваги, чем первый полет на аэроплане, чем первое путешествие в космос. Всегда кто-то первый, самый мужественный, должен для людей что-то совершить и своим примером увлечь других.
— И все же в этом есть что-то противоестественное, — прошептала Олла. — Ив воздухе и в космосе человек остается самим собой. Здесь он никуда не девается, никуда не улетает, а становится другим.
— Но, Олла, скажи, что плохого в том, что наука разработала рациональные способы перестройки человеческой психики?
Не знаю, для кого больше я затеял этот спор: для себя или для Оллы. Я сам тоже хотел постигнуть этическую глубину проблемы, о которой говорил доктор Майнеров.
— Такие свойства человека, как его ум, характер, его чувства, интуиция, составляют сущность его личности, его "я". Лиши его искусственно одного из характерных только для него элементов, и он станет другим. Я глубоко убеждена, что такое искусственное вмешательство в самую сущность человеческого неправомерно и неэтично.
— Даже если это необходимо для решения жизненно важной задачи, если это делается во имя всего человечества?
— Даже, — твердо сказала Олла.
— А как же тогда следует судить о людях, которые для спасения своих товарищей жертвуют своей жизнью? Помнишь, в истории войн рассказывается о легендарном герое Александре Матросове, который своим телом закрыл вражеский пулемет и спас жизнь нескольких сот человек?
— Он умер, оставаясь Александром Матросовым. А Корио будет жить, перестав быть Корио.
— Он станет для людей более ценным и полезным, чем Корио сейчас.
— Но он будет другим, понимаешь, совершенно другим, чужим…
— Сейчас нет чужих людей, — сказал я. — Все люди — товарищи и друзья.
— Он может стать чужим для меня!
Я обнял Оллу и хотел ей сказать что-то, хотел успокоить, но к нам подошел Корио.
Он был очень взволнован.
— Ну что? — спросил я.
— Решено. Я первый.
