Мы можем увидеть на старинных зданиях, например, мраморные доски с надписями о том, что в этом доме учился писатель Гончаров, а еще раньше родился историк Соловьев, что здесь жил Суворов, а на каком-нибудь мосту, что он построен на средства таких-то и таких-то таким-то архитектором, открыт такого-то числа месяца и года в присутствии таких-то высокопоставленных особ (как, например, б. Троицкий мост в Санкт-Петербурге, самого «государя императора самодержца Всероссийского» Николая II и президента Франции господина Феликса Фора). Что же, может быть, это и в самом деле очень хороший мост и стоило водрузить эту доску? Ведь он служит до сих пор. Наконец, в палатах ростовского кремля я видел мемориальную доску, где написано, на средства каких купцов был реставрирован тот или иной древний зал или церковь. И это было дело благородное, может быть, заслуживавшее мемориальной доски.
Но хочется рассказать об одной необычной памятной доске.
Ее нашли лет тридцать назад при благоустройстве двора на знаменитой и сейчас Трехгорной мануфактуре. Раньше фабрика принадлежала богатым заводчикам Прохоровым и называлась Прохоровской мануфактурой. «Мануфактурой» – не потому, что она выпускала различные ткани, а потому, что так в ту пору назывались крупные производства с большим количеством рабочих.
Находка не была совсем неожиданной.
Старые работники Трехгорки помнили, что когда-то во дворе фабрики был какой-то «мемориал», или памятник, который особо оберегали хозяева. Одни говорили, что он был на стене ветхого здания, другие – что стоял сам по себе.
В роскошно изданной еще самими Прохоровыми «Истории Прохоровской мануфактуры» говорилось о памятной доске на стене одного из зданий.
Строго говоря, прохоровский памятник не был разрушен или тем более сознательно уничтожен. Просто, когда фабрика перешла в руки рабочих, а прежние хозяева навсегда исчезли оттуда, никто не заботился о мемориальной доске по причине полного отсутствия интереса к ней. И «мемориал» исчез не только из памяти людей, но и с их глаз. Может быть, прогнили крепления, может быть, был какой-нибудь ремонт. Так или иначе, только он был вновь найден, когда фабричный двор стали очередной раз чистить и благоустраивать.
Это была довольно большая, целиком отлитая из чугуна доска. Буквы на ней сильно оборжавели, но еще хорошо читалась надпись:
«На этой горке 1812 года в бытность Наполеона с войсками в Москве московский фабрикант Василий Иванович и сын его Иван Васильевич Прохоровы спасались от пламени, объявшего Москву, и грабежа неприятелей. Во всех неистовых поступках преимуществовали перед другими нациями поляки и италиянцы. Французской же гвардии Полковник не допустил до разграбления последний запас муки и картофеля, и тем запасом Прохоровы продовольствовались до конца сентября месяца выхода своего из Москвы в Зарайск, куда его супруга Екатерина Никифоровна с сыновьями Константином и Яковом и дочерью Анною В. выехали 25-го августа. Этот же добрый французский полковник, выезжая отсюда в поместье Остров граф. Орловой-Чесменской, заходил проститься с хозяином Василием Ивановичем и подарил сыну его Ивану В. подзорную трубку. Вечная ему память!».
Текст этот составил не очень-то большой грамотей. Строго говоря, остается неясным, чьей супругой была Екатерина Никифоровна: Василия Ивановича Прохорова или, может быть, «доброго французского полковника» – так составлена длинная и неуклюжая фраза. Трудно подумать, что так мог написать какой-нибудь специально приглашенный человек. Он-то уж должен был быть пограмотнее. Наверное, это кто-то из самих почтенных толстосумов Прохоровых – скорее всего, Иван Васильевич, – кто еще запомнил бы, что получил в подарок подзорную трубку?
Так и чувствуется чванный и необразованный купец, вроде тех, что так блестяще описаны А. Н. Островским.
Но оставим грамматику и стилистику в стороне. Подумаем, о каких событиях рассказывает надпись, какое эти события имели значение для нашей родины и что из них заметили фабриканты Прохоровы, что думали и чувствовали они сами, что сочли нужным увековечить.
Памятная всей России осень 1812 года. Наполеон с армиями всей Европы («двунадесяти язык», как тогда говорили) вторгся в пределы нашей родины. Ему удалось даже занять на короткое время Москву. Древняя столица погибла в пламени. Но тем выше поднялась волна народного гнева. Не только регулярная армия боролась с неприятелем. С ним боролся весь народ, вся Россия. И гордый завоеватель, покоритель полумира, должен был бежать из Москвы, и это было началом конца его империи.
Московские фабриканты Василий и Иван Прохоровы были очевидцами этих событий. Но не участниками, как это явствует из самой надписи. Они не принимали никакого участия в общей борьбе народа против его поработителей. Единственной их заботой было сохранение собственного добра. И ради этого они, конечно, подружились с «французским гвардии полковником», который помог им (может быть, небезвозмездно) сохранить запасы продовольствия.
Может быть, все же эти московские буржуа, видя примеры героической борьбы народа, захотели увековечить какой-либо виденный ими подвиг, сохранить его для потомства?
Нет. Они считали единственным примечательным событием, достойным увековечения, то, что им удалось сохранить свои запасы продовольствия, да еще то, что один из них получил в то время маленький подарок – подзорную трубку. И конечно, они сочли нужным провозгласить вечную память французскому полковнику, а не русским воинам. Для этого была отлита мемориальная доска из чугуна и водружена на прохоровской фабрике в назидание потомству.
ПОДРУГА ДУМЫ ПРАЗДНОЙ
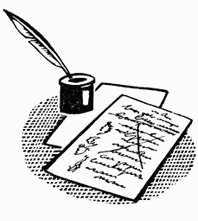 Слово «керамика» о многом говорит в наше время самым разным людям.
Слово «керамика» о многом говорит в наше время самым разным людям.
– Э, да сюда нужно новую керамику! – скажет с мрачным видом электромонтер, принимая в ремонт электроплитку или рефлектор.
– Я работаю в научно-исследовательском институте строй-керамики, – заявит с гордостью инженер-строитель или технолог.
– Нет ли у вас какой-нибудь интересной керамики? – спросит в магазине дама, желающая красиво и модно обставить квартиру.
– А какая в этом культурном слое керамика? – поинтересуется археолог, когда захочет выяснить, к какому времени относятся те или иные отложения и с какой культурой они могут быть связаны.
А ведь само это слово древние греки производили от слова «керамос», что на их языке обозначало просто «глина». «Керамика» – это значит «глиняное», изделия из глины.
И в самом деле, с тех пор как первобытный человек узнал, что глина, если ее обжечь, чудесным образом изменяет свои свойства, керамика уверенно вошла во все области нашей жизни. С древнейших времен и до наших дней почти повсюду в мире люди едят и пьют из керамической посуды, строят кирпичные дома, в ряде стран покрывают их черепицей, украшают изразцами и плитками, а в комнатах ставят керамические вазы и статуэтки; на заводах и в лабораториях мы можем увидеть керамические бутыли, стаканы, ступки, тигли, разного рода изоляторы и т. п.
И во все времена, у всех народов, знавших керамику, изделия были своеобразны, чем-то не похожи на керамику других народов. В них сказывались и особенности производства, и народные вкусы. Но и у одного и того же народа в разные времена керамика была разной. Развивалось производство, изменялась жизнь, и начинали делать другие предметы, обычно лучшего качества и более разнообразные. Сначала, например, лепили от руки грубые глиняные горшки, потом научились делать их на подставке, наращивая стенки кольцевыми жгутами, позднее изобрели гончарный круг и стали изготовлять разнообразные сосуды правильной формы, навивая глиняный жгут спиралью; наконец, научились вытягивать сосуд из одного цельного куска глины, покрывать его глазурью и т. д. Для этих усовершенствований понадобились столетия, а иногда и тысячелетия. Поэтому-то археологи и могут по керамике, как правило, уже давно разбитой и поломанной, определить время, которому она принадлежала. Поэтому они так интересуются керамикой. На любых раскопках вы увидите людей, которые, собрав обломки керамических изделий, тщательно зарисовывают их форму и орнамент, описывают их, подсчитывают, стараются восстановить древние формы сосудов и, если можно, склеить их из черепков.
В верхних горизонтах культурного слоя русских городов обычно находят много обломков небольших глиняных банок цилиндрической формы, немало и целых банок. Снаружи банка обычно покрыта глазурью синего цвета, изнутри – белой глазурью. Синие черепки хорошо видны в культурном слое и прямо-таки бросаются в глаза археологу. В тех же слоях попадаются монеты Елизаветы, Екатерины, Павла. Синие банки – своеобразная аптечная посуда второй половины XVIII века. В них приготовляли и продавали тогда различные мази, чаще всего – помаду. У городских модниц спрос на помаду был, по-видимому, очень велик, и едва ли не в каждом доме – дворянском, купеческом или мещанском – находились особы женского пола, пользовавшиеся синими баночками. В них хранили помаду, белила, румяна и тому подобные средства для покорения мужских сердец. Потому-то и находят обломки банок десятками и сотнями во всех старых городах. А в деревнях это редкая находка. И понятно: ведь только помещица или помещичья дочка могла позволить себе такую роскошь.
Трудно передать то чувство, с которым входишь в дом, где жил и работал твой любимый писатель. Вот прихожая, столовая, маленькая гостиная – «зальце», как ее называли, кабинет. И, по мере того как идешь из одной комнаты в другую, исчезают те годы, которые прошли со дня смерти писателя.
Кажется, что вот сейчас оживут эти комнаты, раздадутся голоса тех, кто здесь жил, шум их шагов – и в кабинет войдет небольшого роста, изящный, быстрый в движениях, незнакомый и бесконечно милый мне человек, которого я, конечно, никогда не видел и вместе с тем видел столько раз своим мысленным взором.
Войдет бодрый, хотя и несколько утомленный верховой прогулкой, бросит на диван хлыст, поскорее сядет за стол, подвинет к себе бумагу, нетерпеливо схватит вот это гусиное перо, потянется к чернильнице…
– Позвольте, откуда здесь помадная банка? – спросил я сотрудника музея, который любезно показывал мне дом в Михайловском.
– А разве вы не знаете, что Александр Сергеевич пользовался помадной банкой как чернильницей? – был ответ.
В кабинете, обставленном очень скромно, но все же во вкусе двадцатых годов XIX века, на небольшом рабочем столе стояла синяя помадная банка, которая была, безусловно, лет на тридцать – сорок старше всех окружающих вещей.
«Я девочкой бывала у Пушкина в имении и видела комнату, где он писал, – рассказывала впоследствии соседка Пушкина Екатерина Ивановна Осипова. – Комнатка Александра Сергеевича была маленькая, жалкая. Стояли в ней всего-навсего простая кровать деревянная с двумя подушками… а стол был ломберный (какие в ту пору употреблялись для игры в карты). На нем он и писал, и не из чернильницы, а из помадной банки».
Так вот она какая была, «подруга думы праздной»! Вот к кому обращал поэт исполненные нежности строки:
Да, у этой вещи едва ли не самая завидная судьба из всех судеб вещей, описанных в этой книге.
Сначала она была обычной банкой, которую сделал гончар, а аптекарь наполнил каким-то косметическим снадобьем. Впрочем, не исключена возможность, что сама красавица Надежда Осиповна Пушкина набирала из нее помаду своим смуглым пальчиком. Ведь в царствование Павла она уже блистала в свете. А потом забытая банка валялась где-нибудь в доме, пока не полюбилась сыну Александру, который и сделал ее участницей своего вдохновенного творчества.
ПИСЬМО В ГРЯДУЩЕЕ
 – Скажите, когда в нынешнем году будет сессия археологов? – спросила как-то Милица Васильевна Нечкина. Признаться, этот вопрос в ее устах меня немного удивил.
– Скажите, когда в нынешнем году будет сессия археологов? – спросила как-то Милица Васильевна Нечкина. Признаться, этот вопрос в ее устах меня немного удивил.
По давней хорошей традиции Академия наук каждый год созывает археологов и этнографов всей нашей страны. Это обычно происходит ранней весной, когда то, что добыто в прошлом году, уже обработано, а новый сезон полевых исследований еще не начался. Самое время поговорить о результатах прошлого, о планах на будущее.
Большой зал Дома ученых в Москве наполняется не совсем обычными посетителями. Они приехали из больших и малых городов – из Средней Азии, где в это время уже цветут сады, и из скованных еще льдом северных областей, из Закарпатья, из Прибалтики, с Дальнего Востока.
Это – археологи и этнографы, работающие в многочисленных научных и учебных институтах и музеях. С волнением слушают они друг друга, подчас спорят между собой, жадно рассматривают новые находки на выставке, советуются о работах наступающего лета.
Здесь можно узнать самые свежие новости о древнейших культурах на территории нашей страны – древнем и новом каменном веке, об эпохе бронзы, о раннем железном веке, о ярких культурах Кавказа, Причерноморских степей, о старых городах Средней Азии, Боспорского царства, о русских городищах и курганах. Поэтому на заседаниях можно увидеть не только археологов и этнографов, но и исследователей смежных областей древней и средневековой истории. Но на годичных собраниях археологов никогда не приходилось слышать докладов о прошлом столетии, если не считать, разумеется, довольно редких сообщений об истории археологических исследований или охраны археологических памятников.
– Я хочу передать археологам привет от декабриста, – сказала Милица Васильевна.
Привет от декабриста, от человека прошлого столетия… Просто мистика какая-то! Но оказалось, конечно, что никакой мистики тут нет. Вот что я узнал из рассказа академика М. В. Нечкиной.
Не так давно в небольшом сибирском городе Ялуторовске, что стоит на берегу реки Тобол, ремонтировали старый дом. Когда разобрали большую русскую печь, под половицей нашли… бутылку. Бутылка была старинная, из толстого темного стекла, небольшая, с длинным горлышком, за которое очень удобно было когда-то браться рукой.
Вы, конечно, не раз уже читали о бутылках, найденных в море. Вспомните хотя бы «Человека, который смеется» Виктора Гюго или «Детей капитана Гранта» Жюля Верна. Видимо, еще в прошлом веке хорошо закупоренная крепкая стеклянная бутылка считалась самым надежным хранилищем документов. «Такими бутылками, – писал Жюль Верн, – разбивают спинки стульев, причем на стекле не остается даже царапины. Не удивительно, что этот сосуд мог легко перенести все превратности длительного путешествия».
А бутылка, найденная в Ялуторовске, и не путешествовала. Она все время пролежала под половицей и печью. И в ней, разумеется, тоже оказался документ – довольно большое письмо. Оно отлично сохранилось, даже не отсырело. Два небольших листка белой, чуть пожелтевшей бумаги исписаны с обеих сторон. Сквозь тонкую бумагу слегка просвечивают строки обратной стороны. Ровные, как будто бы по линейке написанные буроватыми чернилами строчки. Аккуратные, четкие буквы. Хотя зачастую и с росчерками, но без всякой лишней кудрявости. Так свободно, красиво и аккуратно мог писать только интеллигентный, привыкший к перу человек.
Писал он давно, когда еще употребляли десятеричное i, ять, твердый знак в конце слов. Но не слишком давно, не в те времена, когда начертания букв существенно отличались от наших современных. Нам легко прочесть его письмо. Начинается как будто с не слишком интересной истории дома.
«По преданиям, – читаем на первой странице, – этот дом построен в последних годах царствования Екатерины II Егором Прокофьевичем Белоусовым».
Но дальше письмо приобретает огромный интерес:
«В 1838 году по кончине Егора Прокофьевича этот дом был куплен Государственным Преступником Матвеем Ивановичем Муравьевым Апостол. В 1839 году Муравьев поднял и совершенно переделал этот дом.
В 1849 году из сеней сделана Комната и печь, под которой Муравьев кладет эту записку».
Так вот кто автор письма! Матвей Иванович Муравьев-Апостол, который сам себя именует государственным преступником, но, видимо, не стыдится этого наименования. Слова «Государственный Преступник» он пишет даже с большой буквы.
Это был один из первых русских революционеров. «Союз спасения», «Союз благоденствия», а потом «Южное общество», «Северное общество» – так назывались их организации. Восстание 14 декабря 1825 года дало этим революционерам новое имя. «Nos amis du quatorze» – «Наши друзья четырнадцатого», – с издевкой и ненавистью говорил о них Николай I. «Декабристы», – с уважением и любовью стали говорить в кругах революционно настроенной интеллигенции, а потом и в народе.
Матвей Иванович Муравьев-Апостол был одним из видных деятелей тайных обществ. Судьба его, пожалуй, типична для многих декабристов. Восемнадцатилетним юношей пошел он, как и большинство молодых дворян того времени, на военную службу. Это было незадолго до Отечественной войны 1812 года. Юный офицер сражался за родину против ворвавшегося в нее врага. Он видел всю меру народных бедствий, величие народного гнева. Потом участвовал в заграничных походах русской армии, завершившихся, как известно, в Париже.
Впоследствии, когда, допрашивая «своих друзей четырнадцатого», царские чиновники стремились показать, что революционных идей эти русские дворяне «нахватались» во Франции, декабристы не раз говорили, что не за границей, а у себя на родине во время Отечественной войны увидели они впервые ясно то, что толкнуло их на борьбу против существующего строя, – бесправие народа, разнузданное господство кучки дворян, палочную муштру. «Мы были дети двенадцатого года», – писал впоследствии и сам Матвей Муравьев-Апостол.
И вот Матвей Иванович Муравьев-Апостол – член тайных обществ: «Союза спасения», «Союза благоденствия», «Южного общества». Одно время он был представителем «Южного общества» в Петербурге и вел там переговоры об объединении с «Северным обществом». Он достиг чина подполковника и был уже в отставке, когда вспыхнуло восстание. И тут он не остался в стороне: принял участие в восстании Черниговского полка, которым руководил его младший брат, Сергей Иванович Муравьев-Апостол. Известно, что Черниговский полк был разгромлен правительственными войсками у села Ковалевки. Раненый Сергей Муравьев-Апостол был взят на поле боя с оружием в руках. Впоследствии царь приказал повесить его вместе с четырьмя другими «главными, – как он говорил, – преступниками» – Рылеевым, Пестелем, Бестужевым-Рюминым и Каховским.
А старший брат, Матвей, был приговорен к каторге, и потом – к поселению в отдаленных местах Сибири. Ссылку он отбывал в Ялуторовске, куда в разное время попали и другие декабристы. Ссыльные не падали духом. В Ялуторовске они открыли две школы – для мальчиков и, что тогда было почти дерзостью, для девочек. Лечили крестьян и горожан, оказывали им всевозможную помощь.
О многих из них упоминает Матвей Иванович Муравьев-Апостол в том письме, что найдено в бутылке:
«Государственные преступники, живущие в Ялуторовске в 1849.
Кроме Муравьева Апостол.
Иван Дмитриевич Якушкин.
Иван Иванович Пущин.
Николай Васильевич Басаргин.
Василий Карлович Тизенгаузен.
Евгений Петрович Князь Оболенский.
Андрей Васильевич Ентальцев наш товарищ скончался здесь в Ялуторовске в субботу, 11 часов до полудни 27 января 1845 году – похоронен на Ялуторовском кладбище 30 января Протоиереем Стефаном Яковлевичем Знаменским.
В Ялуторовске скончался еще другой наш товарищ Василий Иванович Вроницкий в 1830.
Якушкин и я мы приехали в Ялуторовск в 1836 году.
Пущин и Оболенский в 1844 году.
Басаргин в 1847.
Тизенгаузен в 1829 году.
Ентальцев в 1830 году».
Ссыльный декабрист сообщает точные сведения о том, кто и с какого времени отбывает ссылку в Ялуторовске. Он выделяет данные о каждом из ссыльных в отдельную строку, как бы подчеркивая этим важность, которую придает своему сообщению. Видно, что он ясно представлял себе, как понадобятся эти сведения будущим историкам, которые непременно заинтересуются судьбой «государственных преступников» – декабристов и, по всей вероятности, найдут в официальных бумагах лишь данные для их очернения. И помогал историкам, чем мог.
И еще одно. Ентальцев умер, как мы видим, за четыре года до того, как написано письмо, но Муравьев-Апостол рассказывает о его смерти и похоронах так, как будто это случилось совсем недавно. Конечно, смерть товарища, замученного царскими палачами, вдали от родины и родных, должна была тяжело подействовать и на всех остальных ялуторовских ссыльных. Наверное, каждый думал при этом и о себе – не ожидает ли и его в скором времени та же участь. Но и в этих условиях революционеры прежде всего думали о народе, о его будущем. И эта вера в светлое будущее поддерживала их.
Неудача восстания и устроенное царем судилище не сломили Матвея Ивановича Муравьева-Апостола. Он твердо верил в другой, высший суд – в суд потомков, в суд истории.
Пожилой уже, больной человек, переживший опасности войны, пафос революционного восстания, ужасы царской каторги и ссылки, написал письмо в грядущее. Он говорил кратко о судьбе своих товарищей и посылал привет будущим исследователям.
«Для пользы и удовольствия будущих Археологов, которым желаю всего наилучшего в Мире, кладу эту записку.
18 Августа 1849 года».
Таковы последние строки письма Муравьева-Апостола.
У него не было сомнений в светлом будущем родины. Он видел мысленным взором то время, когда «оковы тяжкие падут», и понимал, что в этой свободной будущей жизни немалую роль сыграют ученые, в том числе и историки.
Привет от декабриста дошел до нас более чем через сто лет.
В доме, где жил ссыльный М. И. Муравьев-Апостол и где он спрятал свое письмо, теперь Краеведческий музей памяти декабристов.
Но хочется рассказать об одной необычной памятной доске.
Ее нашли лет тридцать назад при благоустройстве двора на знаменитой и сейчас Трехгорной мануфактуре. Раньше фабрика принадлежала богатым заводчикам Прохоровым и называлась Прохоровской мануфактурой. «Мануфактурой» – не потому, что она выпускала различные ткани, а потому, что так в ту пору назывались крупные производства с большим количеством рабочих.
Находка не была совсем неожиданной.
Старые работники Трехгорки помнили, что когда-то во дворе фабрики был какой-то «мемориал», или памятник, который особо оберегали хозяева. Одни говорили, что он был на стене ветхого здания, другие – что стоял сам по себе.
В роскошно изданной еще самими Прохоровыми «Истории Прохоровской мануфактуры» говорилось о памятной доске на стене одного из зданий.
Строго говоря, прохоровский памятник не был разрушен или тем более сознательно уничтожен. Просто, когда фабрика перешла в руки рабочих, а прежние хозяева навсегда исчезли оттуда, никто не заботился о мемориальной доске по причине полного отсутствия интереса к ней. И «мемориал» исчез не только из памяти людей, но и с их глаз. Может быть, прогнили крепления, может быть, был какой-нибудь ремонт. Так или иначе, только он был вновь найден, когда фабричный двор стали очередной раз чистить и благоустраивать.
Это была довольно большая, целиком отлитая из чугуна доска. Буквы на ней сильно оборжавели, но еще хорошо читалась надпись:
«На этой горке 1812 года в бытность Наполеона с войсками в Москве московский фабрикант Василий Иванович и сын его Иван Васильевич Прохоровы спасались от пламени, объявшего Москву, и грабежа неприятелей. Во всех неистовых поступках преимуществовали перед другими нациями поляки и италиянцы. Французской же гвардии Полковник не допустил до разграбления последний запас муки и картофеля, и тем запасом Прохоровы продовольствовались до конца сентября месяца выхода своего из Москвы в Зарайск, куда его супруга Екатерина Никифоровна с сыновьями Константином и Яковом и дочерью Анною В. выехали 25-го августа. Этот же добрый французский полковник, выезжая отсюда в поместье Остров граф. Орловой-Чесменской, заходил проститься с хозяином Василием Ивановичем и подарил сыну его Ивану В. подзорную трубку. Вечная ему память!».
Текст этот составил не очень-то большой грамотей. Строго говоря, остается неясным, чьей супругой была Екатерина Никифоровна: Василия Ивановича Прохорова или, может быть, «доброго французского полковника» – так составлена длинная и неуклюжая фраза. Трудно подумать, что так мог написать какой-нибудь специально приглашенный человек. Он-то уж должен был быть пограмотнее. Наверное, это кто-то из самих почтенных толстосумов Прохоровых – скорее всего, Иван Васильевич, – кто еще запомнил бы, что получил в подарок подзорную трубку?
Так и чувствуется чванный и необразованный купец, вроде тех, что так блестяще описаны А. Н. Островским.
Но оставим грамматику и стилистику в стороне. Подумаем, о каких событиях рассказывает надпись, какое эти события имели значение для нашей родины и что из них заметили фабриканты Прохоровы, что думали и чувствовали они сами, что сочли нужным увековечить.
Памятная всей России осень 1812 года. Наполеон с армиями всей Европы («двунадесяти язык», как тогда говорили) вторгся в пределы нашей родины. Ему удалось даже занять на короткое время Москву. Древняя столица погибла в пламени. Но тем выше поднялась волна народного гнева. Не только регулярная армия боролась с неприятелем. С ним боролся весь народ, вся Россия. И гордый завоеватель, покоритель полумира, должен был бежать из Москвы, и это было началом конца его империи.
Московские фабриканты Василий и Иван Прохоровы были очевидцами этих событий. Но не участниками, как это явствует из самой надписи. Они не принимали никакого участия в общей борьбе народа против его поработителей. Единственной их заботой было сохранение собственного добра. И ради этого они, конечно, подружились с «французским гвардии полковником», который помог им (может быть, небезвозмездно) сохранить запасы продовольствия.
Может быть, все же эти московские буржуа, видя примеры героической борьбы народа, захотели увековечить какой-либо виденный ими подвиг, сохранить его для потомства?
Нет. Они считали единственным примечательным событием, достойным увековечения, то, что им удалось сохранить свои запасы продовольствия, да еще то, что один из них получил в то время маленький подарок – подзорную трубку. И конечно, они сочли нужным провозгласить вечную память французскому полковнику, а не русским воинам. Для этого была отлита мемориальная доска из чугуна и водружена на прохоровской фабрике в назидание потомству.
ПОДРУГА ДУМЫ ПРАЗДНОЙ
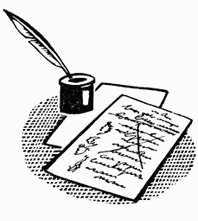
– Э, да сюда нужно новую керамику! – скажет с мрачным видом электромонтер, принимая в ремонт электроплитку или рефлектор.
– Я работаю в научно-исследовательском институте строй-керамики, – заявит с гордостью инженер-строитель или технолог.
– Нет ли у вас какой-нибудь интересной керамики? – спросит в магазине дама, желающая красиво и модно обставить квартиру.
– А какая в этом культурном слое керамика? – поинтересуется археолог, когда захочет выяснить, к какому времени относятся те или иные отложения и с какой культурой они могут быть связаны.
А ведь само это слово древние греки производили от слова «керамос», что на их языке обозначало просто «глина». «Керамика» – это значит «глиняное», изделия из глины.
И в самом деле, с тех пор как первобытный человек узнал, что глина, если ее обжечь, чудесным образом изменяет свои свойства, керамика уверенно вошла во все области нашей жизни. С древнейших времен и до наших дней почти повсюду в мире люди едят и пьют из керамической посуды, строят кирпичные дома, в ряде стран покрывают их черепицей, украшают изразцами и плитками, а в комнатах ставят керамические вазы и статуэтки; на заводах и в лабораториях мы можем увидеть керамические бутыли, стаканы, ступки, тигли, разного рода изоляторы и т. п.
И во все времена, у всех народов, знавших керамику, изделия были своеобразны, чем-то не похожи на керамику других народов. В них сказывались и особенности производства, и народные вкусы. Но и у одного и того же народа в разные времена керамика была разной. Развивалось производство, изменялась жизнь, и начинали делать другие предметы, обычно лучшего качества и более разнообразные. Сначала, например, лепили от руки грубые глиняные горшки, потом научились делать их на подставке, наращивая стенки кольцевыми жгутами, позднее изобрели гончарный круг и стали изготовлять разнообразные сосуды правильной формы, навивая глиняный жгут спиралью; наконец, научились вытягивать сосуд из одного цельного куска глины, покрывать его глазурью и т. д. Для этих усовершенствований понадобились столетия, а иногда и тысячелетия. Поэтому-то археологи и могут по керамике, как правило, уже давно разбитой и поломанной, определить время, которому она принадлежала. Поэтому они так интересуются керамикой. На любых раскопках вы увидите людей, которые, собрав обломки керамических изделий, тщательно зарисовывают их форму и орнамент, описывают их, подсчитывают, стараются восстановить древние формы сосудов и, если можно, склеить их из черепков.
В верхних горизонтах культурного слоя русских городов обычно находят много обломков небольших глиняных банок цилиндрической формы, немало и целых банок. Снаружи банка обычно покрыта глазурью синего цвета, изнутри – белой глазурью. Синие черепки хорошо видны в культурном слое и прямо-таки бросаются в глаза археологу. В тех же слоях попадаются монеты Елизаветы, Екатерины, Павла. Синие банки – своеобразная аптечная посуда второй половины XVIII века. В них приготовляли и продавали тогда различные мази, чаще всего – помаду. У городских модниц спрос на помаду был, по-видимому, очень велик, и едва ли не в каждом доме – дворянском, купеческом или мещанском – находились особы женского пола, пользовавшиеся синими баночками. В них хранили помаду, белила, румяна и тому подобные средства для покорения мужских сердец. Потому-то и находят обломки банок десятками и сотнями во всех старых городах. А в деревнях это редкая находка. И понятно: ведь только помещица или помещичья дочка могла позволить себе такую роскошь.
Трудно передать то чувство, с которым входишь в дом, где жил и работал твой любимый писатель. Вот прихожая, столовая, маленькая гостиная – «зальце», как ее называли, кабинет. И, по мере того как идешь из одной комнаты в другую, исчезают те годы, которые прошли со дня смерти писателя.
Кажется, что вот сейчас оживут эти комнаты, раздадутся голоса тех, кто здесь жил, шум их шагов – и в кабинет войдет небольшого роста, изящный, быстрый в движениях, незнакомый и бесконечно милый мне человек, которого я, конечно, никогда не видел и вместе с тем видел столько раз своим мысленным взором.
Войдет бодрый, хотя и несколько утомленный верховой прогулкой, бросит на диван хлыст, поскорее сядет за стол, подвинет к себе бумагу, нетерпеливо схватит вот это гусиное перо, потянется к чернильнице…
– Позвольте, откуда здесь помадная банка? – спросил я сотрудника музея, который любезно показывал мне дом в Михайловском.
– А разве вы не знаете, что Александр Сергеевич пользовался помадной банкой как чернильницей? – был ответ.
В кабинете, обставленном очень скромно, но все же во вкусе двадцатых годов XIX века, на небольшом рабочем столе стояла синяя помадная банка, которая была, безусловно, лет на тридцать – сорок старше всех окружающих вещей.
«Я девочкой бывала у Пушкина в имении и видела комнату, где он писал, – рассказывала впоследствии соседка Пушкина Екатерина Ивановна Осипова. – Комнатка Александра Сергеевича была маленькая, жалкая. Стояли в ней всего-навсего простая кровать деревянная с двумя подушками… а стол был ломберный (какие в ту пору употреблялись для игры в карты). На нем он и писал, и не из чернильницы, а из помадной банки».
Так вот она какая была, «подруга думы праздной»! Вот к кому обращал поэт исполненные нежности строки:
Он писал, что перо находит здесь
Подруга думы праздной,
Чернильница моя.
Мой век разнообразный
Тобой украсил я…
Под сенью хаты скромной
В часы печали томной
Была ты предо мной
С лампадой и мечтой.
В минуты вдохновенья
К тебе я прибегал
И музу призывал
На пир воображенья…
Стихи как будто не предназначались для печати. Во всяком случае, они не увидели света при жизни автора. То был дар щедрого сердца поэта.
Концы моих стихов
И верность выраженья,
То звуков или слов
Нежданное стеченье,
То едкой шутки соль,
То правды слог суровый.
То странность рифмы новой,
Неслыханной дотоль.
С глупцов сорвав одежду,
Я весело клеймил
Зоила и невежду
Пятном твоих чернил,
Но их не разводил
Ни тайной злости пеной,
Ни ядом клеветы.
И сердца простоты
Ни лестью, ни изменой
Не замарала ты.
…Пока златые годы
В забвеньи трачу я.
Со мною неразлучно
Живи благополучно,
Наперсница моя.
Да, у этой вещи едва ли не самая завидная судьба из всех судеб вещей, описанных в этой книге.
Сначала она была обычной банкой, которую сделал гончар, а аптекарь наполнил каким-то косметическим снадобьем. Впрочем, не исключена возможность, что сама красавица Надежда Осиповна Пушкина набирала из нее помаду своим смуглым пальчиком. Ведь в царствование Павла она уже блистала в свете. А потом забытая банка валялась где-нибудь в доме, пока не полюбилась сыну Александру, который и сделал ее участницей своего вдохновенного творчества.
ПИСЬМО В ГРЯДУЩЕЕ

По давней хорошей традиции Академия наук каждый год созывает археологов и этнографов всей нашей страны. Это обычно происходит ранней весной, когда то, что добыто в прошлом году, уже обработано, а новый сезон полевых исследований еще не начался. Самое время поговорить о результатах прошлого, о планах на будущее.
Большой зал Дома ученых в Москве наполняется не совсем обычными посетителями. Они приехали из больших и малых городов – из Средней Азии, где в это время уже цветут сады, и из скованных еще льдом северных областей, из Закарпатья, из Прибалтики, с Дальнего Востока.
Это – археологи и этнографы, работающие в многочисленных научных и учебных институтах и музеях. С волнением слушают они друг друга, подчас спорят между собой, жадно рассматривают новые находки на выставке, советуются о работах наступающего лета.
Здесь можно узнать самые свежие новости о древнейших культурах на территории нашей страны – древнем и новом каменном веке, об эпохе бронзы, о раннем железном веке, о ярких культурах Кавказа, Причерноморских степей, о старых городах Средней Азии, Боспорского царства, о русских городищах и курганах. Поэтому на заседаниях можно увидеть не только археологов и этнографов, но и исследователей смежных областей древней и средневековой истории. Но на годичных собраниях археологов никогда не приходилось слышать докладов о прошлом столетии, если не считать, разумеется, довольно редких сообщений об истории археологических исследований или охраны археологических памятников.
– Я хочу передать археологам привет от декабриста, – сказала Милица Васильевна.
Привет от декабриста, от человека прошлого столетия… Просто мистика какая-то! Но оказалось, конечно, что никакой мистики тут нет. Вот что я узнал из рассказа академика М. В. Нечкиной.
Не так давно в небольшом сибирском городе Ялуторовске, что стоит на берегу реки Тобол, ремонтировали старый дом. Когда разобрали большую русскую печь, под половицей нашли… бутылку. Бутылка была старинная, из толстого темного стекла, небольшая, с длинным горлышком, за которое очень удобно было когда-то браться рукой.
Вы, конечно, не раз уже читали о бутылках, найденных в море. Вспомните хотя бы «Человека, который смеется» Виктора Гюго или «Детей капитана Гранта» Жюля Верна. Видимо, еще в прошлом веке хорошо закупоренная крепкая стеклянная бутылка считалась самым надежным хранилищем документов. «Такими бутылками, – писал Жюль Верн, – разбивают спинки стульев, причем на стекле не остается даже царапины. Не удивительно, что этот сосуд мог легко перенести все превратности длительного путешествия».
А бутылка, найденная в Ялуторовске, и не путешествовала. Она все время пролежала под половицей и печью. И в ней, разумеется, тоже оказался документ – довольно большое письмо. Оно отлично сохранилось, даже не отсырело. Два небольших листка белой, чуть пожелтевшей бумаги исписаны с обеих сторон. Сквозь тонкую бумагу слегка просвечивают строки обратной стороны. Ровные, как будто бы по линейке написанные буроватыми чернилами строчки. Аккуратные, четкие буквы. Хотя зачастую и с росчерками, но без всякой лишней кудрявости. Так свободно, красиво и аккуратно мог писать только интеллигентный, привыкший к перу человек.
Писал он давно, когда еще употребляли десятеричное i, ять, твердый знак в конце слов. Но не слишком давно, не в те времена, когда начертания букв существенно отличались от наших современных. Нам легко прочесть его письмо. Начинается как будто с не слишком интересной истории дома.
«По преданиям, – читаем на первой странице, – этот дом построен в последних годах царствования Екатерины II Егором Прокофьевичем Белоусовым».
Но дальше письмо приобретает огромный интерес:
«В 1838 году по кончине Егора Прокофьевича этот дом был куплен Государственным Преступником Матвеем Ивановичем Муравьевым Апостол. В 1839 году Муравьев поднял и совершенно переделал этот дом.
В 1849 году из сеней сделана Комната и печь, под которой Муравьев кладет эту записку».
Так вот кто автор письма! Матвей Иванович Муравьев-Апостол, который сам себя именует государственным преступником, но, видимо, не стыдится этого наименования. Слова «Государственный Преступник» он пишет даже с большой буквы.
Это был один из первых русских революционеров. «Союз спасения», «Союз благоденствия», а потом «Южное общество», «Северное общество» – так назывались их организации. Восстание 14 декабря 1825 года дало этим революционерам новое имя. «Nos amis du quatorze» – «Наши друзья четырнадцатого», – с издевкой и ненавистью говорил о них Николай I. «Декабристы», – с уважением и любовью стали говорить в кругах революционно настроенной интеллигенции, а потом и в народе.
Матвей Иванович Муравьев-Апостол был одним из видных деятелей тайных обществ. Судьба его, пожалуй, типична для многих декабристов. Восемнадцатилетним юношей пошел он, как и большинство молодых дворян того времени, на военную службу. Это было незадолго до Отечественной войны 1812 года. Юный офицер сражался за родину против ворвавшегося в нее врага. Он видел всю меру народных бедствий, величие народного гнева. Потом участвовал в заграничных походах русской армии, завершившихся, как известно, в Париже.
Впоследствии, когда, допрашивая «своих друзей четырнадцатого», царские чиновники стремились показать, что революционных идей эти русские дворяне «нахватались» во Франции, декабристы не раз говорили, что не за границей, а у себя на родине во время Отечественной войны увидели они впервые ясно то, что толкнуло их на борьбу против существующего строя, – бесправие народа, разнузданное господство кучки дворян, палочную муштру. «Мы были дети двенадцатого года», – писал впоследствии и сам Матвей Муравьев-Апостол.
И вот Матвей Иванович Муравьев-Апостол – член тайных обществ: «Союза спасения», «Союза благоденствия», «Южного общества». Одно время он был представителем «Южного общества» в Петербурге и вел там переговоры об объединении с «Северным обществом». Он достиг чина подполковника и был уже в отставке, когда вспыхнуло восстание. И тут он не остался в стороне: принял участие в восстании Черниговского полка, которым руководил его младший брат, Сергей Иванович Муравьев-Апостол. Известно, что Черниговский полк был разгромлен правительственными войсками у села Ковалевки. Раненый Сергей Муравьев-Апостол был взят на поле боя с оружием в руках. Впоследствии царь приказал повесить его вместе с четырьмя другими «главными, – как он говорил, – преступниками» – Рылеевым, Пестелем, Бестужевым-Рюминым и Каховским.
А старший брат, Матвей, был приговорен к каторге, и потом – к поселению в отдаленных местах Сибири. Ссылку он отбывал в Ялуторовске, куда в разное время попали и другие декабристы. Ссыльные не падали духом. В Ялуторовске они открыли две школы – для мальчиков и, что тогда было почти дерзостью, для девочек. Лечили крестьян и горожан, оказывали им всевозможную помощь.
О многих из них упоминает Матвей Иванович Муравьев-Апостол в том письме, что найдено в бутылке:
«Государственные преступники, живущие в Ялуторовске в 1849.
Кроме Муравьева Апостол.
Иван Дмитриевич Якушкин.
Иван Иванович Пущин.
Николай Васильевич Басаргин.
Василий Карлович Тизенгаузен.
Евгений Петрович Князь Оболенский.
Андрей Васильевич Ентальцев наш товарищ скончался здесь в Ялуторовске в субботу, 11 часов до полудни 27 января 1845 году – похоронен на Ялуторовском кладбище 30 января Протоиереем Стефаном Яковлевичем Знаменским.
В Ялуторовске скончался еще другой наш товарищ Василий Иванович Вроницкий в 1830.
Якушкин и я мы приехали в Ялуторовск в 1836 году.
Пущин и Оболенский в 1844 году.
Басаргин в 1847.
Тизенгаузен в 1829 году.
Ентальцев в 1830 году».
Ссыльный декабрист сообщает точные сведения о том, кто и с какого времени отбывает ссылку в Ялуторовске. Он выделяет данные о каждом из ссыльных в отдельную строку, как бы подчеркивая этим важность, которую придает своему сообщению. Видно, что он ясно представлял себе, как понадобятся эти сведения будущим историкам, которые непременно заинтересуются судьбой «государственных преступников» – декабристов и, по всей вероятности, найдут в официальных бумагах лишь данные для их очернения. И помогал историкам, чем мог.
И еще одно. Ентальцев умер, как мы видим, за четыре года до того, как написано письмо, но Муравьев-Апостол рассказывает о его смерти и похоронах так, как будто это случилось совсем недавно. Конечно, смерть товарища, замученного царскими палачами, вдали от родины и родных, должна была тяжело подействовать и на всех остальных ялуторовских ссыльных. Наверное, каждый думал при этом и о себе – не ожидает ли и его в скором времени та же участь. Но и в этих условиях революционеры прежде всего думали о народе, о его будущем. И эта вера в светлое будущее поддерживала их.
Неудача восстания и устроенное царем судилище не сломили Матвея Ивановича Муравьева-Апостола. Он твердо верил в другой, высший суд – в суд потомков, в суд истории.
Пожилой уже, больной человек, переживший опасности войны, пафос революционного восстания, ужасы царской каторги и ссылки, написал письмо в грядущее. Он говорил кратко о судьбе своих товарищей и посылал привет будущим исследователям.
«Для пользы и удовольствия будущих Археологов, которым желаю всего наилучшего в Мире, кладу эту записку.
18 Августа 1849 года».
Таковы последние строки письма Муравьева-Апостола.
У него не было сомнений в светлом будущем родины. Он видел мысленным взором то время, когда «оковы тяжкие падут», и понимал, что в этой свободной будущей жизни немалую роль сыграют ученые, в том числе и историки.
Привет от декабриста дошел до нас более чем через сто лет.
В доме, где жил ссыльный М. И. Муравьев-Апостол и где он спрятал свое письмо, теперь Краеведческий музей памяти декабристов.
Ни одна из историй, которые вы прочли в этой книге, не выдумана.
Но разве не бывает правда подчас удивительнее вымысла?
