Страница:
Оба автомобиля, которые Антон Л. захватил из гостиницы – два больших автомобиля дематериализовавшихся господ Пфайвестля и Куйперса, – он поначалу поставил возле замочка на видимой еще в то время, посыпанной щебнем дорожке. После той поездки поздней осенью Антон Л. ни один из них больше не использовал. Лишь только, когда выпал снег, он поставил обе машины немного подальше, под навес неподалеку от черного хода банка. Тем не менее снег их все равно засыпал, что, правда, Антону Л. ничуть не мешало. Затем машины оказались в воде, а позже заросли сорняками. И это тоже Антону Л. не мешало. Он надеялся, что если ему понадобится использовать один из автомобилей, он сможет его высвободить. Правда, ржавчину в некоторых местах не заметить было уже невозможно. Поначалу Антон Л. предполагал более не совершать автомобильных вылазок, кроме всего прочего и из-за
«раскатов грома».
Первый «раскат грома» был услышан им во время наводнения. Сначала Антон Л. подумал, что это гроза; но это была не гроза. «Гром» возникал либо единичный, либо в целой цепи «громовых раскатов», где они сменяли друг друга, нарастая, а потом снова затухая. Вскоре Антон Л. понял, что же это такое. После наводнения не проходило ни одного часа, ни днем, ни ночью, чтобы не было слышно этих «громовых раскатов».
Когда из берегов вышло маленькое озеро, оно затопило как часть парка вокруг замочка, так и располагавшуюся в низине дорожку между парком и Резиденцией, по которой Антон Л. должен был ходить, когда направлялся в курфюрстскую кухню к своему вертелу. На территории вокруг озерца разлившаяся вода доходила лишь по щиколотку, но на оказавшейся в низине дорожке вода стояла довольно высокая. Антон Л. побродил немного по залитому водой парку, коль так уж было нужно (у него были сапоги), но от кухни он был отрезан. Ему пришлось оставить там на вертеле семнадцатую косулю и преждевременно подстрелить восемнадцатую. Эта косуля стала первой, которую он съел сырой. (Сложенный перед замочком запас дров тоже отсырел; но стало уже так тепло, что Антону Л. топить было не нужно.)
Во время наводнения Антон Л. удалялся с маленьких окрестностей замочка так же редко, как и тогда, когда лежал глубокий снег. Но тем не менее он мог наблюдать за другим наводнением, разливом реки, за опасным наводнением. С платформы на крыше своего замочка можно было еще, пока деревья не облачились полностью в свою листву, через невысокую пристройку к Резиденции и через незастроенное место смотреть на две, расположенные ниже улицы – Мессециусштрассе и Фабиусштрассе. Обе эти улицы были боковыми ответвлениями Анакреонштрассе; более отдаленная Фабиусштрассе проходила, кроме всего прочего, мимо бокового фасада гостиницы «Три короля». (В свой охотничий полевой бинокль Антон Л. мог разглядеть даже один из углов гостиницы.) На обеих этих улицах целыми днями пенилась вода вышедшей из берегов реки: коричневое, иногда зеленое, бурлящее, кипящее и рвущееся месиво, которое время от времени высоко взлетало, наталкиваясь на выступающие части фасадов домов. Вода несла по улицам вырванные с корнями деревья, трупы животных и доски. С грохотом перекатывались камни. После этого в первый раз «загремело».
Как нежная вода озерца оставляла за собой ил, так и вышедшая из берегов вода реки – и это тоже мог различить со своей высокой позиции Антон Л – оставляла за собой всякую дрянь, камни, мусор, песок и гравий. Кроме того, Антон Л. заметил, что один из домов на Мессециусштрассе накренился. Пока он жил в гостинице, он часто проходил мимо этого дома. Он вспомнил о том, о чем когда-то читал: в этом доме размещались государственная геологическая коллекция и перуанское консульство. Целых четыре дня дом простоял в таком кривом положении. На пятый день, как раз в тот момент, когда Антон Л. смотрел на него в бинокль, с крыши вниз начали падать кирпичи, сначала несколько штук, потом все быстрее и все больше. Еще до того, как последние кирпичи упали на землю, фасад треснул и обрушился; все произошло за какие-то секунды. Комнаты этого дома, которые сейчас не падали вперед, а скорее поворачивались, открылись на какой-то миг взору. Столы, стулья, шкафы выпадали на мгновение раньше, чем обрушивался дом, превращаясь в массу кирпичного боя и разлетаясь в «громовом раскате» по улицам. Затем облако пыли на целый час скрыло место обвалившегося дома.
Это был «раскат грома». Особенно часто этот «гром» доносился со стороны успокоившейся уже реки. Вероятно, подвалы в той стороне были затоплены больше всего, и вода подмыла фундаменты. Может быть, и мороз разорвал некоторые стены. «Гром» время от времени переходил буквально в «треск», похожий на звук падающих друг за другом костяшек домино. Кстати, уже летом куча кирпичей бывшей государственной геологической коллекции и персидского консульства поросла буйным сорняком.
Антон Л. не покидал маленький район не только солидно построенной, но и расположенной выше остальных строений Резиденции, чтобы не быть случайно погребенным под развалинами какого-нибудь дома. И в автомобиле он тоже не мог быть уверен в своей безопасности; затопленные улицы не были более проходимыми для машины…
И постамент курфюрста тоже зарос сорняками, а напротив, на крыше придворного театра, на которую указывала курфюрстская шпага, вырос куст, которого в прошлом году там не было. Сам курфюрст не изменился.
– Вы отыскали книгу? – спросил он.
– Книгу? – удивился Антон Л. – Ах, книгу. Книгу я отыскал, более того: я ее не отыскал.
– Это тоже ответ.
– Я имею в виду, – продолжал Антон Л., – что нашел книгу о книге, книгу в которой упоминается такнигу, но саму книгу я так и не нашел. Разве я вам об этом еще не рассказывал?
– Нет, – сказал курфюрст.
Антон Л. рассказал всю историю в общих чертах, поскольку предполагал, что она может заинтересовать курфюрста.
– Да, да, – протянул курфюрст, – это был мой дядя, Филипп Моритц.
– Вы его знали?
– Каким образом! – изумился курфюрст. – Когда я появился на свет он уже восемь лет как был мертв, кстати, почти день в день. Но об этом поговаривали тайком.
– Вам было известно о книге?
– Нет. О книге не шептали ничего.
– Я, честно говоря, надеялся, что вы, может быть, знали, где эта книга находится. Она, вероятно, должна была храниться в библиотеке курфюрста, если, конечно, ее не продали. Так значит, вы о ней не знаете?
– Вы глупец! – возмутился курфюрст, – Я же не могу знать больше, чем знаете вы. Вам же это говорил даже заяц.
– Значит, я должен искать.
– А разве вы еще не искали?
– Искал, – сказал Антон Л. – Сразу же после того, как я перевел этот латинский фолиант, я искал в… в Вашей курфюрстской милости библиотеке, там…
Антон Л. пальцем показал через плечо.
– Не нашли?
– Нет. Но… я не знаю; даже если бы я ее нашел… книга же совершенно пустая, она состоит лишь из чистых страниц.
– В то время, –сказал курфюрст, – в ней были пустые страницы. Никто не утверждал, что со временем в ней не проявился текст.
– Вы так считаете?
– А разве вы этого не заметили, Адам Л.?…
– Почему вы говорите АдамЛ.?
– Пардон, Антон Л., разве вы этого не заметили? Это так, словно красная большая стрела, приклеенная на глобусе, и если внимательно на нее посмотреть, острие стрелы указывает прямо на вас. Неужели похоже на совпадение то, что после загадочного исчезновения всего человечества остались исключительно вы один? Что группа рассудительных людей, из которой вы не знали совершенно никого…
– Неправда, Кандтлера – поверхностно.
– Вы видите, что за связь! Вы знали одного из них, не предполагая, какая огромная тайна за ним скрыта. Группа рассудительных людей в последние свои годы стремилась проложить вам путь к книге; даже в последний день перед катастрофой последний, или лучше сказать, предпоследний член цепочки, ведущей к книге, был представлен; другими словами: катастрофа ждала, пока посылка с фотокопиями, без которой вы не могли бы продвинуться дальше, не прибыла бы в Национальную библиотеку. Неужели вы думаете, что это случайность? И то, что именно в свечной лавке было оставлено сообщение, которое направило вас на след? Не в какой-нибудь школе вождения или в парикмахерской, или в цветочном магазине, в магазине детской одежды или в страховой компании… Существовала тысяча возможностей просунуть записку в магазин, куда бы вы никогда в жизни не зашли. Но свечи вам были нужны!
– Так значит Солиман Людвиг, я имею в виду то, что Солиман Людвиг работал в свечной лавке, уже было частью плана…
– Частью красной стрелы, которая была наклеена на глобусе и указывала на вас. Более того, разве вы сами не говорили, что владелец свечной лавки доводился кузеном Солиману Людвигу?
– Да.
– Речь идет о придворной свечной лавке. Возможно, о фирме, которая уже на протяжении нескольких поколений находилась в семейном владении. Это значит, что план охватывает и более древние времена, времена прадеда-свечника Солимана Людвига и кто знает, кого еще. Книга здесь, иначе ничего бы не было. Книга должна быть здесь, иначе все было бы не более чем глупостью.
– Но где же она?
– В непосредственной близости от вас. Я точно не знаю, но предполагаю, да иначе и быть не может, книга должна быть в непосредственной близости от вас. Совсем рядом с вами. Вы ничего не чувствуете? Нет?
– Если бы меня не одолевала все время эта зубная боль, – сказал Антон Л.
– Вы едите слишком много шоколадных конфет.
– Слишком много конфет, – повторил Антон Л. – Я еще никогда не слышал, что можно съесть слишком много шоколадных конфет.
– И слишком мало витаминов, или как там называется еще эта штука. Вам нужно ежедневно к вашим косулям делать еще и салат из крапивы, иначе у вас выпадут все зубы.
– После войны, – сказал Антон Л., – я помню, моя мать иногда готовила салат из крапивы. Но вот только как его готовить, чтобы он не обжигал рот?
– Мой дорогой друг, – произнес курфюрст. – Я курфюрст, но никак не повар. Но я предполагаю, что жжение отступает, если крапиву поместить в уксус или растительное масло. Или если вы тушите ее, как шпинат. Или вы можете взять также щавель, он не жалится.
– А зубная боль – она лечится щавелем?
– Еще раз, мой дорогой друг, я курфюрст, или во всяком случае, памятник курфюрсту, но не зубной врач…
При слове «зубной врач» к Антону Л. моментально вернулась зубная боль, которая в последние недели почти ежедневно его мучила. Боль снова пронизала тело Антона Л. от верхушки черепа до колен (до самых пальцев ног: нет, это было бы слишком, до колен), словно пушистая молния. Молния пробила трещину в реальности, через которую памятник курфюрсту мог говорить. Курфюрст замолчал.
Но при слове «зубной врач» возникла, кроме того, ассоциация. За памятником курфюрсту находился, хотя уже и засыпанный, вход в придворную свечную лавку. В нескольких метрах от него – вход в дом (не засыпанный, как заметил Антон Л.), через который он довольно часто ходил. Но сколь бы часто Антон Л. теперь, то есть за время последнего неполного года, пока он был один, ни проходил мимо этого дома и мимо этого входа, он никогда не думал о том, какое значение имел для него этот вход. Все случилось несколько лет назад. Может. Антон Л. подсознательно старался ни о чем не вспоминать? Основания для этого у него были.
Антон Л. обошел замолчавший памятник и приблизился ко входу. Табличка все еще была там, гравированная медная табличка:
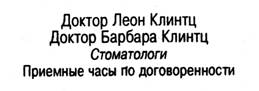
Кабинет находился на третьем этаже, квартира Клинтцев – на четвертом. Они пробили в потолке дырку и построили винтовую лестницу, так что минуя лестничную клетку можно было попасть из кабинета в квартиру.
Прикладом ружья Антон Л. выбил дверь и поднялся на третий этаж.
Наверное, раза три был Антон Л. на приеме у докторов-супругов Клинтцев. Если он не ошибался, один раз его лечил господин Клинтц, а два раза – госпожа Клинтц. Но намного чаще Антон Л. бывал наверху, в квартире Клинтцев. Он познакомился с супругами Клинтцами в так называемом кружке Бундтрока.
XX
Первый «раскат грома» был услышан им во время наводнения. Сначала Антон Л. подумал, что это гроза; но это была не гроза. «Гром» возникал либо единичный, либо в целой цепи «громовых раскатов», где они сменяли друг друга, нарастая, а потом снова затухая. Вскоре Антон Л. понял, что же это такое. После наводнения не проходило ни одного часа, ни днем, ни ночью, чтобы не было слышно этих «громовых раскатов».
Когда из берегов вышло маленькое озеро, оно затопило как часть парка вокруг замочка, так и располагавшуюся в низине дорожку между парком и Резиденцией, по которой Антон Л. должен был ходить, когда направлялся в курфюрстскую кухню к своему вертелу. На территории вокруг озерца разлившаяся вода доходила лишь по щиколотку, но на оказавшейся в низине дорожке вода стояла довольно высокая. Антон Л. побродил немного по залитому водой парку, коль так уж было нужно (у него были сапоги), но от кухни он был отрезан. Ему пришлось оставить там на вертеле семнадцатую косулю и преждевременно подстрелить восемнадцатую. Эта косуля стала первой, которую он съел сырой. (Сложенный перед замочком запас дров тоже отсырел; но стало уже так тепло, что Антону Л. топить было не нужно.)
Во время наводнения Антон Л. удалялся с маленьких окрестностей замочка так же редко, как и тогда, когда лежал глубокий снег. Но тем не менее он мог наблюдать за другим наводнением, разливом реки, за опасным наводнением. С платформы на крыше своего замочка можно было еще, пока деревья не облачились полностью в свою листву, через невысокую пристройку к Резиденции и через незастроенное место смотреть на две, расположенные ниже улицы – Мессециусштрассе и Фабиусштрассе. Обе эти улицы были боковыми ответвлениями Анакреонштрассе; более отдаленная Фабиусштрассе проходила, кроме всего прочего, мимо бокового фасада гостиницы «Три короля». (В свой охотничий полевой бинокль Антон Л. мог разглядеть даже один из углов гостиницы.) На обеих этих улицах целыми днями пенилась вода вышедшей из берегов реки: коричневое, иногда зеленое, бурлящее, кипящее и рвущееся месиво, которое время от времени высоко взлетало, наталкиваясь на выступающие части фасадов домов. Вода несла по улицам вырванные с корнями деревья, трупы животных и доски. С грохотом перекатывались камни. После этого в первый раз «загремело».
Как нежная вода озерца оставляла за собой ил, так и вышедшая из берегов вода реки – и это тоже мог различить со своей высокой позиции Антон Л – оставляла за собой всякую дрянь, камни, мусор, песок и гравий. Кроме того, Антон Л. заметил, что один из домов на Мессециусштрассе накренился. Пока он жил в гостинице, он часто проходил мимо этого дома. Он вспомнил о том, о чем когда-то читал: в этом доме размещались государственная геологическая коллекция и перуанское консульство. Целых четыре дня дом простоял в таком кривом положении. На пятый день, как раз в тот момент, когда Антон Л. смотрел на него в бинокль, с крыши вниз начали падать кирпичи, сначала несколько штук, потом все быстрее и все больше. Еще до того, как последние кирпичи упали на землю, фасад треснул и обрушился; все произошло за какие-то секунды. Комнаты этого дома, которые сейчас не падали вперед, а скорее поворачивались, открылись на какой-то миг взору. Столы, стулья, шкафы выпадали на мгновение раньше, чем обрушивался дом, превращаясь в массу кирпичного боя и разлетаясь в «громовом раскате» по улицам. Затем облако пыли на целый час скрыло место обвалившегося дома.
Это был «раскат грома». Особенно часто этот «гром» доносился со стороны успокоившейся уже реки. Вероятно, подвалы в той стороне были затоплены больше всего, и вода подмыла фундаменты. Может быть, и мороз разорвал некоторые стены. «Гром» время от времени переходил буквально в «треск», похожий на звук падающих друг за другом костяшек домино. Кстати, уже летом куча кирпичей бывшей государственной геологической коллекции и персидского консульства поросла буйным сорняком.
Антон Л. не покидал маленький район не только солидно построенной, но и расположенной выше остальных строений Резиденции, чтобы не быть случайно погребенным под развалинами какого-нибудь дома. И в автомобиле он тоже не мог быть уверен в своей безопасности; затопленные улицы не были более проходимыми для машины…
И постамент курфюрста тоже зарос сорняками, а напротив, на крыше придворного театра, на которую указывала курфюрстская шпага, вырос куст, которого в прошлом году там не было. Сам курфюрст не изменился.
– Вы отыскали книгу? – спросил он.
– Книгу? – удивился Антон Л. – Ах, книгу. Книгу я отыскал, более того: я ее не отыскал.
– Это тоже ответ.
– Я имею в виду, – продолжал Антон Л., – что нашел книгу о книге, книгу в которой упоминается такнигу, но саму книгу я так и не нашел. Разве я вам об этом еще не рассказывал?
– Нет, – сказал курфюрст.
Антон Л. рассказал всю историю в общих чертах, поскольку предполагал, что она может заинтересовать курфюрста.
– Да, да, – протянул курфюрст, – это был мой дядя, Филипп Моритц.
– Вы его знали?
– Каким образом! – изумился курфюрст. – Когда я появился на свет он уже восемь лет как был мертв, кстати, почти день в день. Но об этом поговаривали тайком.
– Вам было известно о книге?
– Нет. О книге не шептали ничего.
– Я, честно говоря, надеялся, что вы, может быть, знали, где эта книга находится. Она, вероятно, должна была храниться в библиотеке курфюрста, если, конечно, ее не продали. Так значит, вы о ней не знаете?
– Вы глупец! – возмутился курфюрст, – Я же не могу знать больше, чем знаете вы. Вам же это говорил даже заяц.
– Значит, я должен искать.
– А разве вы еще не искали?
– Искал, – сказал Антон Л. – Сразу же после того, как я перевел этот латинский фолиант, я искал в… в Вашей курфюрстской милости библиотеке, там…
Антон Л. пальцем показал через плечо.
– Не нашли?
– Нет. Но… я не знаю; даже если бы я ее нашел… книга же совершенно пустая, она состоит лишь из чистых страниц.
– В то время, –сказал курфюрст, – в ней были пустые страницы. Никто не утверждал, что со временем в ней не проявился текст.
– Вы так считаете?
– А разве вы этого не заметили, Адам Л.?…
– Почему вы говорите АдамЛ.?
– Пардон, Антон Л., разве вы этого не заметили? Это так, словно красная большая стрела, приклеенная на глобусе, и если внимательно на нее посмотреть, острие стрелы указывает прямо на вас. Неужели похоже на совпадение то, что после загадочного исчезновения всего человечества остались исключительно вы один? Что группа рассудительных людей, из которой вы не знали совершенно никого…
– Неправда, Кандтлера – поверхностно.
– Вы видите, что за связь! Вы знали одного из них, не предполагая, какая огромная тайна за ним скрыта. Группа рассудительных людей в последние свои годы стремилась проложить вам путь к книге; даже в последний день перед катастрофой последний, или лучше сказать, предпоследний член цепочки, ведущей к книге, был представлен; другими словами: катастрофа ждала, пока посылка с фотокопиями, без которой вы не могли бы продвинуться дальше, не прибыла бы в Национальную библиотеку. Неужели вы думаете, что это случайность? И то, что именно в свечной лавке было оставлено сообщение, которое направило вас на след? Не в какой-нибудь школе вождения или в парикмахерской, или в цветочном магазине, в магазине детской одежды или в страховой компании… Существовала тысяча возможностей просунуть записку в магазин, куда бы вы никогда в жизни не зашли. Но свечи вам были нужны!
– Так значит Солиман Людвиг, я имею в виду то, что Солиман Людвиг работал в свечной лавке, уже было частью плана…
– Частью красной стрелы, которая была наклеена на глобусе и указывала на вас. Более того, разве вы сами не говорили, что владелец свечной лавки доводился кузеном Солиману Людвигу?
– Да.
– Речь идет о придворной свечной лавке. Возможно, о фирме, которая уже на протяжении нескольких поколений находилась в семейном владении. Это значит, что план охватывает и более древние времена, времена прадеда-свечника Солимана Людвига и кто знает, кого еще. Книга здесь, иначе ничего бы не было. Книга должна быть здесь, иначе все было бы не более чем глупостью.
– Но где же она?
– В непосредственной близости от вас. Я точно не знаю, но предполагаю, да иначе и быть не может, книга должна быть в непосредственной близости от вас. Совсем рядом с вами. Вы ничего не чувствуете? Нет?
– Если бы меня не одолевала все время эта зубная боль, – сказал Антон Л.
– Вы едите слишком много шоколадных конфет.
– Слишком много конфет, – повторил Антон Л. – Я еще никогда не слышал, что можно съесть слишком много шоколадных конфет.
– И слишком мало витаминов, или как там называется еще эта штука. Вам нужно ежедневно к вашим косулям делать еще и салат из крапивы, иначе у вас выпадут все зубы.
– После войны, – сказал Антон Л., – я помню, моя мать иногда готовила салат из крапивы. Но вот только как его готовить, чтобы он не обжигал рот?
– Мой дорогой друг, – произнес курфюрст. – Я курфюрст, но никак не повар. Но я предполагаю, что жжение отступает, если крапиву поместить в уксус или растительное масло. Или если вы тушите ее, как шпинат. Или вы можете взять также щавель, он не жалится.
– А зубная боль – она лечится щавелем?
– Еще раз, мой дорогой друг, я курфюрст, или во всяком случае, памятник курфюрсту, но не зубной врач…
При слове «зубной врач» к Антону Л. моментально вернулась зубная боль, которая в последние недели почти ежедневно его мучила. Боль снова пронизала тело Антона Л. от верхушки черепа до колен (до самых пальцев ног: нет, это было бы слишком, до колен), словно пушистая молния. Молния пробила трещину в реальности, через которую памятник курфюрсту мог говорить. Курфюрст замолчал.
Но при слове «зубной врач» возникла, кроме того, ассоциация. За памятником курфюрсту находился, хотя уже и засыпанный, вход в придворную свечную лавку. В нескольких метрах от него – вход в дом (не засыпанный, как заметил Антон Л.), через который он довольно часто ходил. Но сколь бы часто Антон Л. теперь, то есть за время последнего неполного года, пока он был один, ни проходил мимо этого дома и мимо этого входа, он никогда не думал о том, какое значение имел для него этот вход. Все случилось несколько лет назад. Может. Антон Л. подсознательно старался ни о чем не вспоминать? Основания для этого у него были.
Антон Л. обошел замолчавший памятник и приблизился ко входу. Табличка все еще была там, гравированная медная табличка:
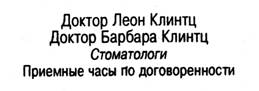
Кабинет находился на третьем этаже, квартира Клинтцев – на четвертом. Они пробили в потолке дырку и построили винтовую лестницу, так что минуя лестничную клетку можно было попасть из кабинета в квартиру.
Прикладом ружья Антон Л. выбил дверь и поднялся на третий этаж.
Наверное, раза три был Антон Л. на приеме у докторов-супругов Клинтцев. Если он не ошибался, один раз его лечил господин Клинтц, а два раза – госпожа Клинтц. Но намного чаще Антон Л. бывал наверху, в квартире Клинтцев. Он познакомился с супругами Клинтцами в так называемом кружке Бундтрока.
XX
Кружок Бундтрока
Антона Л. привело в кружок Бундтрока стечение обстоятельств (можно было бы сказать «оказался в кружке», рассматривая ситуацию с другой стороны). Это было году в 1970, в то время, когда Антон Л. сменил туристическое бюро Кюльманна на туристическое бюро Сантиханзера, и вот однажды, идя по городу, он встретил Йенса Лиферинга. Йенс Лиферинг ходил вместе с Антоном Л. в школу. Вместе они сдавали и экзамены на аттестат зрелости. Антон Л. не был особенно хорошим учеником. Йенс Лиферинг был вообще плохим. С чрезвычайным трудом и огромными усилиями многочисленных репетиторов он брал барьер аттестата зрелости; более того, он преодолел барьер аттестата зрелости. И сразу же после вручения аттестатов – вероятно, это соответствует какой-то внутренней закономерности – он стал одним из тех, кто говорит «с вами я не разговариваю». Вам предстоит еще переэкзаменовка. Йенс Лиферинг был очень высоким и за исключением нескольких деталей таким, кого в начале 50-х годов называли красивым мужчиной. После экзаменов на аттестат зрелости Антон Л. видел Йенса Лиферинга максимум раза два. Через год после выпускных экзаменов проводился вечер: одноклассники праздновали годовщину. Тогда пришли еще все. Йенс Лиферинг выделялся среди других, высокий, красивый и молчаливый. По нему было видно, что он молчал лишь потому, что считал недостойным разговаривать в круге, который он уже, по его мнению, перерос.
Бывшему «спикеру» класса – одновременно и классному клоуну, который и устроил эту встречу, – пришла оригинальная мысль: вызывать одноклассников по старому школьному списку и так же рассаживать их за столом. Так как Антон Л. по алфавиту следовал непосредственно за Йенсом Лиферингом, то ему пришлось рядом с ним и сидеть.
Лиферинг сказал, что изучает архитектуру.
«А правда ли, что этот факультет переполнен и виды на работу по окончании не очень надежны?» – спросил Антон Л.
«Для себя лично, – скупо произнес Лиферинг, – я вижу блестящие виды». Вопрос заключается лишь в том, чтобы доказать друзьям, что их загородные дома – сущее дерьмо. Тогда они их снесут и поручат ему построить новые.
Это произвело на Антона Л. очень большое впечатление, у него не было друзей, у которых были бы загородные дома.
На вторую годовщину выпуска Йенс Лиферинг уже не пришел. Да и Антон Л. очень скоро тоже стал этих встреч избегать.
– Эй, Л.! – сказал Лиферинг.
– Лиферинг! – ответил Антон Л.
В общем-то больше им и теперь – или именно теперь – через двадцать лет сказать было нечего. Но ведь это так: если на улице остановишься, встретив случайного знакомого (мимо которого лучше все-таки пройти, вежливо с ним поздоровавшись), то чувствуешь себя уже обязанным поговорить о том, о чем обычно в подобных случаях говорят. Это действует, конечно же, в том случае, если и собеседник придерживается того же мнения. «Пардон, вам так же хорошо, как и мне, известно, что нам нечего друг другу сказать. Посему я желаю вам доброго дня». А после этого: «Очень рад. И я думаю точно так же». Такой разговор могут себе позволить едва ли два человека из ста тысяч. А эти двое – наверное, у них бы нашлось, о чем друг с другом поговорить.
Конечно же, человеку очень печально себе признаться в том. что ему совершенно нечего сказать тому, кто стоит перед ним, и он старается отодвинуть этот позорный момент как можно дальше. Если в подобной ситуации на ум не приходит ничего, что можно было сказать, то говорят: «Может, сядем за столик в том кафе напротив?» Этим самым уже что-то сказано, и момент банкротства отодвигается на две минуты.
Кафе, в которое подались Антон Л. и Йенс Лиферинг, находилось в том же квартале, где и совершенно не известная Антону Л. в то время придворная свечная лавка (правда, на совсем другой улице, чтобы дойти туда, нужно было два раза повернуть за угол). И здесь вдруг и совершенно неожиданно выяснилось, что Антону Л. и Йенсу Лиферингу все-таки есть, что друг другу сказать. С этого и началось стечение обстоятельств.
Йенс Лиферинг рассказал, что он закончил учебу на архитектурном факультете и сдал экзамены. Антон Л. не мог удержаться, чтобы не съязвить и не задать вопрос, согласились ли его друзья снести свои загородные дома.
Иене Лиферинг отреагировал несколько уязвленно. Он занялся, сказал он, совершенно другими вещами, большими, более грандиозными вещами: планированием городов, например. В ходе разговора выяснилось, что Йенс Лиферинг принадлежал к тем архитекторам, которые за всю свою жизнь не построили ни одного дома. Йенс Лиферинг занимал какую-то должность строительного советника в каком-то министерстве, так сказать, архитектурного бумагомарателя.
Но через городское планирование Йенс Лиферинг пришел в социологию, а оттуда и в психологию, которой он, сказал он тогда, с некоторого времени интересуется больше, чем чем-либо еще. Антон Л. насторожился. В пятидесятые годы каждый, кто хотел хоть как-то отнести себя к людям одухотворенным и духовным, должен был интересоваться психологией. Антон Л. этой моде не последовал. Лишь несколько лет назад, когда мода на социологию уже давно подавила моду на психологию, Антон Л. начал – в высшей степени по-дилетантски: чтением научно-популярных брошюр, типа «Ты и душа» или «Неосознанное в твоей руке» – заниматься психологией. На этот путь его наставило растущее в нем в то время увлечение йогой.\
– Да, – сказал Йенс Лиферинг, он вращался тогда в чрезвычайно элитарном кругу. – Известно ли тебе имя профессора Бундтрока?
– Нет, – ответил Антон Л.
Окружение профессора Бундтрока, то есть кружок Бундтрока, было более чем изысканным. Встречи проводились каждый вторник. Приходить мог каждый.
Так Антон Л. попал в кружок Бундтрока.
Профессор Гюнтер Бундтрок был большим оригиналом. Всех сразу же предупреждали – Антон Л. же узнал об этом лишь много позже, лишь тогда, когда он снова отдалился от кружка Бундтрока, – что профессор Бундтрок не нес ответственности за духовную дряхлость людей, собиравшихся вокруг него, разве что принимал в свой кружок с распростертыми объятиями каждого, кто хотел прийти, потому что он – при случае даже делали на этом ударение – представлял теорию: негативное в человеке это ничто, пустое место; если отрицать это ничто, то остается лишь позитивное, хорошее, которое есть в каждом человеке. Если рассматривать именно так, говорил он, то каждый человек в основе своей хороший.
То, что Бундтрок принимал в свой круг каждого, имело еще и другую, внешнюю причину: Бундтрок возглавил кафедру истории медицины. Эта кафедра была после войны организована конкретно для него: ему хотели возместить то, что он подвергался преследованиям во времена нацистов. По причине того, что материал кафедры в программу экзаменов для студентов-медиков почему-то не включили, лекции Бундтрока никогда особенно посещаемыми не были. Еще хуже обстояло дело с посещением его семинарских занятий. Профессор Бундтрок чувствовал себя уязвленным, не воспринимаемым всерьез, в нем росло своеобразное упрямство, и в своих материалах, преподаваемых на лекциях, он все больше отдалялся от истории медицины. Так же, как в старой детской игре в буквы из слова ДОМ через слова РОМ, РОТ, КОТ, КИТ получалось слово ХИТ, так и профессор Бундтрок через несколько лет вместо истории медицины читал лекции типа «Зигмунд Фрейд и изобразительное искусство» или о драмах Ведекинда. Драмы Ведекинда нравились профессору Бундтроку более всего, потому что, еще будучи молодым человеком, он знал Ведекинда, даже сам был, еще до того, как начал изучать медицину, некоторое время актером, что давало ему теперь право на своих семинарах не скрываясь, постоянно вставляя свое «я», давать материалы типа «Хидалла или приходи расход, Дух земли»или вообще «Замок Веттерштайн».
Среди знатоков в университете эти курьезы обсуждались постоянно. Некоторые из этих знатоков, в основном искривленные или испорченные характеры со всех факультетов, а затем уже и не только из университета, сгруппировались вокруг Бундтрока и образовали этот кружок Бундтрока, который, как и все подобные образования, имел свое твердое ядро, а по краям был весьма изменчив.
– Так как же это так, что каждый может туда прийти? – спросил Антон Л. Йенса Лиферинга.
На это Йенс Лиферинг коротко выложил основную причину человеколюбия профессора Бундтрока: он рад каждому, кто его слушает.
Профессору Бундтроку, когда Антон Л. с ним познакомился, было уже почти семьдесят лет. Ростом под два метра, он был толстым, словно бочка, но лишь только в середине: он был бочкой с тоненькими ногами и узкими плечами, на которых сидела голова, которая несомненно производила значительное впечатление: казалось будто гример загримировал актера под Фальстафа и при этом соскользнул немного на внешность Герхарда Хауптманна.
От этого Антону Л. он импонировал ничуть не меньше.
Антон Л. как раз застал последнюю фазу собственно семинаров Бундтрока. Они проходили каждый вторник с пяти до семи часов. Профессор Бундтрок читал лекции. В семь часов Бундтрок и участники семинара перебирались в ресторан в центре города (неподалеку от того места на Медиаштрассе, где на Антона Л. напал медведь), где с половины восьмого был зарезервирован отдельный кабинет. Там Бундтрок продолжал болтать о том, о чем он читал лекцию.
Хотя стиль лекций профессора Бундтрока был невыносим даже для некоторых из его почитателей, беседы после них были все же интересными, все больше учеников Бундтрока предпочитали прогулять семинар и лишь после этого прийти в зал завсегдатаев в «Зеленом дубе». И Антон Л. тоже всего лишь три раза посетил собственно семинар Бундтрока. Бундтрок не сердился. Он отрицал отсутствие, а после того, как на семинар стали являться лишь господин В.А. Шлаппнер – буквально фанатичный почитатель Бундтрока – и его подруга Астрид (сестра Йенса Лиферинга), Бундтрок забросил эти семинары и сразу шел в «Зеленый дуб». В.А. Шлаппнера звали Вилли Адольф. Но он не без удовольствия слушал, когда поначалу предполагали, что его зовут Вольфганг Амадеус.
С этого времени вечера в отдельном зале «Зеленого дуба» делились на две части. Первая включала в себя болтовню профессора Бундтрока о Ведекинде, о новогрюндерах в двадцатые годы и так далее, во второй же части – которая, собственно, по-настоящему начиналась лишь тогда, когда сам Бундтрок в десять часов уходил домой – все обращалось к тому, что на самом деле держало вместе кружок Бундтрока: к психологии. Неписаным законом и даже табу для всех разговоров и вообще всех контактов в кружке было то, чтобы не воспринимать всерьез психологической ипохондрии собеседников; не в том смысле, чтобы не интересоваться мнимыми (а в отдельных случаях, вероятно, и действительными) душевными страданиями других – каждый интересовался только своими страданиями, – а потому что, слушая о нервных страданиях других, человек получал право вслед за этим говорить и о своих.
Сам Бундтрок – так уж нужно было говорить, выступая перед кружком, – странным образом не имел психологических проблем, довлеющих над его душой. Антон Л. много размышлял по поводу Бундтрока после того, как он вышел из его кружка, и особенно после того, как вскоре получил известие о его смерти. (В общем Бундтрок все еще продолжал импонировать Антону Л., он пошел на похороны, но, услышав там, как В.А. Шлаппнер каркающим голосом отдает распоряжения о прохождении траурной процессии, ушел и только на следующий день положил цветы на могилу.) Антон Л. попытался разобраться в характере Бундтрока. Он вывел формулу его существа: утонченный свин, но тут же поставил в уме напротив этой формулы вопросительный знак. Утонченный свин? Бундтрок был чувственным человеком. Фальстафом. Сальные анекдоты, хорошее пиво, вкусная еда и голые девочки радовали его так и оставшийся до последних дней детским нрав. Женщины интересовали его всегда. Он женился (естественно по очереди) на всех женщинах-докторшах и ассистентках, наконец, уже в возрасте за шестьдесят, на седьмой и последней, вместе с которой он вознес свой неослабевающий интерес к половым сношениям на небывалую высоту: вместе с ней издал историю искусства секса. Но душевных проблем у «утонченного свина» (пусть даже со знаком вопроса) не было. Он блаженно нежился в своей утонченной трясине. Но вероятно, размышлял Антон Л., ему как раз и нужен был такой простой нрав, чтобы стать центром группы духовных инвалидов.
Бывшему «спикеру» класса – одновременно и классному клоуну, который и устроил эту встречу, – пришла оригинальная мысль: вызывать одноклассников по старому школьному списку и так же рассаживать их за столом. Так как Антон Л. по алфавиту следовал непосредственно за Йенсом Лиферингом, то ему пришлось рядом с ним и сидеть.
Лиферинг сказал, что изучает архитектуру.
«А правда ли, что этот факультет переполнен и виды на работу по окончании не очень надежны?» – спросил Антон Л.
«Для себя лично, – скупо произнес Лиферинг, – я вижу блестящие виды». Вопрос заключается лишь в том, чтобы доказать друзьям, что их загородные дома – сущее дерьмо. Тогда они их снесут и поручат ему построить новые.
Это произвело на Антона Л. очень большое впечатление, у него не было друзей, у которых были бы загородные дома.
На вторую годовщину выпуска Йенс Лиферинг уже не пришел. Да и Антон Л. очень скоро тоже стал этих встреч избегать.
– Эй, Л.! – сказал Лиферинг.
– Лиферинг! – ответил Антон Л.
В общем-то больше им и теперь – или именно теперь – через двадцать лет сказать было нечего. Но ведь это так: если на улице остановишься, встретив случайного знакомого (мимо которого лучше все-таки пройти, вежливо с ним поздоровавшись), то чувствуешь себя уже обязанным поговорить о том, о чем обычно в подобных случаях говорят. Это действует, конечно же, в том случае, если и собеседник придерживается того же мнения. «Пардон, вам так же хорошо, как и мне, известно, что нам нечего друг другу сказать. Посему я желаю вам доброго дня». А после этого: «Очень рад. И я думаю точно так же». Такой разговор могут себе позволить едва ли два человека из ста тысяч. А эти двое – наверное, у них бы нашлось, о чем друг с другом поговорить.
Конечно же, человеку очень печально себе признаться в том. что ему совершенно нечего сказать тому, кто стоит перед ним, и он старается отодвинуть этот позорный момент как можно дальше. Если в подобной ситуации на ум не приходит ничего, что можно было сказать, то говорят: «Может, сядем за столик в том кафе напротив?» Этим самым уже что-то сказано, и момент банкротства отодвигается на две минуты.
Кафе, в которое подались Антон Л. и Йенс Лиферинг, находилось в том же квартале, где и совершенно не известная Антону Л. в то время придворная свечная лавка (правда, на совсем другой улице, чтобы дойти туда, нужно было два раза повернуть за угол). И здесь вдруг и совершенно неожиданно выяснилось, что Антону Л. и Йенсу Лиферингу все-таки есть, что друг другу сказать. С этого и началось стечение обстоятельств.
Йенс Лиферинг рассказал, что он закончил учебу на архитектурном факультете и сдал экзамены. Антон Л. не мог удержаться, чтобы не съязвить и не задать вопрос, согласились ли его друзья снести свои загородные дома.
Иене Лиферинг отреагировал несколько уязвленно. Он занялся, сказал он, совершенно другими вещами, большими, более грандиозными вещами: планированием городов, например. В ходе разговора выяснилось, что Йенс Лиферинг принадлежал к тем архитекторам, которые за всю свою жизнь не построили ни одного дома. Йенс Лиферинг занимал какую-то должность строительного советника в каком-то министерстве, так сказать, архитектурного бумагомарателя.
Но через городское планирование Йенс Лиферинг пришел в социологию, а оттуда и в психологию, которой он, сказал он тогда, с некоторого времени интересуется больше, чем чем-либо еще. Антон Л. насторожился. В пятидесятые годы каждый, кто хотел хоть как-то отнести себя к людям одухотворенным и духовным, должен был интересоваться психологией. Антон Л. этой моде не последовал. Лишь несколько лет назад, когда мода на социологию уже давно подавила моду на психологию, Антон Л. начал – в высшей степени по-дилетантски: чтением научно-популярных брошюр, типа «Ты и душа» или «Неосознанное в твоей руке» – заниматься психологией. На этот путь его наставило растущее в нем в то время увлечение йогой.\
– Да, – сказал Йенс Лиферинг, он вращался тогда в чрезвычайно элитарном кругу. – Известно ли тебе имя профессора Бундтрока?
– Нет, – ответил Антон Л.
Окружение профессора Бундтрока, то есть кружок Бундтрока, было более чем изысканным. Встречи проводились каждый вторник. Приходить мог каждый.
Так Антон Л. попал в кружок Бундтрока.
Профессор Гюнтер Бундтрок был большим оригиналом. Всех сразу же предупреждали – Антон Л. же узнал об этом лишь много позже, лишь тогда, когда он снова отдалился от кружка Бундтрока, – что профессор Бундтрок не нес ответственности за духовную дряхлость людей, собиравшихся вокруг него, разве что принимал в свой кружок с распростертыми объятиями каждого, кто хотел прийти, потому что он – при случае даже делали на этом ударение – представлял теорию: негативное в человеке это ничто, пустое место; если отрицать это ничто, то остается лишь позитивное, хорошее, которое есть в каждом человеке. Если рассматривать именно так, говорил он, то каждый человек в основе своей хороший.
То, что Бундтрок принимал в свой круг каждого, имело еще и другую, внешнюю причину: Бундтрок возглавил кафедру истории медицины. Эта кафедра была после войны организована конкретно для него: ему хотели возместить то, что он подвергался преследованиям во времена нацистов. По причине того, что материал кафедры в программу экзаменов для студентов-медиков почему-то не включили, лекции Бундтрока никогда особенно посещаемыми не были. Еще хуже обстояло дело с посещением его семинарских занятий. Профессор Бундтрок чувствовал себя уязвленным, не воспринимаемым всерьез, в нем росло своеобразное упрямство, и в своих материалах, преподаваемых на лекциях, он все больше отдалялся от истории медицины. Так же, как в старой детской игре в буквы из слова ДОМ через слова РОМ, РОТ, КОТ, КИТ получалось слово ХИТ, так и профессор Бундтрок через несколько лет вместо истории медицины читал лекции типа «Зигмунд Фрейд и изобразительное искусство» или о драмах Ведекинда. Драмы Ведекинда нравились профессору Бундтроку более всего, потому что, еще будучи молодым человеком, он знал Ведекинда, даже сам был, еще до того, как начал изучать медицину, некоторое время актером, что давало ему теперь право на своих семинарах не скрываясь, постоянно вставляя свое «я», давать материалы типа «Хидалла или приходи расход, Дух земли»или вообще «Замок Веттерштайн».
Среди знатоков в университете эти курьезы обсуждались постоянно. Некоторые из этих знатоков, в основном искривленные или испорченные характеры со всех факультетов, а затем уже и не только из университета, сгруппировались вокруг Бундтрока и образовали этот кружок Бундтрока, который, как и все подобные образования, имел свое твердое ядро, а по краям был весьма изменчив.
– Так как же это так, что каждый может туда прийти? – спросил Антон Л. Йенса Лиферинга.
На это Йенс Лиферинг коротко выложил основную причину человеколюбия профессора Бундтрока: он рад каждому, кто его слушает.
Профессору Бундтроку, когда Антон Л. с ним познакомился, было уже почти семьдесят лет. Ростом под два метра, он был толстым, словно бочка, но лишь только в середине: он был бочкой с тоненькими ногами и узкими плечами, на которых сидела голова, которая несомненно производила значительное впечатление: казалось будто гример загримировал актера под Фальстафа и при этом соскользнул немного на внешность Герхарда Хауптманна.
От этого Антону Л. он импонировал ничуть не меньше.
Антон Л. как раз застал последнюю фазу собственно семинаров Бундтрока. Они проходили каждый вторник с пяти до семи часов. Профессор Бундтрок читал лекции. В семь часов Бундтрок и участники семинара перебирались в ресторан в центре города (неподалеку от того места на Медиаштрассе, где на Антона Л. напал медведь), где с половины восьмого был зарезервирован отдельный кабинет. Там Бундтрок продолжал болтать о том, о чем он читал лекцию.
Хотя стиль лекций профессора Бундтрока был невыносим даже для некоторых из его почитателей, беседы после них были все же интересными, все больше учеников Бундтрока предпочитали прогулять семинар и лишь после этого прийти в зал завсегдатаев в «Зеленом дубе». И Антон Л. тоже всего лишь три раза посетил собственно семинар Бундтрока. Бундтрок не сердился. Он отрицал отсутствие, а после того, как на семинар стали являться лишь господин В.А. Шлаппнер – буквально фанатичный почитатель Бундтрока – и его подруга Астрид (сестра Йенса Лиферинга), Бундтрок забросил эти семинары и сразу шел в «Зеленый дуб». В.А. Шлаппнера звали Вилли Адольф. Но он не без удовольствия слушал, когда поначалу предполагали, что его зовут Вольфганг Амадеус.
С этого времени вечера в отдельном зале «Зеленого дуба» делились на две части. Первая включала в себя болтовню профессора Бундтрока о Ведекинде, о новогрюндерах в двадцатые годы и так далее, во второй же части – которая, собственно, по-настоящему начиналась лишь тогда, когда сам Бундтрок в десять часов уходил домой – все обращалось к тому, что на самом деле держало вместе кружок Бундтрока: к психологии. Неписаным законом и даже табу для всех разговоров и вообще всех контактов в кружке было то, чтобы не воспринимать всерьез психологической ипохондрии собеседников; не в том смысле, чтобы не интересоваться мнимыми (а в отдельных случаях, вероятно, и действительными) душевными страданиями других – каждый интересовался только своими страданиями, – а потому что, слушая о нервных страданиях других, человек получал право вслед за этим говорить и о своих.
Сам Бундтрок – так уж нужно было говорить, выступая перед кружком, – странным образом не имел психологических проблем, довлеющих над его душой. Антон Л. много размышлял по поводу Бундтрока после того, как он вышел из его кружка, и особенно после того, как вскоре получил известие о его смерти. (В общем Бундтрок все еще продолжал импонировать Антону Л., он пошел на похороны, но, услышав там, как В.А. Шлаппнер каркающим голосом отдает распоряжения о прохождении траурной процессии, ушел и только на следующий день положил цветы на могилу.) Антон Л. попытался разобраться в характере Бундтрока. Он вывел формулу его существа: утонченный свин, но тут же поставил в уме напротив этой формулы вопросительный знак. Утонченный свин? Бундтрок был чувственным человеком. Фальстафом. Сальные анекдоты, хорошее пиво, вкусная еда и голые девочки радовали его так и оставшийся до последних дней детским нрав. Женщины интересовали его всегда. Он женился (естественно по очереди) на всех женщинах-докторшах и ассистентках, наконец, уже в возрасте за шестьдесят, на седьмой и последней, вместе с которой он вознес свой неослабевающий интерес к половым сношениям на небывалую высоту: вместе с ней издал историю искусства секса. Но душевных проблем у «утонченного свина» (пусть даже со знаком вопроса) не было. Он блаженно нежился в своей утонченной трясине. Но вероятно, размышлял Антон Л., ему как раз и нужен был такой простой нрав, чтобы стать центром группы духовных инвалидов.
