Страница:
Мы возвращались в полной темноте. Куда-то спрятался наш «Канопус», и долго, больше часа, шла одинокая дорка по ночному океану. Только мы, звезды и океан — больше никого во вселенной. Я думал о том, какое невероятное ощущение одиночества испытал один из легендарных героев нашего века, Ален Бомбар. Все-таки нет большей муки для человека, чем лишиться общества себе подобных, остаться один на один с самим собой, с беспредельной природой. Беспримерен подвиг Робинзона, но он вынужден был пойти на него. А каким мужеством нужно обладать, чтобы сознательно бросить вызов самой коварной стихии — океану, чтобы на утлой резиновой лодчонке, которую могла легко опрокинуть или разрезать плавником акула, пересечь тысячи бушующих миль! И почему только поэты пишут о своих переживаниях, добытых в пределах Садового кольца, почему они не видят такой темы, как Ален Бомбар? Почему Икар, бросивший вызов тяготению, удостоился прекрасной легенды, а Бомбар, в одиночестве победивший океан, известен лишь благодаря своей книге и газетной хронике? Неужели я восторженный слепец и Бомбар не высшее проявление человеческого духа?
Я думал об этом, стоя в ревущей дорке рядом с Шестаковым. Он тоже был задумчив. А потом мы долго, до самого возвращения на «Канопус», говорили о Бомбаре, о жизни вообще и о горе капитана Калайды.
А еще потом Аркадий Николаевич вдруг начал читать Есенина, одно стихотворение за другим. Он читал удивительно хорошо — возможно, так мне казалось тогда, в ночной тьме, и трогательно, нежно звучали в разорванной тиши гениальные есенинские строки:
КАПИТАН АРКАДИЙ ШЕСТАКОВ
И РАЗОШЛИСЬ, КАК В МОРЕ КОРАБЛИ…
Я думал об этом, стоя в ревущей дорке рядом с Шестаковым. Он тоже был задумчив. А потом мы долго, до самого возвращения на «Канопус», говорили о Бомбаре, о жизни вообще и о горе капитана Калайды.
А еще потом Аркадий Николаевич вдруг начал читать Есенина, одно стихотворение за другим. Он читал удивительно хорошо — возможно, так мне казалось тогда, в ночной тьме, и трогательно, нежно звучали в разорванной тиши гениальные есенинские строки:
Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым…
КАПИТАН АРКАДИЙ ШЕСТАКОВ
Время от времени я спохватываюсь и перечитываю написанное. Больше всего на свете я боюсь ляпнуть какую-нибудь чушь. Об этой опасности меня в первый же день предупредил Аркадий Николаевич в присущей ему мягкой и деликатной форме. Он рассказал, что один журналист, возвратясь из морского путешествия, написал в общем-то сносную книжку, над которой теперь смеются все рыбаки. И все из-за одной фразы: «Каюта старпома находилась на солнечной стороне с видом на море». Эта чудовищно нелепая, невежественная фраза покрыла беднягу автора несмываемым позором. Отныне и во веки веков моряки уже не будут серьезно относиться к этому человеку.
«Каюта старпома находилась на солнечной стороне с видом на море», — эти слова я произношу, как заклинание, начиная очередную главу. Пиши то, что видел и знаешь, иначе прослывешь последним ослом — такую мораль выудил я из этой истории. Поэтому, не желая стать всеобщим посмешищем, я ни единым словом не обмолвлюсь о таких недоступных моему пониманию вещах, как работа машинного отделения, рефрижераторных механизмов и локаторов. Кроме того, капитан посоветовал употреблять поменьше морских терминов: с этими фок-мачтами и клотиками можно такого нагородить… Напоследок капитан дал мне еще несколько советов, которые я принял, и высказал одну просьбу, которая заключалась в том, что о нем, капитане Шестакове, писать не надо — так будет лучше. Разумеется, эту просьбу я пропустил мимо ушей: не потому, что я такой уж черствый и бессердечный, а просто потому, что мне нужна глава о капитане Шестакове. Без нее мне не свести концы с концами в рассуждениях об интеллигенции на море — теме, которая кажется мне существенно важной.
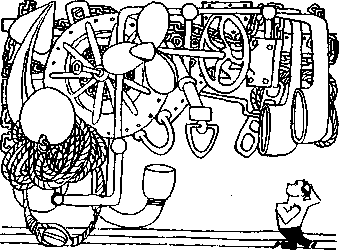 Внешне капитан очень мало похож на традиционного морского волка. Точнее, совсем не похож на эталон, который создал Джек Лондон в образе Волка Ларсена. Шестаков скорее напоминает аспиранта филолога, готовящего диссертацию, но не забывающего, что, кроме науки, в жизни есть такие интересные вещи, как разговор с друзьями, театры, шахматы и хорошее вино — в разумных дозах.
Внешне капитан очень мало похож на традиционного морского волка. Точнее, совсем не похож на эталон, который создал Джек Лондон в образе Волка Ларсена. Шестаков скорее напоминает аспиранта филолога, готовящего диссертацию, но не забывающего, что, кроме науки, в жизни есть такие интересные вещи, как разговор с друзьями, театры, шахматы и хорошее вино — в разумных дозах.
Есть люди, которые, попав в рабочую среду, стыдятся своей интеллигентности: нарочито грубо разговаривают, по каждому поводу вставляют соленые словечки, одеваются неряшливо— словом, выдают себя за чертовски простых ребят, «своих в доску».
К таким относятся плохо, с ироническим презрением. Современная рабочая среда таких не принимает — слишком сильно от них разит фальшью. Сегодняшний молодой рыбак обязательно где-то учится, впереди у него перспектива стать механиком, штурманом, технологом и тралмастером, и он, общаясь с более образованным человеком, хочет услышать от того умную мысль, а не скабрезный анекдот.
Так вот, Аркадий Николаевич прежде всего очень интеллигентен — в самом хорошем смысле слова. Я сейчас поясню, что имею в виду, делая это уточнение.
Даже сегодня, когда образованием никого и нигде не удивишь, к слову «интеллигент» иной раз относятся предвзято. В понимании некоторых людей — это Клим Самгин, брезгливо моющий руки после прикосновения к жизни и постоянно делающий «восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя».
Безусловно, такие интеллигенты есть и сегодня, и среди них очень интересные. Ведь и Клим Самгин часто высказывал превосходные мысли, несмотря на все старания Горького изобразить своего героя типичной посредственностью. И такие люди, наверное, останутся и завтра и послезавтра; именно из них получаются философы — не те, которые переделывают мир, а те, кто пытается объяснить его.
Однако Климов Самгиных всегда не любили и никогда любить не будут. Их существование слишком резко фиксирует разницу между умственным и физическим трудом, которая еще останется надолго. Они только мыслят, и часто без отдачи, — это справедливо раздражает, а иной раз приводит к совершенно неверным обобщениям.
Потому что сегодня 999 из тысячи интеллигентов — это труженики. Конструкторы, поглощающие литры кофе, чтобы успеть к сроку закончить проект, редакторы, правящие верстку, пока слова не начинают плясать перед глазами, врачи, прыгающие с парашютом, — пусть кто-нибудь скажет, что эти люди не труженики!
Да, среди них встречаются такие, которые не умеют держать в руках отвертку и вызывают мастера, когда нужно привернуть кран. Они стыдливо раздеваются на пляже — костюм все-таки маскирует полное отсутствие мускулов. Но не будьте к ним слишком строги: они за день перебросили тонны мыслей — работа, от которой пухнут не руки, а голова. Они не сумеют на воскреснике вырыть яму, но зато в своем рабочем кабинете придумают шагающий экскаватор, откроют новую элементарную частицу и поставят правильный диагноз.
И все-таки, отдавая дань уважения этим людям, мы больше восторгаемся Мак-Алланом Бернгарда Келлермана, широкоплечим атлетом, который придумал и построил грандиозный туннель. Так уж мы устроены, что любой, самый интеллигентный человек в наших глазах становится выше, если он умеет забивать гвозди, играть в футбол и тащить с рынка рюкзак картошки. И это, наверное, справедливо, потому что одна лишь гармония совершенна. Сайрус Смит для нас всегда останется симпатичнее Клима Самгина, а молодой ученый Валерий Попенченко — неизмеримо выше только боксера Сонни Листона.
Так представьте себе человека, который в школьном возрасте прочитал Бальзака и Достоевского, который умеет отлично спорить о живописи и поэзии, об относительной истине, смысле жизни, классической музыке и физиках и лириках; человека, который, прервав этот спор, идет на корму шкерить рыбу и делает это так здорово, что за ним не угнаться самым опытным матросам; человека, влюбленного в море и в свою профессию рыбака.
Я не собираюсь сооружать для капитана Шестакова пьедестал — мне удалось познакомиться в море и с другими очень интересными людьми, настоящими интеллигентами — с Александром Сорокиным, Володей Ивановым и Иваном Голубем, с капитанами Николаем Боголюбовым, Анатолием Семеновым, Александром Мельниченко и Клавдием Улановским, культурными и начитанными моряками, умеющими широко мыслить. Со стыдом признаюсь, что я не ожидал встретить в море людей, великолепно знающих Есенина и Пастернака, Бальзака и Мольера, Пикассо и Сурикова. Я не хочу сказать, что мои собеседники были искусствоведами, но они образованны достаточно широко, чтобы сбить спесь с сухопутных гордецов, не представляющих себе, что такое современный рыбак.
Так что Шестаков — это не исключение. Прошло то время, когда для того, чтобы командовать рыболовным суденышком, достаточно было уметь вычислять курс и знать рыбьи повадки. Нынешний траулер — это плавучий завод, а капитан его — капитан-директор. Очень многозначительная приставка. Чтобы стать директором, нужно знать многие важные вещи: прибыль, хозрасчет, дебет и кредит, организацию производства и финансы. Нужно владеть языком, чтобы лично объясниться с представителями торговых фирм в иностранных портах. Нужны культура и кругозор, чтобы уважал экипаж, который состоит из матросов со средним образованием.
Капитан Шестаков, в двадцать шесть лет сделавший блестящую для рыбака карьеру, очень веселый человек. Он обладает счастливым даром шутить тогда, когда это необходимо, когда юмор спасает. Мне нравилось, что Аркадий Николаевич в самые безрыбные дни не изменял своему сангвиническому темпераменту. Юмор расходился от него концентрическими кругами, поднимая жизненный тонус команды. Мне так и не удалось найти повод, чтобы процитировать ему рефрен популярной песни: «Капитан, капитан, улыбнитесь». Когда нервы натянуты до предела и вот-вот ждешь какого-то взрыва, капитан вдруг начинает рассказывать о своих проделках в мореходном училище, и нервы расслабляются, как вожжи: слышится хмыканье, потом смех — напряжения как не бывало! Я помню, как Аркадий Николаевич предотвратил ссору двух друзей, рассказав в самый кульминационный момент историю своей любви. Лежа на операционном столе, он влюбился в ассистентку хирурга, удалявшего ему аппендикс. Далее следовали очень веселые подробности, которые приводить я не имею права, поскольку ассистентка ныне заботливая мама двух маленьких Шестаковых. Я бы мог рассказами Аркадия Николаевича заполнить два печатных листа, но, на свою беду, убедил капитана не раздаривать сюжеты корреспондентам, а использовать их самому. Кое-что, впрочем, мне перепало.
Вместе с тем Шестаков очень серьезный человек. Раз и навсегда выбрав себе профессию, он постоянно совершенствуется в ней, не стыдясь учиться у каждого, кто в состоянии что-то ему дать, особенно у старых капитанов, которые недостаток образования пока еще компенсируют интуицией и огромным опытом. Он смел и принципиален — это не для красного словца. Очень характерен один эпизод, о котором мне рассказывали человек десять, — значит, он запомнился.
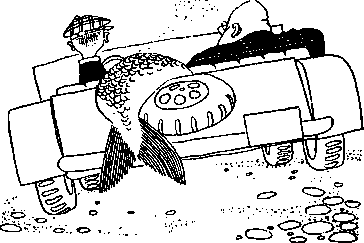 Шесть лет назад двадцатилетний Шестаков вышел в море матросом-практикантом, а по окончании рейса должен был стать штурманом. Через полгода траулер пришел в Севастополь, и Шестакову достаточно было протянуть руку, чтобы взять заветный диплом. И здесь произошло событие из тех, что определяют дальнейшую жизнь. Ту самую рыбу, которую рыбаки добывали в дальних морях, в порту беззастенчиво разворовывали. И было как-то принято об этом молчать. Солидные и ответственные люди, пламенно выступавшие на собраниях, подъезжали к траулерам, погружали пакеты с рыбой в багажники и отбывали восвояси, стараясь не смотреть в глаза матросам. Шестакова долго отговаривали выступать по этому поводу, пугали, намекали на возможные неприятности, но он не захотел молчать и ни разу не пожалел о своем поступке. В следующий рейс он снова ушел рядовым матросом, но нашлись люди, которым смелость юноши пришлась по душе. К Шестакову начали присматриваться и обнаружили, что, помимо той черты характера, о которой Павел Коган говорил: «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал», — строптивец обладает еще и широким кругозором, острым умом и деловитостью. Его начали выдвигать, и через несколько лет— неслыханные у рыбаков темпы — Аркадий Николаевич стал капитаном-директором «Канопуса». Два исключительно удачных рейса подряд заткнули рот скептикам. Юрий Николаевич, начальник кадров Севастопольского управления, буквально отбивался от рыбаков, желавших перейти на «Канопус».
Шесть лет назад двадцатилетний Шестаков вышел в море матросом-практикантом, а по окончании рейса должен был стать штурманом. Через полгода траулер пришел в Севастополь, и Шестакову достаточно было протянуть руку, чтобы взять заветный диплом. И здесь произошло событие из тех, что определяют дальнейшую жизнь. Ту самую рыбу, которую рыбаки добывали в дальних морях, в порту беззастенчиво разворовывали. И было как-то принято об этом молчать. Солидные и ответственные люди, пламенно выступавшие на собраниях, подъезжали к траулерам, погружали пакеты с рыбой в багажники и отбывали восвояси, стараясь не смотреть в глаза матросам. Шестакова долго отговаривали выступать по этому поводу, пугали, намекали на возможные неприятности, но он не захотел молчать и ни разу не пожалел о своем поступке. В следующий рейс он снова ушел рядовым матросом, но нашлись люди, которым смелость юноши пришлась по душе. К Шестакову начали присматриваться и обнаружили, что, помимо той черты характера, о которой Павел Коган говорил: «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал», — строптивец обладает еще и широким кругозором, острым умом и деловитостью. Его начали выдвигать, и через несколько лет— неслыханные у рыбаков темпы — Аркадий Николаевич стал капитаном-директором «Канопуса». Два исключительно удачных рейса подряд заткнули рот скептикам. Юрий Николаевич, начальник кадров Севастопольского управления, буквально отбивался от рыбаков, желавших перейти на «Канопус».
Мне многое понравилось в Шестакове. И то, что он старших по возрасту матросов зовет по имени-отчеству, и его ровное, без грубости, отношение к экипажу, и самокритичность, с которой он готов признать свою ошибку. Мне нравились его оригинальные, не вычитанные из критических статей рассуждения о литературе и искусстве, часто весьма спорные, но всегда свои — ведь лишь мнение, как сказал один писатель, придает вещам их качества, подобно тому, как соль придает вкус блюдам.
Я субъективен к Шестакову и поэтому не заикнусь о некоторых его недостатках, которые носят возрастной характер — этакие молочные зубы капитана. Даже Рахметов не мог бросить курить — недостаток, которым наградил его Чернышевский, чтобы подчеркнуть, что идеальных людей не бывает. Случалось, что Аркадий Николаевич был не прав, срывался — да, такое бывало. Но спустя полчаса он вновь становился самим собой — остроумным, уверенным, доброжелательным человеком, которому все верили и которого уважали.
Еще один эпизод, который характеризует Шестакова. Я уже рассказывал о том, как Аркадий Николаевич увел «Канопус» из Аденского залива к берегам Пакистана, в почти не изведанный район лова. Там нас долго преследовали неудачи, пока не были наконец нащупаны кое-какие закономерности хода рыбы. И тогда — как говорят, «на готовенькое» — в этот район пришли один за другим еще два траулера. Мне рассказывали о капитанах, которые в таких случаях «темнили», не раскрывали карты конкурентам и даже сбивали их с толку. Такие капитаны есть, и, если потребуется, я приведу их фамилии и доказательства.
Но капитан Шестаков, немало переживший в дни неудач, когда план «Канопуса» трещал по всем швам, поступил иначе. По его приказу «Ореанде» и «Балаклаве» были даны копии промысловых карт, а капитанам, как на исповеди, было рассказано все, что нужно для успешной работы.
Очень тяжело сложился для «Канопуса» этот рейс. Непрерывные поломки из-за безответственного ремонта в порту, долгие поиски рыбы и, наконец, выход из строя гребного вала. Об этом я узнал, возвращаясь в октябре домой на плавбазе «Шквал». Мне сообщили, что «Канопус» буксируют на ремонт в Бомбей. В тот же день я получил от Шестакова радиограмму: «Маркович зпт привет зпт привет тчк Удар потяжелее предыдущих тчк Но не познавши горя зпт не познаешь радости тчк Верим удачу».
Я тоже верю в Шестакова и в его удачу.
«Каюта старпома находилась на солнечной стороне с видом на море», — эти слова я произношу, как заклинание, начиная очередную главу. Пиши то, что видел и знаешь, иначе прослывешь последним ослом — такую мораль выудил я из этой истории. Поэтому, не желая стать всеобщим посмешищем, я ни единым словом не обмолвлюсь о таких недоступных моему пониманию вещах, как работа машинного отделения, рефрижераторных механизмов и локаторов. Кроме того, капитан посоветовал употреблять поменьше морских терминов: с этими фок-мачтами и клотиками можно такого нагородить… Напоследок капитан дал мне еще несколько советов, которые я принял, и высказал одну просьбу, которая заключалась в том, что о нем, капитане Шестакове, писать не надо — так будет лучше. Разумеется, эту просьбу я пропустил мимо ушей: не потому, что я такой уж черствый и бессердечный, а просто потому, что мне нужна глава о капитане Шестакове. Без нее мне не свести концы с концами в рассуждениях об интеллигенции на море — теме, которая кажется мне существенно важной.
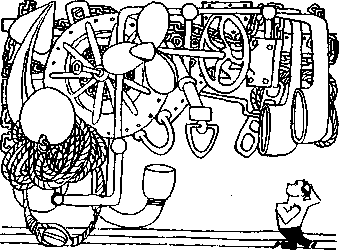
Есть люди, которые, попав в рабочую среду, стыдятся своей интеллигентности: нарочито грубо разговаривают, по каждому поводу вставляют соленые словечки, одеваются неряшливо— словом, выдают себя за чертовски простых ребят, «своих в доску».
К таким относятся плохо, с ироническим презрением. Современная рабочая среда таких не принимает — слишком сильно от них разит фальшью. Сегодняшний молодой рыбак обязательно где-то учится, впереди у него перспектива стать механиком, штурманом, технологом и тралмастером, и он, общаясь с более образованным человеком, хочет услышать от того умную мысль, а не скабрезный анекдот.
Так вот, Аркадий Николаевич прежде всего очень интеллигентен — в самом хорошем смысле слова. Я сейчас поясню, что имею в виду, делая это уточнение.
Даже сегодня, когда образованием никого и нигде не удивишь, к слову «интеллигент» иной раз относятся предвзято. В понимании некоторых людей — это Клим Самгин, брезгливо моющий руки после прикосновения к жизни и постоянно делающий «восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя».
Безусловно, такие интеллигенты есть и сегодня, и среди них очень интересные. Ведь и Клим Самгин часто высказывал превосходные мысли, несмотря на все старания Горького изобразить своего героя типичной посредственностью. И такие люди, наверное, останутся и завтра и послезавтра; именно из них получаются философы — не те, которые переделывают мир, а те, кто пытается объяснить его.
Однако Климов Самгиных всегда не любили и никогда любить не будут. Их существование слишком резко фиксирует разницу между умственным и физическим трудом, которая еще останется надолго. Они только мыслят, и часто без отдачи, — это справедливо раздражает, а иной раз приводит к совершенно неверным обобщениям.
Потому что сегодня 999 из тысячи интеллигентов — это труженики. Конструкторы, поглощающие литры кофе, чтобы успеть к сроку закончить проект, редакторы, правящие верстку, пока слова не начинают плясать перед глазами, врачи, прыгающие с парашютом, — пусть кто-нибудь скажет, что эти люди не труженики!
Да, среди них встречаются такие, которые не умеют держать в руках отвертку и вызывают мастера, когда нужно привернуть кран. Они стыдливо раздеваются на пляже — костюм все-таки маскирует полное отсутствие мускулов. Но не будьте к ним слишком строги: они за день перебросили тонны мыслей — работа, от которой пухнут не руки, а голова. Они не сумеют на воскреснике вырыть яму, но зато в своем рабочем кабинете придумают шагающий экскаватор, откроют новую элементарную частицу и поставят правильный диагноз.
И все-таки, отдавая дань уважения этим людям, мы больше восторгаемся Мак-Алланом Бернгарда Келлермана, широкоплечим атлетом, который придумал и построил грандиозный туннель. Так уж мы устроены, что любой, самый интеллигентный человек в наших глазах становится выше, если он умеет забивать гвозди, играть в футбол и тащить с рынка рюкзак картошки. И это, наверное, справедливо, потому что одна лишь гармония совершенна. Сайрус Смит для нас всегда останется симпатичнее Клима Самгина, а молодой ученый Валерий Попенченко — неизмеримо выше только боксера Сонни Листона.
Так представьте себе человека, который в школьном возрасте прочитал Бальзака и Достоевского, который умеет отлично спорить о живописи и поэзии, об относительной истине, смысле жизни, классической музыке и физиках и лириках; человека, который, прервав этот спор, идет на корму шкерить рыбу и делает это так здорово, что за ним не угнаться самым опытным матросам; человека, влюбленного в море и в свою профессию рыбака.
Я не собираюсь сооружать для капитана Шестакова пьедестал — мне удалось познакомиться в море и с другими очень интересными людьми, настоящими интеллигентами — с Александром Сорокиным, Володей Ивановым и Иваном Голубем, с капитанами Николаем Боголюбовым, Анатолием Семеновым, Александром Мельниченко и Клавдием Улановским, культурными и начитанными моряками, умеющими широко мыслить. Со стыдом признаюсь, что я не ожидал встретить в море людей, великолепно знающих Есенина и Пастернака, Бальзака и Мольера, Пикассо и Сурикова. Я не хочу сказать, что мои собеседники были искусствоведами, но они образованны достаточно широко, чтобы сбить спесь с сухопутных гордецов, не представляющих себе, что такое современный рыбак.
Так что Шестаков — это не исключение. Прошло то время, когда для того, чтобы командовать рыболовным суденышком, достаточно было уметь вычислять курс и знать рыбьи повадки. Нынешний траулер — это плавучий завод, а капитан его — капитан-директор. Очень многозначительная приставка. Чтобы стать директором, нужно знать многие важные вещи: прибыль, хозрасчет, дебет и кредит, организацию производства и финансы. Нужно владеть языком, чтобы лично объясниться с представителями торговых фирм в иностранных портах. Нужны культура и кругозор, чтобы уважал экипаж, который состоит из матросов со средним образованием.
Капитан Шестаков, в двадцать шесть лет сделавший блестящую для рыбака карьеру, очень веселый человек. Он обладает счастливым даром шутить тогда, когда это необходимо, когда юмор спасает. Мне нравилось, что Аркадий Николаевич в самые безрыбные дни не изменял своему сангвиническому темпераменту. Юмор расходился от него концентрическими кругами, поднимая жизненный тонус команды. Мне так и не удалось найти повод, чтобы процитировать ему рефрен популярной песни: «Капитан, капитан, улыбнитесь». Когда нервы натянуты до предела и вот-вот ждешь какого-то взрыва, капитан вдруг начинает рассказывать о своих проделках в мореходном училище, и нервы расслабляются, как вожжи: слышится хмыканье, потом смех — напряжения как не бывало! Я помню, как Аркадий Николаевич предотвратил ссору двух друзей, рассказав в самый кульминационный момент историю своей любви. Лежа на операционном столе, он влюбился в ассистентку хирурга, удалявшего ему аппендикс. Далее следовали очень веселые подробности, которые приводить я не имею права, поскольку ассистентка ныне заботливая мама двух маленьких Шестаковых. Я бы мог рассказами Аркадия Николаевича заполнить два печатных листа, но, на свою беду, убедил капитана не раздаривать сюжеты корреспондентам, а использовать их самому. Кое-что, впрочем, мне перепало.
Вместе с тем Шестаков очень серьезный человек. Раз и навсегда выбрав себе профессию, он постоянно совершенствуется в ней, не стыдясь учиться у каждого, кто в состоянии что-то ему дать, особенно у старых капитанов, которые недостаток образования пока еще компенсируют интуицией и огромным опытом. Он смел и принципиален — это не для красного словца. Очень характерен один эпизод, о котором мне рассказывали человек десять, — значит, он запомнился.
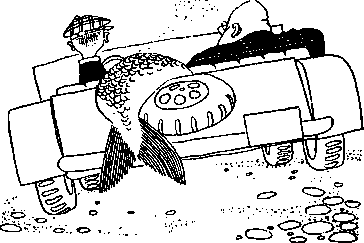
Мне многое понравилось в Шестакове. И то, что он старших по возрасту матросов зовет по имени-отчеству, и его ровное, без грубости, отношение к экипажу, и самокритичность, с которой он готов признать свою ошибку. Мне нравились его оригинальные, не вычитанные из критических статей рассуждения о литературе и искусстве, часто весьма спорные, но всегда свои — ведь лишь мнение, как сказал один писатель, придает вещам их качества, подобно тому, как соль придает вкус блюдам.
Я субъективен к Шестакову и поэтому не заикнусь о некоторых его недостатках, которые носят возрастной характер — этакие молочные зубы капитана. Даже Рахметов не мог бросить курить — недостаток, которым наградил его Чернышевский, чтобы подчеркнуть, что идеальных людей не бывает. Случалось, что Аркадий Николаевич был не прав, срывался — да, такое бывало. Но спустя полчаса он вновь становился самим собой — остроумным, уверенным, доброжелательным человеком, которому все верили и которого уважали.
Еще один эпизод, который характеризует Шестакова. Я уже рассказывал о том, как Аркадий Николаевич увел «Канопус» из Аденского залива к берегам Пакистана, в почти не изведанный район лова. Там нас долго преследовали неудачи, пока не были наконец нащупаны кое-какие закономерности хода рыбы. И тогда — как говорят, «на готовенькое» — в этот район пришли один за другим еще два траулера. Мне рассказывали о капитанах, которые в таких случаях «темнили», не раскрывали карты конкурентам и даже сбивали их с толку. Такие капитаны есть, и, если потребуется, я приведу их фамилии и доказательства.
Но капитан Шестаков, немало переживший в дни неудач, когда план «Канопуса» трещал по всем швам, поступил иначе. По его приказу «Ореанде» и «Балаклаве» были даны копии промысловых карт, а капитанам, как на исповеди, было рассказано все, что нужно для успешной работы.
Очень тяжело сложился для «Канопуса» этот рейс. Непрерывные поломки из-за безответственного ремонта в порту, долгие поиски рыбы и, наконец, выход из строя гребного вала. Об этом я узнал, возвращаясь в октябре домой на плавбазе «Шквал». Мне сообщили, что «Канопус» буксируют на ремонт в Бомбей. В тот же день я получил от Шестакова радиограмму: «Маркович зпт привет зпт привет тчк Удар потяжелее предыдущих тчк Но не познавши горя зпт не познаешь радости тчк Верим удачу».
Я тоже верю в Шестакова и в его удачу.
И РАЗОШЛИСЬ, КАК В МОРЕ КОРАБЛИ…
Когда идет швартовка, весь экипаж застывает в молитвенном молчании. Нет для моряка более ответственного дела, чем швартовка в открытом море. Здесь, как ни в чем ином, капитан должен проявить свое хладнокровие, уверенность и точнейший расчет. Ибо одно нервное, непродуманное движение — и два стальных корпуса хрустнут, как грецкие орехи.
«Шквал», огромный и равнодушный, покачивался на волнах, застраховавшись от случайностей гигантскими резиновыми амортизаторами — кранцами. А наш маленький «Канопус» подкрадывался к нему, отступая и снова приближаясь. Наконец, когда нас разделяло всего несколько метров, в воздух взвились концы, и швартовы змеями обвили мощные чугунные кнехты.
«Канопус» нежно прижался к «Шквалу», как младший братишка к старшему.
Капитан Шестаков провел швартовку отлично и по морской традиции принимал поздравления. А с бортов уже гремело:
— Колька, привет! Правда, что вы из Кении идете? Швырни в меня ананасом!
— Братцы, мне дурно, Сашка Ачкинази наголо остригся!
— А ты ко мне перебирайся, Володька, вылечу!
— А лекарство есть?
— Есть, три бутылки…
— Бегу!
— …соку!
Тут же вели утонченные дипломатические переговоры два начпрода: Гриша Арвеладзе и его коллега со «Шквала».
— Ты пряма гавари, что у тебя есть? Мне, дарагой, нужны фрукты. Яблоки, апельсины, ананасы. Дашь?
— А ты чего дашь? Сигареты есть?
— Все есть, дарагой. Только сигареты нет. Папыросы есть — «Беламор». Двести пачек. Берешь?
— Беру. А рыбы свежей дашь пару корзин?
— А фрукты?
— Дам, дам. Ну, так как же насчет рыбы?
— Дам рыбу. А штаны у тебя есть? Небольшой размер, десять штанов.
— Штанов нет, есть только электробритвы. Хочешь пяток?
— Брейся сам, дарагой. А минеральная вода есть?
Начпроды быстро нашли базу для соглашения, и натуральный обмен состоялся, к взаимному удовлетворению. Правда, уже потом, в самый момент расставания начпрод «Шквала» обнаружит, что Арвеладзе подсунул ему подмоченные папиросы, но Гриша в ответ на обвинения будет недоуменно разводить руками, чрезвычайно веселя оба экипажа.
— Не может быть, дарагой! Папыросы — высший сорт, сам куру.
— Какой там к дьяволу высший сорт! Шестьдесят пачек подмочено!
— Они высыхивают на сонце, кацо. Ты не валнавайся, от этава бысонница ночем будет!
— Ну, погоди же, еще встретимся!
— Обязательна, дарагой. Гора с горой не встретица, а человек с человеком обязательна. Привет!
Но это — потом. А пока матросы переговариваются с друзьями, на «Шквал» переправляются пакеты креветок, корзины с рыбой, пачки сигарет, а на «Канопус» в порядке обмена и просто угощения летят яблоки, апельсины, ананасы.
В сторонке два первых помощника осторожно прощупывают друг друга. Здесь идет обмен культурными ценностями — кинофильмами.
— Ты мне дашь «Два бойца» и «Антон Иванович сердится», а я тебе за это подберу такие фильмы, что век благодарить будешь, — обещает Александр Евгеньевич.
Георгий Миронович, наученный горьким опытом, относится к этому заявлению с мудрой осторожностью.
— Как называются твои фильмы?
— А дашь «Два бойца» и?..
— Нет, сначала говори, как называются!
— Хорошо, — соглашается покладистый Евгеньич, и, подумав, с крайним сожалением сообщает: — Так и быть, отдам тебе «Дорогу», «Белый караван» и «Горячее сердце».
И Евгеньич тяжело вздыхает, показывая, как трудно ему расставаться с такими шедеврами.
— Расскажи подробнее, — требует бдительный Георгий Миронович.
— Фильмы надо смотреть! — несколько напыщенно отвечает Сорокин. — Это… гм… детективы.
— Вот и смотри их сам, — советует Георгий Миронович. — А мне давай «Подвиг разведчика», я точно знаю, что он у тебя.
— Может, тебе еще и «Малахов курган» отдать? — иронически говорит Сорокин. — И «Музыкальную историю»?
— Все отдашь, — ворчит Георгий Миронович, — у меня такой фильм есть, что на коленях просить будешь… «Мы из Кронштадта», понял?
— Ну что ж, возьму, — изо всех сил изображая равнодушие, роняет Евгеньич. — Я, пожалуй, за него тебе отдам этот… «Все для нас».
— Про бытовое обслуживание? — мгновенно разоблачает Георгий Миронович.
— Ага, — сознается Сорокин.
В общем, товарищи, вам не перехитрить друг друга. Все равно в конечном счете в обмен пойдут вечные и неизменные «Подвиг разведчика», «Антон Иванович сердится», «Мы из Кронштадта» и «Малахов курган» да еще два-три фильма, которые на судах смотрели сто раз. А когда переговоры закончатся и хитрить друг перед другом будет незачем, оба помполита в бессильном гневе обругают некорректными словами кинопрокатные организации, которые соревнуются между собой, кто подсунет морякам больше залежалого товара. Ведь это тоже традиция — фильмы, триумфально провалившиеся на Большой земле, обрушиваются на головы ни в чем не повинных моряков. Из сотен кинокартин, в принудительном порядке всученных «Канопусу», лишь десятка полтора-два можно оценить по пятибалльной системе. Все остальные настолько плохи, что единица для них — безмерно высокая оценка. Моряки уже перестали надеяться, что обремененное высокими заботами Министерство культуры когда-нибудь всерьез займется каталогами фильмов для тех, кто в море. Я слышал, как один помполит, поседевший в боях с кинопрокатом, придумал для его руководителей неправдоподобно жестокое наказание.
— Я бы на месяцок вывез их в море, — облизывая пересохшие губы, мечтал он, — и заставил бы просмотреть один за другим (следовал перечень фильмов)… Десять раз подряд! И не отпустил бы, пока не поклялись, что всю эту макулатуру сдадут в утиль!
Перед моими глазами проходит и другая шекспировская сцена: взмыленный и злой Анатолий Тесленко доказывает коллеге — технологу «Шквала» Полтавской, что он не факир, а посему грузить каждый сорт рыбы отдельно не может. Тоненькая и миловидная Таисия Александровна охотно соглашается с тем, что Толя не факир, но решительно настаивает на точном соблюдении правил. Тесленко стонет, рыдающим голосом апеллирует к небу, но Полтавская — артистка, и Толин драматический талант никнет перед ее неумолимой логикой. Ничего не поделаешь, придется сортировать, и Тесленко, осторожно рвя на себе волосы, мчится в трюм — давать распоряжения.
Начались грузовые работы, на «Канопусе» — аврал. Дорога каждая минута, ибо эту каждую минуту траулер не добывает рыбу, а именно добыча рыбы составляет смысл его существования. Из трюма, где сейчас зима, поднимаются клубы белого пара, фантастические фигуры в валенках и тулупах готовят паки с продукцией, а мощные стрелы переносят на «Шквал» тяжело нагруженные решетчатые квадраты.
— Кто стащил гирю? Признавайтесь!
На верхней палубе «Шквала» мечется старпом Клавдий Михайлович Улановский. Из его возмущенных реплик я догадываюсь, что кто-то из наших ребят в суматохе переправил на «Канопус» любимую двухпудовую гирю старпома, при помощи которой он поддерживает свою физическую форму. В поиски немедленно подключается группа вахтенных детективов, и гиря, спрятанная недостаточно квалифицированно, вскоре торжественно возвращается на «Шквал». Ее похититель пожелал остаться неизвестным. Потом, через два дня, чудный никелированный двухпудовик стащут матросы с «Ореанды», и тогда уже Клавдий Михайлович запрет ее в своей каюте, чтобы десять дней спустя вне себя от негодования искать блудную гирю на «Алуште».
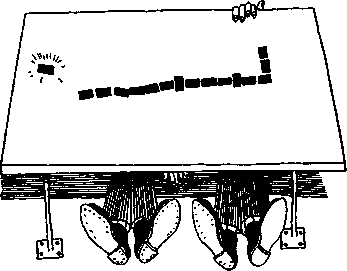 Пантелеич, которого я, разумеется, не имею никаких оснований упрекать в хищении гири, с нескрываемым сожалением смотрит, как Клавдий Михайлович ласково гладит свою возвращенную любимицу. Я покровительственно похлопываю Пантелеича по плечу. Покровительственно — потому, что имею на это полное право. Несколько дней назад он и Саша Ачкинази, наши ведущие козлисты, сели играть в домино с одной из самых слабых на траулере пар, в которой, кроме меня, был гидроакустик Долженков. Во время игры нам неоднократно напоминали, что мы должны гордиться оказанной честью, как гордилась бы дворовая команда босоногих пацанов, играя с московским «Динамо». Партия кончилась взрывом, землетрясением, невероятной катастрофой: я дрожащей рукой шлепнул на стол два дупля, «пусто-пусто» и «шесть-шесть». Это был редчайший, уникальный адмиральский козел: только стальные нервы спасли Пантелеича и Сашу от немедленного, тут же, за столом, разрыва сердца. Весть о нашей с Геннадием Федоровичем феерической победе над двумя асами мгновенно облетела «Канопус», и несколько дней мы нежились в лучах бессмертной славы.
Пантелеич, которого я, разумеется, не имею никаких оснований упрекать в хищении гири, с нескрываемым сожалением смотрит, как Клавдий Михайлович ласково гладит свою возвращенную любимицу. Я покровительственно похлопываю Пантелеича по плечу. Покровительственно — потому, что имею на это полное право. Несколько дней назад он и Саша Ачкинази, наши ведущие козлисты, сели играть в домино с одной из самых слабых на траулере пар, в которой, кроме меня, был гидроакустик Долженков. Во время игры нам неоднократно напоминали, что мы должны гордиться оказанной честью, как гордилась бы дворовая команда босоногих пацанов, играя с московским «Динамо». Партия кончилась взрывом, землетрясением, невероятной катастрофой: я дрожащей рукой шлепнул на стол два дупля, «пусто-пусто» и «шесть-шесть». Это был редчайший, уникальный адмиральский козел: только стальные нервы спасли Пантелеича и Сашу от немедленного, тут же, за столом, разрыва сердца. Весть о нашей с Геннадием Федоровичем феерической победе над двумя асами мгновенно облетела «Канопус», и несколько дней мы нежились в лучах бессмертной славы.
Пантелеич ведет меня в каюту, где тихонько храпит под своими одеялами Володя Иванов. Мы будим Володю, обмениваемся адресами и говорим о том, о чем обычно говорят при расставании — это везде одинаково. Я поглаживаю крохотную капроновую елочку, украшающую каюту штурманов. Через два месяца, за несколько дней до Нового года, ребята спрячут ее под замок, иначе елочку обязательно стащат и вернут 2 января. Выхожу я из каюты обогащенный — Володя дарит мне на память чудесный перочинный ножик, купленный в прошлом рейсе в Гибралтаре.
А вообще с подарками дело обстоит так. Толя Запорожцев и Слава Кирсанов преподнесли мне большие чучела лангуст, Толя Тесленко подарил краба. Траловую команду я буду вспоминать, глядя на полутораметровую пилу акулы, а старпома Бориса Павловича… О, это будет особое воспоминание! Уже на «Шквале» я решил проверить свой рюкзак, который при переходе с «Канопуса» показался мне подозрительно тяжелым. Я вспомнил, что Борис Павлович, прощаясь, как-то странно кашлял и косился на рюкзак пламенеющими глазами. Так и есть, в рюкзаке, завернутые в газеты, покоились четырехкилограммовый кирпич и ржавое звено якорной цепи. Вместе с этими сувенирами лежала маленькая записка: «Пусть это звено навеки связывает вас с „Канопусом“. Признаюсь, кирпич я домой не довез, а звено, отшлифованное и покрытое лаком, сейчас передо мной.
Аркадий Николаевич на прощанье преподнес мне большой и тяжелый сверток, взяв с меня слово, что я вскрою его только дома. Почти три недели я томился, но слово сдержал, и теперь являюсь обладателем штормового рыбацкого костюма, носить который на торжественных вечерах мне мешает одно обстоятельство: в костюм может запросто влезть вся моя семья. Думаю, что даже Юрий Власов вынужден был бы его сильно сузить и укоротить.
— Эй, на «Канопусе», грузите корреспондента! — кричат со «Шквала».
Ну вот, пора уходить. В моем распоряжении каких-нибудь десяток минут. Я еще раз обхожу — нет, обегаю «Канопус», торопливо прощаюсь с друзьями. На душе скребут кошки. Я не играю в прятки с самим собой, я соскучился по дому, но, если бы произошло чудо и мне продлили командировку, я был бы искренне счастлив. Потому что мне здесь было хорошо, с этими ребятами, которые тепло, с дружеским доверием приняли меня в свой коллектив. Я знаю, что мне долго будет их не хватать и что эти месяцы, которые для ребят с «Канопуса» обыкновенные трудовые будни, я буду вспоминать как самые доселе интересные и насыщенные впечатлениями в своей жизни. Мне по-настоящему грустно, что я ухожу на «Шквал» и что это неизбежно.
«Шквал», огромный и равнодушный, покачивался на волнах, застраховавшись от случайностей гигантскими резиновыми амортизаторами — кранцами. А наш маленький «Канопус» подкрадывался к нему, отступая и снова приближаясь. Наконец, когда нас разделяло всего несколько метров, в воздух взвились концы, и швартовы змеями обвили мощные чугунные кнехты.
«Канопус» нежно прижался к «Шквалу», как младший братишка к старшему.
Капитан Шестаков провел швартовку отлично и по морской традиции принимал поздравления. А с бортов уже гремело:
— Колька, привет! Правда, что вы из Кении идете? Швырни в меня ананасом!
— Братцы, мне дурно, Сашка Ачкинази наголо остригся!
— А ты ко мне перебирайся, Володька, вылечу!
— А лекарство есть?
— Есть, три бутылки…
— Бегу!
— …соку!
Тут же вели утонченные дипломатические переговоры два начпрода: Гриша Арвеладзе и его коллега со «Шквала».
— Ты пряма гавари, что у тебя есть? Мне, дарагой, нужны фрукты. Яблоки, апельсины, ананасы. Дашь?
— А ты чего дашь? Сигареты есть?
— Все есть, дарагой. Только сигареты нет. Папыросы есть — «Беламор». Двести пачек. Берешь?
— Беру. А рыбы свежей дашь пару корзин?
— А фрукты?
— Дам, дам. Ну, так как же насчет рыбы?
— Дам рыбу. А штаны у тебя есть? Небольшой размер, десять штанов.
— Штанов нет, есть только электробритвы. Хочешь пяток?
— Брейся сам, дарагой. А минеральная вода есть?
Начпроды быстро нашли базу для соглашения, и натуральный обмен состоялся, к взаимному удовлетворению. Правда, уже потом, в самый момент расставания начпрод «Шквала» обнаружит, что Арвеладзе подсунул ему подмоченные папиросы, но Гриша в ответ на обвинения будет недоуменно разводить руками, чрезвычайно веселя оба экипажа.
— Не может быть, дарагой! Папыросы — высший сорт, сам куру.
— Какой там к дьяволу высший сорт! Шестьдесят пачек подмочено!
— Они высыхивают на сонце, кацо. Ты не валнавайся, от этава бысонница ночем будет!
— Ну, погоди же, еще встретимся!
— Обязательна, дарагой. Гора с горой не встретица, а человек с человеком обязательна. Привет!
Но это — потом. А пока матросы переговариваются с друзьями, на «Шквал» переправляются пакеты креветок, корзины с рыбой, пачки сигарет, а на «Канопус» в порядке обмена и просто угощения летят яблоки, апельсины, ананасы.
В сторонке два первых помощника осторожно прощупывают друг друга. Здесь идет обмен культурными ценностями — кинофильмами.
— Ты мне дашь «Два бойца» и «Антон Иванович сердится», а я тебе за это подберу такие фильмы, что век благодарить будешь, — обещает Александр Евгеньевич.
Георгий Миронович, наученный горьким опытом, относится к этому заявлению с мудрой осторожностью.
— Как называются твои фильмы?
— А дашь «Два бойца» и?..
— Нет, сначала говори, как называются!
— Хорошо, — соглашается покладистый Евгеньич, и, подумав, с крайним сожалением сообщает: — Так и быть, отдам тебе «Дорогу», «Белый караван» и «Горячее сердце».
И Евгеньич тяжело вздыхает, показывая, как трудно ему расставаться с такими шедеврами.
— Расскажи подробнее, — требует бдительный Георгий Миронович.
— Фильмы надо смотреть! — несколько напыщенно отвечает Сорокин. — Это… гм… детективы.
— Вот и смотри их сам, — советует Георгий Миронович. — А мне давай «Подвиг разведчика», я точно знаю, что он у тебя.
— Может, тебе еще и «Малахов курган» отдать? — иронически говорит Сорокин. — И «Музыкальную историю»?
— Все отдашь, — ворчит Георгий Миронович, — у меня такой фильм есть, что на коленях просить будешь… «Мы из Кронштадта», понял?
— Ну что ж, возьму, — изо всех сил изображая равнодушие, роняет Евгеньич. — Я, пожалуй, за него тебе отдам этот… «Все для нас».
— Про бытовое обслуживание? — мгновенно разоблачает Георгий Миронович.
— Ага, — сознается Сорокин.
В общем, товарищи, вам не перехитрить друг друга. Все равно в конечном счете в обмен пойдут вечные и неизменные «Подвиг разведчика», «Антон Иванович сердится», «Мы из Кронштадта» и «Малахов курган» да еще два-три фильма, которые на судах смотрели сто раз. А когда переговоры закончатся и хитрить друг перед другом будет незачем, оба помполита в бессильном гневе обругают некорректными словами кинопрокатные организации, которые соревнуются между собой, кто подсунет морякам больше залежалого товара. Ведь это тоже традиция — фильмы, триумфально провалившиеся на Большой земле, обрушиваются на головы ни в чем не повинных моряков. Из сотен кинокартин, в принудительном порядке всученных «Канопусу», лишь десятка полтора-два можно оценить по пятибалльной системе. Все остальные настолько плохи, что единица для них — безмерно высокая оценка. Моряки уже перестали надеяться, что обремененное высокими заботами Министерство культуры когда-нибудь всерьез займется каталогами фильмов для тех, кто в море. Я слышал, как один помполит, поседевший в боях с кинопрокатом, придумал для его руководителей неправдоподобно жестокое наказание.
— Я бы на месяцок вывез их в море, — облизывая пересохшие губы, мечтал он, — и заставил бы просмотреть один за другим (следовал перечень фильмов)… Десять раз подряд! И не отпустил бы, пока не поклялись, что всю эту макулатуру сдадут в утиль!
Перед моими глазами проходит и другая шекспировская сцена: взмыленный и злой Анатолий Тесленко доказывает коллеге — технологу «Шквала» Полтавской, что он не факир, а посему грузить каждый сорт рыбы отдельно не может. Тоненькая и миловидная Таисия Александровна охотно соглашается с тем, что Толя не факир, но решительно настаивает на точном соблюдении правил. Тесленко стонет, рыдающим голосом апеллирует к небу, но Полтавская — артистка, и Толин драматический талант никнет перед ее неумолимой логикой. Ничего не поделаешь, придется сортировать, и Тесленко, осторожно рвя на себе волосы, мчится в трюм — давать распоряжения.
Начались грузовые работы, на «Канопусе» — аврал. Дорога каждая минута, ибо эту каждую минуту траулер не добывает рыбу, а именно добыча рыбы составляет смысл его существования. Из трюма, где сейчас зима, поднимаются клубы белого пара, фантастические фигуры в валенках и тулупах готовят паки с продукцией, а мощные стрелы переносят на «Шквал» тяжело нагруженные решетчатые квадраты.
— Кто стащил гирю? Признавайтесь!
На верхней палубе «Шквала» мечется старпом Клавдий Михайлович Улановский. Из его возмущенных реплик я догадываюсь, что кто-то из наших ребят в суматохе переправил на «Канопус» любимую двухпудовую гирю старпома, при помощи которой он поддерживает свою физическую форму. В поиски немедленно подключается группа вахтенных детективов, и гиря, спрятанная недостаточно квалифицированно, вскоре торжественно возвращается на «Шквал». Ее похититель пожелал остаться неизвестным. Потом, через два дня, чудный никелированный двухпудовик стащут матросы с «Ореанды», и тогда уже Клавдий Михайлович запрет ее в своей каюте, чтобы десять дней спустя вне себя от негодования искать блудную гирю на «Алуште».
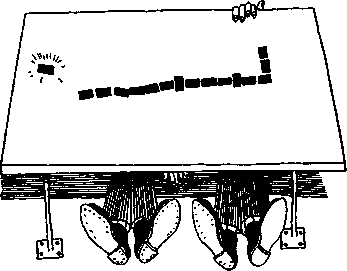
Пантелеич ведет меня в каюту, где тихонько храпит под своими одеялами Володя Иванов. Мы будим Володю, обмениваемся адресами и говорим о том, о чем обычно говорят при расставании — это везде одинаково. Я поглаживаю крохотную капроновую елочку, украшающую каюту штурманов. Через два месяца, за несколько дней до Нового года, ребята спрячут ее под замок, иначе елочку обязательно стащат и вернут 2 января. Выхожу я из каюты обогащенный — Володя дарит мне на память чудесный перочинный ножик, купленный в прошлом рейсе в Гибралтаре.
А вообще с подарками дело обстоит так. Толя Запорожцев и Слава Кирсанов преподнесли мне большие чучела лангуст, Толя Тесленко подарил краба. Траловую команду я буду вспоминать, глядя на полутораметровую пилу акулы, а старпома Бориса Павловича… О, это будет особое воспоминание! Уже на «Шквале» я решил проверить свой рюкзак, который при переходе с «Канопуса» показался мне подозрительно тяжелым. Я вспомнил, что Борис Павлович, прощаясь, как-то странно кашлял и косился на рюкзак пламенеющими глазами. Так и есть, в рюкзаке, завернутые в газеты, покоились четырехкилограммовый кирпич и ржавое звено якорной цепи. Вместе с этими сувенирами лежала маленькая записка: «Пусть это звено навеки связывает вас с „Канопусом“. Признаюсь, кирпич я домой не довез, а звено, отшлифованное и покрытое лаком, сейчас передо мной.
Аркадий Николаевич на прощанье преподнес мне большой и тяжелый сверток, взяв с меня слово, что я вскрою его только дома. Почти три недели я томился, но слово сдержал, и теперь являюсь обладателем штормового рыбацкого костюма, носить который на торжественных вечерах мне мешает одно обстоятельство: в костюм может запросто влезть вся моя семья. Думаю, что даже Юрий Власов вынужден был бы его сильно сузить и укоротить.
— Эй, на «Канопусе», грузите корреспондента! — кричат со «Шквала».
Ну вот, пора уходить. В моем распоряжении каких-нибудь десяток минут. Я еще раз обхожу — нет, обегаю «Канопус», торопливо прощаюсь с друзьями. На душе скребут кошки. Я не играю в прятки с самим собой, я соскучился по дому, но, если бы произошло чудо и мне продлили командировку, я был бы искренне счастлив. Потому что мне здесь было хорошо, с этими ребятами, которые тепло, с дружеским доверием приняли меня в свой коллектив. Я знаю, что мне долго будет их не хватать и что эти месяцы, которые для ребят с «Канопуса» обыкновенные трудовые будни, я буду вспоминать как самые доселе интересные и насыщенные впечатлениями в своей жизни. Мне по-настоящему грустно, что я ухожу на «Шквал» и что это неизбежно.
