Страница:
– Что с тобой, Анечка?
– Кажется, началось, я очень страдаю! – ответила я.
– Как мне тебя жалко, дорогая моя! – самым жалостливым голосом проговорил мой муж, и вдруг голова его склонилась на подушку, и он мгновенно уснул. Меня страшно растрогала его искренняя нежность, а вместе и полнейшая беспомощность».
Только к утру, придя в себя, Достоевский бежит за акушеркой. Служанка отказывается будить ее. Достоевский «пригрозил, что будет продолжать звонить и выбьет стекла». Акушерку привозят, та осматривает Анну Григорьевну, делает выговор, что ее так рано побеспокоили, и обещает приехать вечером. «В обещанный час m-me Barraud не приехала, и муж вновь пошел за нею. Оказалось, что она уехала обедать к друзьям, где-то около вокзала». Через некоторое время Достоевский снова отправляется к женевской повивальной бабке – та сидит с друзьями за семейным лото. «M-me Barraud была, видимо, недовольна, что ее оторвали от интересной игры, – вспоминает Достоевская, – и высказывала это мне, прибавляя несколько раз: “Oh, ces russes, ces russes!”»
Роды продолжаются тридцать три часа. Рождается девочка – 5 марта (22 февраля) 1868 года. Ее называют Соней.
 Соня Достоевская
Соня Достоевская
«Федор Михайлович в порыве радости обнял m-me Barraud, а сиделке несколько раз крепко пожал руку. Акушерка сказала мне, что за свою многолетнюю практику ей не приходилось видеть отца новорожденного в таком волнении и расстройстве, в каком был всё время мой муж, и опять повторила: “Oh, ces russes, ces russes!”»
Для Достоевских начинается новая, полная бессонницы и волнений жизнь родителей. «К моему большому счастию, Федор Михайлович оказался нежнейшим отцом: он непременно присутствовал при купании девочки и помогал мне, сам завертывал ее в пикейное одеяльце и зашпиливал его английскими булавками, носил и укачивал ее на руках и, бросая свои занятия, спешил к ней, чуть только заслышит ее голосок». Достоевский – Майкову: «А Ваша крестница – сообщаю Вам – прехорошенькая, несмотря на то, что до невозможного, до смешного даже похожа на меня. Даже до странности. Я бы этому не поверил, если б не видел. Ребенку только что месяц, а совершенно даже мое выражение лица, полная моя физиономия, до морщин на лбу, – лежит – точно роман сочиняет!»
С рождением ребенка нехватка денег становится особенно острой. В письме Майкову: «Я вчера заложил последнее свое пальто…» И еще: «Все до последней тряпки, моей и жены, заложены. Долги настоятельные, необходные, немедленные». А в начале апреля – сразу же при получении денег – опять срывается на рулетку.
16 мая девочку крестят в недавно открытой русской церкви. Через неделю – 24 мая – Сонечка умирает.
Анна Григорьевна: «Погода внезапно изменилась, началась биза (bise), и, очевидно, девочка простудилась, потому что в ту же ночь у нее повысилась температура и появился кашель. Мы тотчас обратились к лучшему детскому врачу, и он посещал нас каждый день, уверяя, что девочка наша поправится. Даже за три часа до ее смерти говорил, что больной значительно лучше». И дальше: «Такого бурного отчаяния я никогда более не видела. Обоим нам казалось, что мы не вынесем нашего горя. Два дня мы вместе, не разлучаясь ни на минуту, ходили по разным учреждениям, чтобы получить дозволение похоронить нашу крошку, вместе заказывали всё необходимое для ее погребения, вместе наряжали в белое атласное платьице, вместе укладывали в белый, обитый атласом гробик и плакали, безудержно плакали. На Федора Михайловича было страшно смотреть, до того он осунулся и похудал за неделю болезни Сони. На третий день мы свезли наше сокровище для отпевания в русскую церковь, а оттуда на кладбище в Plainpalais, где и схоронили в отделе, отведенном для погребения младенцев. Через несколько дней могила ее была обсажена кипарисами, а среди них был поставлен мраморный крест. Каждый день мы с мужем ходили на ее могилку, носили цветы и плакали».
Достоевский – Майкову: «Она начинала меня знать, любить и улыбалась, когда я подходил. Когда я своим смешным голосом пел ей песни, она любила их слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я ее целовал; она останавливалась плакать, когда я подходил. И вот теперь мне говорят в утешение, что у меня еще будут дети. А Соня где?»
В дневнике Анны Григорьевны есть запись, сделанная еще в сентябре, когда она беременная гуляла по городу: «Мне вздумалось идти на кладбище, оно находится на Plainpalais. В середине его находится отличный костел. Мне здешнее кладбище понравилось, и, право, если бы уж умереть за границей, то я бы желала быть похороненной здесь, на этом кладбище… Здесь мне показалось до крайней степени спокойно, просто чудно, посидела я несколько времени на скамейке, потом ходила, рассматривала памятники».
Достоевский приедет сюда на могилу дочери еще раз, в 1874 году, когда отправится за границу на лечение на германском курорте Бад-Эмс (Bad Ems). Надгробная плита в современном виде установлена в 1979 году.
Этот нелюбимый город принес несчастье. Первая мысль – прочь. Анна Григорьевна: «Оставаться в Женеве, где всё напоминало нам Соню, было немыслимо, и мы решили немедленно исполнить наше давнишнее намерение и переселиться в Vevey, на том же Женевском озере. Жалели мы очень о том, что, по недостатку средств, не могли совсем уехать из Швейцарии, которая стала для моего мужа почти ненавистна: он винил в смерти Сонечки и дурной, изменчивый климат Женевы, и самонадеянность доктора, и неумелость няньки и пр. Самих швейцарцев Федор Михайлович и всегда недолюбливал, но черствость и бессердечие, высказанные многими из них в минуты нашего тяжкого горя, еще увеличили эту неприязнь. Как пример бессердечия, приведу, что наши соседи, зная о нашей утрате, тем не менее прислали просить, чтоб я громко не плакала, так как это действует им на нервы».
Через много лет на стене этого дома по улице Монблан (rue du Mont-Blanc, 16) повесят скромную мемориальную доску, которая затеряется среди пестрой рекламы.
«Умники», столь ненавистные Достоевскому, – это русские революционеры, и прежде всего так называемая «молодая эмиграция», обосновавшаяся в Женеве. Лидер женевских «умников» – Николай Утин. О его значении для русской интеллигенции того времени можно судить по письму Достоевского Майкову из Женевы, в котором писатель называет этого молодого человека среди знаменитостей: «А что же они-то, Тургеневы, Герцены, Утины, Чернышевские, нам представили?»
 Н.И. Утин
Н.И. Утин
Отец Николая Утина – откупщик, миллионер-виноторговец, владелец роскошных особняков в Петербурге, не жалел денег на своих четырех сыновей. Николай получает разностороннее образование, летние месяцы семья проводит за границей, в Петербургском университете он учится на историко-филологическом факультете, пишет кандидатскую диссертацию об Аполлонии Тианском. На ту же тему, кстати, пишет свою диссертацию знаменитый впоследствии Писарев, но победа достается Утину. Ему присуждена золотая медаль, сопернику приходится довольствоваться серебряной. Однако столь блистательное академическое начало не находит продолжения – юноша начинает участвовать в революционном университетском движении и быстро выбивается в вожаки. Апостол студенческой России Чернышевский отмечает его среди других и приближает к себе. В анонимном доносе некто сообщает: «Утин – правая рука Чернышевского». Инициатор и участник студенческих волнений в Петербурге, член «Земли и воли», Утин в 1863 году, спасаясь от ареста, бежит через Черное море на Запад. Сначала молодой человек отправляется, по тогдашней моде, на поклон к Герцену в Лондон. Желая быть полезным «делу», он занимается переправкой герценовских изданий в Россию, где заочно в 1865 году судим и приговорен к смертной казни: «Казнить смертью расстрелянием, каковое наказание исполнить над ним по поимке или по явке его в отечество». Очень быстро между ним и Герценом наступает охлаждение: Герцен отказывается печатать утинскую статью, для самолюбивого молодого человека это удар, который так просто не забывается. Поклонение меняется на скрытую пока ненависть.
Утин поселяется в Женеве, которая постепенно становится центром русской революционной эмиграции, на улице Приере (aux Pâquis, rue de Prieure´, 5). Молодой революционер ощущает себя призванным объединить и возглавить разрозненные силы русского «освободительного» движения и выступает с идеей объединительного съезда эмигрантов. В письмах он зовет Герцена переехать в Швейцарию из Лондона.
«Колокол» переживает не лучшие времена. Самое популярное в империи Александра Освободителя издание принесло лондонскому изгнаннику всероссийскую славу. В своих письмах Герцен усердно пересказывает принесенный кем-то ему в Лондон анекдот, будто государь начинает свой рабочий день с прочтения герценовских статей. Однако закон непостоянства славы касается и могучего громовержца Искандера. «Колокол» резко теряет популярность в России после того, как поддерживает поляков во время польского восстания 1863 года. Герцен нарушает ту границу, где русское свободомыслие головы сталкивается с патриотическим нутром, – тираж падает в пять раз. «Этот упадок Герцен приписывал тому, что он писал в <Колоколе> статьи в пользу поляков», – вспоминает Шелгунов, один из героев того «революционно-демократического» времени. Иссякает и поток посетителей из России, устремившийся вследствие «открытия границ» после смерти Николая I на берега Альбиона, чтобы пожать руку изгнаннику-победителю.
Герцен мучительно переживает эту образовавшуюся вокруг него пустоту. Пропала уверенность, что он идет впереди России, своим блистательным пером указывая народившемуся обществу направление. Но ему кажется, что еще не всё потеряно, что он еще может нагнать, объясниться, снова стать во главе. В письмах 1864 года постоянно появляется мысль, что необходимо переехать в Швейцарию, чтобы вдохнуть в «Колокол» новую жизнь. Огареву из Женевы: «Что “Колокол” издавать в Лондоне при новом взмахе в России нельзя, это для меня ясно. Здесь перекрещиваются беспрерывно едущие из и во Францию, из и в Италию, здесь многие живут и пр.»
Переезд на континент и перенос издания в Женеву – к концу 1864 года дело почти решенное. Возникает вопрос о союзниках. В декабре этого страшного для него года Герцен приезжает на так называемый Женевский конгресс – первый объединительный съезд русской эмиграции, организованный Утиным. Приезжает с похорон. 4 декабря умирает от дифтерита трехлетняя дочь Герцена Елена, через неделю, 11 декабря, сын Алексей – близнецы. В эти декабрьские дни Герцен пишет старшей дочери и ее воспитательнице: «Какую мрачную и страшную страницу я пережил, все мы пережили, трудно сказать вам это. Я присутствовал при ужасающем зрелище самой жестокой смерти – смерти от удушья – этих двух детей. Я держал девочку во время операции трахеотомии и закрыл глаза мальчику… Всё это сразу; удар за ударом… как сон…»
И вот через несколько дней – переговоры в Женеве с молодой эмиграцией. Герцен приезжает в город на Роне с Огаревым и своим старшим сыном Александром. Утин требует «Колокол» или фонд Бахметьева для издания своей газеты. Главное обвинение Герцену – старик держит монополию на революционную прессу. Герцен сначала готов поделиться, но глубоко оскорблен отсутствием уважительного к себе отношения со стороны молодых людей.
В статье «Молодая эмиграция» он дает свой взгляд на причины расхождений: «В самый разгар эмигрантского безденежья разнесся слух, что у меня есть какая-то сумма денег, врученная мне для пропаганды. Молодым людям казалось справедливым ее у меня отобрать». Речь идет о знаменитом таинственном спонсоре революции, некоем Бахметьеве, юноше, получившем наследство и уехавшем строить социализм «на Маркизовы острова». По дороге, заехав в Лондон, он оставил Герцену круглую сумму «на пропаганду», которую тот положил в банк Ротшильда под процент, обязавшись, во-первых, ждать как можно дольше возвращения Бахметьева, а во-вторых, тратить эти деньги только совместно с Огаревым. Хотя след жертвователя пропал бесследно, на все притязания «молодых штурманов будущей бури» Герцен отвечает отказом. О молодых революционерах-землевольцах Герцен, объясняя свою позицию, пишет: «…Их систематическая неотесанность, их грубая и дерзкая речь не имеет ничего общего с неоскорбительной и простодушной грубостью крестьянина и очень много с приемами подьяческого круга, торгового прилавка и лакейской помещичьего дома. Народ их так же мало счел за своих, как славянофилов в мурмолках. Для него они остались сужим, низшим слоем враждебного стана, исхудалыми баричами, стрекулистами без места, немцами из русских».
Задуманный как объединительный, конгресс играет роль прямо противоположную – эмиграция разделяется на два непримиримых лагеря. Герцен напишет Огареву о своем бывшем протеже: «Утин хуже других по безграничному самолюбию», – называет его «самым лицемерным из наших заклятых врагов». В другом месте: «У них нет ни связей, ни таланта, ни образования. <…> Им хочется играть роль, и они хотят употребить нас пьедесталом. <…> Женева при разрыве с этими господами делается превосходным местом. Они надоели бы, как горькая редька». Причем каждая сторона после сорвавшихся переговоров обвиняет в провале объединения противника. Герцен – Огареву: «Женевские щенята в последнюю минуту отказались от всего (по приказу из Цюриха), – да черт же с ними, наконец». «Приказ из Цюриха» – намек на проживавшего в то время в цюрихском пансионе Шелгуновой Александра Серно-Соловьевича, тоже участника переговоров. Скоро и Шелгунова, и Серно-Соловьевич переселятся в Женеву. Герцен Огареву: «Серно-Соловьевич – главный противник наш».
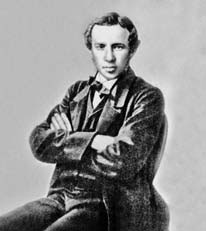 А.А. Серно-Соловьевич
А.А. Серно-Соловьевич
Александр Серно-Соловьевич – еще одна яркая фигура в истории долгого пути к революционной катастрофе. Собственно, сперва он был известен как младший брат «русского маркиза Поза», Николая Серно-Соловьевича, прославившегося тем, что в сентябре 1858 года подал гулявшему по Царскосельскому саду Александру II записку, в которой писал о бедствиях России и о необходимости уничтожения крепостничества. Прочитав записку, царь велел шефу жандармов А.Ф. Орлову поцеловать юношу. Воспитанник пушкинского Царскосельского лицея, Александр уже в ранние годы принимает русскую революционную идеологию ненависти. В письме товарищу он пишет: «Нужно воспитывать ядовитую злобу, лелеять ее, довести до последних пределов… Пусть будет она девизом, вечным знаменем, с которым нужно идти на борьбу, потому что невозможно никакое примирение там, где не хотят его знать, где все окружающее напоминает только о том, что ты грязь и ничтожество». Младший брат вместе с Николаем находится среди основателей «Земли и воли» и является фактически лидером организации. 7 июля 1862 года в один день арестованы Чернышевский и Николай Серно-Соловьевич. Александр незадолго до этого уезжает за границу в Швейцарию для «поправления здоровья». На требование правительства вернуться отвечает отказом и становится невозвращенцем. Его судят заочно, лишают всех прав и приговаривают к пожизненной ссылке. Кипучая натура жаждет деятельности. Идея все та же, которая будет преследовать русскую эмиграцию до и после всех революций, – объединение всех оппозиционных сил. Идея обреченная. Уже в 1862 году Александр Серно-Соловьевич пытается организовать типографию в Берне, специально ездит в Лондон на переговоры, но безрезультатно.
Разрыв с Герценом на Женевском конгрессе в 1864 году разгорается в непримиримую вражду. Серно-Соловьевич ощущает себя лидером антигерценовской партии: «Я протестую потому, чтобы засвидетельствовать, что “Колокол” не является больше знаменем молодой России, что он выражает только личные взгляды господ Герцена и Огарева». Некогда ревностный почитатель Герцена становится не менее ревностным ниспровергателем кумира.
Вскоре после женевского съезда у Серно-Соловьевича начинают проявляться первые признаки тяжелого психического заболевания. Сказывается и дурная наследственность, и неудачи «дела», и личные переживания. Революционный товарищ Серно-Соловьевича, хозяйка цюрихского, а потом и женевского пансиона, располагавшегося на даче «Ольтомаре» (“Oltomare”), где проживают эмигранты, Людмила Петровна Шелгунова, жена известного революционного публициста, становится его любимой и рожает от него ребенка. Тучкова-Огарева, жена Герцена и Огарева, вспоминает: «Когда мы поселились в Женеве, там было много русских, почти все были нигилисты. Последние относились к Герцену крайне враждебно. Большая часть из них помещалась в русском подворье, или в русском пансионе г-жи Шелгуновой, той самой, которая несколько лет до нашего переезда на континент приезжала к Герцену в Лондон с мужем и с писателем Михайловым. С тех пор многое в ее жизни изменилось; муж ее давно уехал в Россию, жил где-то в глуши и постоянно писал в журналах, а Михайлов был сослан. В год или два разлуки с Михайловым она не только успела забыть его, но и заменить Серно-Соловьевичем-младшим». Оставим тон воспоминаний на совести мемуаристки, не очень большой почитательницы Шелгуновой, и продолжим цитату: «Я потому позволяю себе говорить об отношениях г-жи Шелгуновой с Михайловым и с Серно-Соловьевичем-младшим, что это было в то время всем известно и она этого не скрывала. Интерес не в сплетнях, не в интригах, а в последствиях, о которых я хочу рассказать. Серно-Соловьевич был моложе ее: горячий, ревнивый, вспыльчивый, он имел с г-жой Шелгуновой бурные сцены, и она стала его бояться. Когда у нее родился сын, то, чтобы покончить все отношения с ним, она решилась окрестить ребенка и отослать его на воспитание к мужу своему, Шелгунову». Молодой отец тяжело переживает разлуку с сыном. «С отъезда ребенка Серно-Соловьевич был вне себя, – продолжает рассказ Тучкова-Огарева, – грозил убить гжу Шелгунову, врывался к ней в комнату и становился в самом деле страшен. “У меня всё взяли, – говорил он с отчаянием, – теперь я ничем не дорожу”. Не знаю, как г-же Шелгуновой удалось, для своего успокоения, поместить Серно-Соловьевича в дом умалишенных, но это несомненный факт. Вероятно, друзья Серно-Соловьевича помогли».
В лечебницу «Брестенберг» в Аарау больного помещает Александр Черкесов, лицейский друг Серно-Соловьевича, причем деньги на лечение берет втайне от Соловьевича у его злейшего врага Герцена. Черкесов, в юности революционер, поддерживает своего друга в эмиграции. В 1865 году Черкесов уезжает на родину, где подвергается аресту, но ненадолго, выходит на свободу и открывает в Петербурге и в Москве популярные книжные магазины. В 1869–1870 годах он снова будет арестован по нечаевскому делу, но опять ненадолго. Впоследствии Черкесов станет адвокатом и мировым судьей.
«Раз перед вечером, – читаем дальше у Тучковой-Огаревой, – мы сидели втроем: Огарев, Герцен и я; вдруг дверь быстро отворяется, и вбегает человек с растерянным видом, оглядывается по сторонам, потом падает на колени перед Герценом – это Серно-Соловьевич, я узнаю его.
– Встаньте, встаньте, что с вами, – говорит Александр Иванович тронутым голосом.
– Нет, нет, не встану, я виноват перед вами, Александр Иванович, я клеветал на вас, клеветал на вас даже в печати… А все-таки я у вас прошу помощи, вы защитите меня от моих друзей, они опять запрут меня туда, чтоб ей было покойно. Вы знаете, я бежал из сумасшедшего дома, и прямо к вам, к врагу.
Герцен и Огарев подняли его, жали ему руки, уверяли его, что не помнят зла, и оставили у нас, но убедительно просили не ходить туда (к г-же Шелгуновой), где всё его раздражало.
Они смотрели на него всепрощающим взглядом, и я думала, глядя на них, что так, должно быть, любили и прощали первые христиане».
Летом 1866-го после побега Серно-Соловьевича из лечебницы Герцен и Огарев, желая помочь хоть и личному врагу, но товарищу по борьбе, поручают ему корректуру «Колокола», чтобы дать молодому революционеру заработок. Это, однако, не помешает Серно-Соловьевичу написать брошюру против своего благодетеля. А может, именно то, что он зависел материально от ненавистного ему Герцена, и сыграло свою роль. «Через короткое время, – пишет Тучкова-Огарева, – Серно-Соловьевич не выдержал, ушел туда, где его раздражали до бешенства, и его опять отвезли в психиатрическую больницу».
В 1867 году он, выйдя в очередной раз из лечебницы, публикует нашумевшую брошюру «Наши домашние дела», в которой крепко и не на самом высоком уровне полемики достается Герцену. Серно-Соловьевич от лица русской молодой эмиграции хоронит Герцена заживо, называет его «мертвым человеком», от которого уже нечего ждать. Особенно ополчился Серно-Соловьевич на фразу Герцена из статьи «Порядок торжествует»: «Мысль о перевороте без кровавых средств нам дорога…»
Дальнейшая жизнь Серно-Соловьевича – яркое быстрое угасание. В короткие просветы он снова бросается в революцию – становится членом женевской секции Интернационала, вступает в переписку с Марксом. Тот посылает своему русскому приверженцу первый том «Капитала» – сразу по выходе в свет. В конфликтах, раздиравших Интернационал, Серно-Соловьевич расходится с русскими, пошедшими в массе своей за Бакуниным.
Болезнь прогрессирует. Еще одним сильным ударом является известие о смерти брата Николая в русской тюрьме. В будущем некрологе, написанном Утиным, будут приведены слова Серно-Соловьевича, объяснявшие сделанный им выбор: «Меня мучит, что я не еду в Россию мстить за гибель моего брата и его друзей; но мое единоличное мщение было бы недостаточно и бессильно; работая здесь в общем деле, мы отомстим всему этому проклятому порядку, потому что в Интернационале лежит залог уничтожения этого порядка повсюду, повсеместно!»
Просветы в помешательстве становятся всё реже. Узнав от врача, что состояние его безнадежное, Серно-Соловьевич уже в последний раз бежит из больницы и 4 августа 1869 года кончает с собой в Женеве, на своей квартире на улице Савуаз (rue de Savoises, дом не сохранился). Тучкова-Огарева: «Серно-Соловьевич кончил самоубийством, и каким страшным! Он дал себе три смерти: отравился, перерезал жилы и задохся от разожженных углей в жаровне. Настрадался и вышел на волю!» Его уже разлагавшийся труп нашли в квартире только через несколько дней – по запаху, потревожившему соседей.
В своем предсмертном письме он написал: «Я люблю жизнь и людей и покидаю их с сожалением. Но смерть – это еще не самое большое зло. Намного страшнее смерти быть живым мертвецом».
В своих обширных мемуарах Шелгунова упомянет отца своего ребенка лишь одной фразой: «Второй брат, Александр, предвидя арест, успел уехать за границу, где прожил лет пять то в больнице, то на свободе, так как он был душевнобольным, как была душевнобольной и его мать, и затем кончил дни свои самоубийством».
В короткий период работы корректором в «Колоколе» Серно-Соловьевич жил у Герценов – в их женевском поместье Шатле-де-ла-Буасьер (Le Châtelet de la Boissie`re, Route de Chêne), скромно называемом Тучковой-Огаревой в своих воспоминаниях дачей. Это первый постоянный адрес Герцена в Женеве после переселения его на континент.
Отношения гражданина общины Муртен в кантоне Фрибур со своей избранной родиной складываются не менее сложно, чем с родиной неизбранной. В одном из писем Герцен пишет о достижениях демократической республики: «Gott protege la Svizzera! Вот что может сделать народ в 3 миллиона, когда он народ, а не стадо. Ну что галлы и немцы… Шутки в сторону, я горжусь моим отечеством-bis». В другом письме: «То всё до того ужасно, что заставляет ненавидеть эту подлую Швейцарию».
 Поместье Герценов Буасьер
Поместье Герценов Буасьер
В 1849 году он бежит в Швейцарию из Парижа, спасаясь от полиции и холеры. Те первые швейцарские годы омрачены трагическими событиями: предательством друга Гервега, гибелью матери, сына, мучительной болезнью и смертью жены. Последовавший переезд из Швейцарии в Лондон – это и попытка оторвать от себя прошлое. «Дело» захватывает его, помогает выжить в череде семейных несчастий. После смерти Николая I одним из первых вырывается на Запад Огарев. Вдвоем с другом они своими изданиями дают голос рождающемуся общественному мнению России. Но и бесконечной семейной трагедии придается новый импульс. Тучкова уходит от Огарева и становится женой Герцена почти сразу после приезда их в Лондон – союз, не принесший счастья никому. Клубок страстей, ненависти и любви только затягивается. Герцен мечтает о большой дружной семье, но Тучкова восстанавливает против себя детей его из первого брака, всё усложняет ее характер, крутой и истеричный. Семья распадается, старшие дети Герцена разъезжаются, воспитываются кто где, по разным семьям и странам, их отношение к мачехе становится почти враждебным. У Герцена и Тучковой рождаются дочь Лиза, близнецы Елена и Алексей. Но надежда, что новая семья принесет счастье, тоже обманывает. Борцы против мещанской морали на словах и передовые люди своего времени в блистательных статьях, в быту они – обыкновенные смертные и свои «внебрачные» отношения пытаются держать втайне от всех, а дети Тучковой и Герцена считаются детьми Огарева. Очередной удар не имеющей жалости судьбы – умирают близнецы. Тучкова после пережитой трагедии хочет уехать в Россию с Лизой, их старшей дочерью. Герцен не отпускает ребенка, борьба за дочь принимает формы драматические. Вся эта обстановка, в которой проходит детство, не может не сказаться на ребенке. Лиза ненадолго переживет своего отца – в семнадцать лет она покончит с собой.
– Кажется, началось, я очень страдаю! – ответила я.
– Как мне тебя жалко, дорогая моя! – самым жалостливым голосом проговорил мой муж, и вдруг голова его склонилась на подушку, и он мгновенно уснул. Меня страшно растрогала его искренняя нежность, а вместе и полнейшая беспомощность».
Только к утру, придя в себя, Достоевский бежит за акушеркой. Служанка отказывается будить ее. Достоевский «пригрозил, что будет продолжать звонить и выбьет стекла». Акушерку привозят, та осматривает Анну Григорьевну, делает выговор, что ее так рано побеспокоили, и обещает приехать вечером. «В обещанный час m-me Barraud не приехала, и муж вновь пошел за нею. Оказалось, что она уехала обедать к друзьям, где-то около вокзала». Через некоторое время Достоевский снова отправляется к женевской повивальной бабке – та сидит с друзьями за семейным лото. «M-me Barraud была, видимо, недовольна, что ее оторвали от интересной игры, – вспоминает Достоевская, – и высказывала это мне, прибавляя несколько раз: “Oh, ces russes, ces russes!”»
Роды продолжаются тридцать три часа. Рождается девочка – 5 марта (22 февраля) 1868 года. Ее называют Соней.

«Федор Михайлович в порыве радости обнял m-me Barraud, а сиделке несколько раз крепко пожал руку. Акушерка сказала мне, что за свою многолетнюю практику ей не приходилось видеть отца новорожденного в таком волнении и расстройстве, в каком был всё время мой муж, и опять повторила: “Oh, ces russes, ces russes!”»
Для Достоевских начинается новая, полная бессонницы и волнений жизнь родителей. «К моему большому счастию, Федор Михайлович оказался нежнейшим отцом: он непременно присутствовал при купании девочки и помогал мне, сам завертывал ее в пикейное одеяльце и зашпиливал его английскими булавками, носил и укачивал ее на руках и, бросая свои занятия, спешил к ней, чуть только заслышит ее голосок». Достоевский – Майкову: «А Ваша крестница – сообщаю Вам – прехорошенькая, несмотря на то, что до невозможного, до смешного даже похожа на меня. Даже до странности. Я бы этому не поверил, если б не видел. Ребенку только что месяц, а совершенно даже мое выражение лица, полная моя физиономия, до морщин на лбу, – лежит – точно роман сочиняет!»
С рождением ребенка нехватка денег становится особенно острой. В письме Майкову: «Я вчера заложил последнее свое пальто…» И еще: «Все до последней тряпки, моей и жены, заложены. Долги настоятельные, необходные, немедленные». А в начале апреля – сразу же при получении денег – опять срывается на рулетку.
16 мая девочку крестят в недавно открытой русской церкви. Через неделю – 24 мая – Сонечка умирает.
Анна Григорьевна: «Погода внезапно изменилась, началась биза (bise), и, очевидно, девочка простудилась, потому что в ту же ночь у нее повысилась температура и появился кашель. Мы тотчас обратились к лучшему детскому врачу, и он посещал нас каждый день, уверяя, что девочка наша поправится. Даже за три часа до ее смерти говорил, что больной значительно лучше». И дальше: «Такого бурного отчаяния я никогда более не видела. Обоим нам казалось, что мы не вынесем нашего горя. Два дня мы вместе, не разлучаясь ни на минуту, ходили по разным учреждениям, чтобы получить дозволение похоронить нашу крошку, вместе заказывали всё необходимое для ее погребения, вместе наряжали в белое атласное платьице, вместе укладывали в белый, обитый атласом гробик и плакали, безудержно плакали. На Федора Михайловича было страшно смотреть, до того он осунулся и похудал за неделю болезни Сони. На третий день мы свезли наше сокровище для отпевания в русскую церковь, а оттуда на кладбище в Plainpalais, где и схоронили в отделе, отведенном для погребения младенцев. Через несколько дней могила ее была обсажена кипарисами, а среди них был поставлен мраморный крест. Каждый день мы с мужем ходили на ее могилку, носили цветы и плакали».
Достоевский – Майкову: «Она начинала меня знать, любить и улыбалась, когда я подходил. Когда я своим смешным голосом пел ей песни, она любила их слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я ее целовал; она останавливалась плакать, когда я подходил. И вот теперь мне говорят в утешение, что у меня еще будут дети. А Соня где?»
В дневнике Анны Григорьевны есть запись, сделанная еще в сентябре, когда она беременная гуляла по городу: «Мне вздумалось идти на кладбище, оно находится на Plainpalais. В середине его находится отличный костел. Мне здешнее кладбище понравилось, и, право, если бы уж умереть за границей, то я бы желала быть похороненной здесь, на этом кладбище… Здесь мне показалось до крайней степени спокойно, просто чудно, посидела я несколько времени на скамейке, потом ходила, рассматривала памятники».
Достоевский приедет сюда на могилу дочери еще раз, в 1874 году, когда отправится за границу на лечение на германском курорте Бад-Эмс (Bad Ems). Надгробная плита в современном виде установлена в 1979 году.
Этот нелюбимый город принес несчастье. Первая мысль – прочь. Анна Григорьевна: «Оставаться в Женеве, где всё напоминало нам Соню, было немыслимо, и мы решили немедленно исполнить наше давнишнее намерение и переселиться в Vevey, на том же Женевском озере. Жалели мы очень о том, что, по недостатку средств, не могли совсем уехать из Швейцарии, которая стала для моего мужа почти ненавистна: он винил в смерти Сонечки и дурной, изменчивый климат Женевы, и самонадеянность доктора, и неумелость няньки и пр. Самих швейцарцев Федор Михайлович и всегда недолюбливал, но черствость и бессердечие, высказанные многими из них в минуты нашего тяжкого горя, еще увеличили эту неприязнь. Как пример бессердечия, приведу, что наши соседи, зная о нашей утрате, тем не менее прислали просить, чтоб я громко не плакала, так как это действует им на нервы».
Через много лет на стене этого дома по улице Монблан (rue du Mont-Blanc, 16) повесят скромную мемориальную доску, которая затеряется среди пестрой рекламы.
«Умники», столь ненавистные Достоевскому, – это русские революционеры, и прежде всего так называемая «молодая эмиграция», обосновавшаяся в Женеве. Лидер женевских «умников» – Николай Утин. О его значении для русской интеллигенции того времени можно судить по письму Достоевского Майкову из Женевы, в котором писатель называет этого молодого человека среди знаменитостей: «А что же они-то, Тургеневы, Герцены, Утины, Чернышевские, нам представили?»

Отец Николая Утина – откупщик, миллионер-виноторговец, владелец роскошных особняков в Петербурге, не жалел денег на своих четырех сыновей. Николай получает разностороннее образование, летние месяцы семья проводит за границей, в Петербургском университете он учится на историко-филологическом факультете, пишет кандидатскую диссертацию об Аполлонии Тианском. На ту же тему, кстати, пишет свою диссертацию знаменитый впоследствии Писарев, но победа достается Утину. Ему присуждена золотая медаль, сопернику приходится довольствоваться серебряной. Однако столь блистательное академическое начало не находит продолжения – юноша начинает участвовать в революционном университетском движении и быстро выбивается в вожаки. Апостол студенческой России Чернышевский отмечает его среди других и приближает к себе. В анонимном доносе некто сообщает: «Утин – правая рука Чернышевского». Инициатор и участник студенческих волнений в Петербурге, член «Земли и воли», Утин в 1863 году, спасаясь от ареста, бежит через Черное море на Запад. Сначала молодой человек отправляется, по тогдашней моде, на поклон к Герцену в Лондон. Желая быть полезным «делу», он занимается переправкой герценовских изданий в Россию, где заочно в 1865 году судим и приговорен к смертной казни: «Казнить смертью расстрелянием, каковое наказание исполнить над ним по поимке или по явке его в отечество». Очень быстро между ним и Герценом наступает охлаждение: Герцен отказывается печатать утинскую статью, для самолюбивого молодого человека это удар, который так просто не забывается. Поклонение меняется на скрытую пока ненависть.
Утин поселяется в Женеве, которая постепенно становится центром русской революционной эмиграции, на улице Приере (aux Pâquis, rue de Prieure´, 5). Молодой революционер ощущает себя призванным объединить и возглавить разрозненные силы русского «освободительного» движения и выступает с идеей объединительного съезда эмигрантов. В письмах он зовет Герцена переехать в Швейцарию из Лондона.
«Колокол» переживает не лучшие времена. Самое популярное в империи Александра Освободителя издание принесло лондонскому изгнаннику всероссийскую славу. В своих письмах Герцен усердно пересказывает принесенный кем-то ему в Лондон анекдот, будто государь начинает свой рабочий день с прочтения герценовских статей. Однако закон непостоянства славы касается и могучего громовержца Искандера. «Колокол» резко теряет популярность в России после того, как поддерживает поляков во время польского восстания 1863 года. Герцен нарушает ту границу, где русское свободомыслие головы сталкивается с патриотическим нутром, – тираж падает в пять раз. «Этот упадок Герцен приписывал тому, что он писал в <Колоколе> статьи в пользу поляков», – вспоминает Шелгунов, один из героев того «революционно-демократического» времени. Иссякает и поток посетителей из России, устремившийся вследствие «открытия границ» после смерти Николая I на берега Альбиона, чтобы пожать руку изгнаннику-победителю.
Герцен мучительно переживает эту образовавшуюся вокруг него пустоту. Пропала уверенность, что он идет впереди России, своим блистательным пером указывая народившемуся обществу направление. Но ему кажется, что еще не всё потеряно, что он еще может нагнать, объясниться, снова стать во главе. В письмах 1864 года постоянно появляется мысль, что необходимо переехать в Швейцарию, чтобы вдохнуть в «Колокол» новую жизнь. Огареву из Женевы: «Что “Колокол” издавать в Лондоне при новом взмахе в России нельзя, это для меня ясно. Здесь перекрещиваются беспрерывно едущие из и во Францию, из и в Италию, здесь многие живут и пр.»
Переезд на континент и перенос издания в Женеву – к концу 1864 года дело почти решенное. Возникает вопрос о союзниках. В декабре этого страшного для него года Герцен приезжает на так называемый Женевский конгресс – первый объединительный съезд русской эмиграции, организованный Утиным. Приезжает с похорон. 4 декабря умирает от дифтерита трехлетняя дочь Герцена Елена, через неделю, 11 декабря, сын Алексей – близнецы. В эти декабрьские дни Герцен пишет старшей дочери и ее воспитательнице: «Какую мрачную и страшную страницу я пережил, все мы пережили, трудно сказать вам это. Я присутствовал при ужасающем зрелище самой жестокой смерти – смерти от удушья – этих двух детей. Я держал девочку во время операции трахеотомии и закрыл глаза мальчику… Всё это сразу; удар за ударом… как сон…»
И вот через несколько дней – переговоры в Женеве с молодой эмиграцией. Герцен приезжает в город на Роне с Огаревым и своим старшим сыном Александром. Утин требует «Колокол» или фонд Бахметьева для издания своей газеты. Главное обвинение Герцену – старик держит монополию на революционную прессу. Герцен сначала готов поделиться, но глубоко оскорблен отсутствием уважительного к себе отношения со стороны молодых людей.
В статье «Молодая эмиграция» он дает свой взгляд на причины расхождений: «В самый разгар эмигрантского безденежья разнесся слух, что у меня есть какая-то сумма денег, врученная мне для пропаганды. Молодым людям казалось справедливым ее у меня отобрать». Речь идет о знаменитом таинственном спонсоре революции, некоем Бахметьеве, юноше, получившем наследство и уехавшем строить социализм «на Маркизовы острова». По дороге, заехав в Лондон, он оставил Герцену круглую сумму «на пропаганду», которую тот положил в банк Ротшильда под процент, обязавшись, во-первых, ждать как можно дольше возвращения Бахметьева, а во-вторых, тратить эти деньги только совместно с Огаревым. Хотя след жертвователя пропал бесследно, на все притязания «молодых штурманов будущей бури» Герцен отвечает отказом. О молодых революционерах-землевольцах Герцен, объясняя свою позицию, пишет: «…Их систематическая неотесанность, их грубая и дерзкая речь не имеет ничего общего с неоскорбительной и простодушной грубостью крестьянина и очень много с приемами подьяческого круга, торгового прилавка и лакейской помещичьего дома. Народ их так же мало счел за своих, как славянофилов в мурмолках. Для него они остались сужим, низшим слоем враждебного стана, исхудалыми баричами, стрекулистами без места, немцами из русских».
Задуманный как объединительный, конгресс играет роль прямо противоположную – эмиграция разделяется на два непримиримых лагеря. Герцен напишет Огареву о своем бывшем протеже: «Утин хуже других по безграничному самолюбию», – называет его «самым лицемерным из наших заклятых врагов». В другом месте: «У них нет ни связей, ни таланта, ни образования. <…> Им хочется играть роль, и они хотят употребить нас пьедесталом. <…> Женева при разрыве с этими господами делается превосходным местом. Они надоели бы, как горькая редька». Причем каждая сторона после сорвавшихся переговоров обвиняет в провале объединения противника. Герцен – Огареву: «Женевские щенята в последнюю минуту отказались от всего (по приказу из Цюриха), – да черт же с ними, наконец». «Приказ из Цюриха» – намек на проживавшего в то время в цюрихском пансионе Шелгуновой Александра Серно-Соловьевича, тоже участника переговоров. Скоро и Шелгунова, и Серно-Соловьевич переселятся в Женеву. Герцен Огареву: «Серно-Соловьевич – главный противник наш».
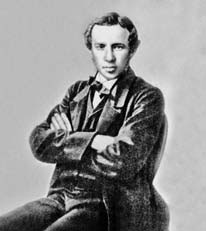
Александр Серно-Соловьевич – еще одна яркая фигура в истории долгого пути к революционной катастрофе. Собственно, сперва он был известен как младший брат «русского маркиза Поза», Николая Серно-Соловьевича, прославившегося тем, что в сентябре 1858 года подал гулявшему по Царскосельскому саду Александру II записку, в которой писал о бедствиях России и о необходимости уничтожения крепостничества. Прочитав записку, царь велел шефу жандармов А.Ф. Орлову поцеловать юношу. Воспитанник пушкинского Царскосельского лицея, Александр уже в ранние годы принимает русскую революционную идеологию ненависти. В письме товарищу он пишет: «Нужно воспитывать ядовитую злобу, лелеять ее, довести до последних пределов… Пусть будет она девизом, вечным знаменем, с которым нужно идти на борьбу, потому что невозможно никакое примирение там, где не хотят его знать, где все окружающее напоминает только о том, что ты грязь и ничтожество». Младший брат вместе с Николаем находится среди основателей «Земли и воли» и является фактически лидером организации. 7 июля 1862 года в один день арестованы Чернышевский и Николай Серно-Соловьевич. Александр незадолго до этого уезжает за границу в Швейцарию для «поправления здоровья». На требование правительства вернуться отвечает отказом и становится невозвращенцем. Его судят заочно, лишают всех прав и приговаривают к пожизненной ссылке. Кипучая натура жаждет деятельности. Идея все та же, которая будет преследовать русскую эмиграцию до и после всех революций, – объединение всех оппозиционных сил. Идея обреченная. Уже в 1862 году Александр Серно-Соловьевич пытается организовать типографию в Берне, специально ездит в Лондон на переговоры, но безрезультатно.
Разрыв с Герценом на Женевском конгрессе в 1864 году разгорается в непримиримую вражду. Серно-Соловьевич ощущает себя лидером антигерценовской партии: «Я протестую потому, чтобы засвидетельствовать, что “Колокол” не является больше знаменем молодой России, что он выражает только личные взгляды господ Герцена и Огарева». Некогда ревностный почитатель Герцена становится не менее ревностным ниспровергателем кумира.
Вскоре после женевского съезда у Серно-Соловьевича начинают проявляться первые признаки тяжелого психического заболевания. Сказывается и дурная наследственность, и неудачи «дела», и личные переживания. Революционный товарищ Серно-Соловьевича, хозяйка цюрихского, а потом и женевского пансиона, располагавшегося на даче «Ольтомаре» (“Oltomare”), где проживают эмигранты, Людмила Петровна Шелгунова, жена известного революционного публициста, становится его любимой и рожает от него ребенка. Тучкова-Огарева, жена Герцена и Огарева, вспоминает: «Когда мы поселились в Женеве, там было много русских, почти все были нигилисты. Последние относились к Герцену крайне враждебно. Большая часть из них помещалась в русском подворье, или в русском пансионе г-жи Шелгуновой, той самой, которая несколько лет до нашего переезда на континент приезжала к Герцену в Лондон с мужем и с писателем Михайловым. С тех пор многое в ее жизни изменилось; муж ее давно уехал в Россию, жил где-то в глуши и постоянно писал в журналах, а Михайлов был сослан. В год или два разлуки с Михайловым она не только успела забыть его, но и заменить Серно-Соловьевичем-младшим». Оставим тон воспоминаний на совести мемуаристки, не очень большой почитательницы Шелгуновой, и продолжим цитату: «Я потому позволяю себе говорить об отношениях г-жи Шелгуновой с Михайловым и с Серно-Соловьевичем-младшим, что это было в то время всем известно и она этого не скрывала. Интерес не в сплетнях, не в интригах, а в последствиях, о которых я хочу рассказать. Серно-Соловьевич был моложе ее: горячий, ревнивый, вспыльчивый, он имел с г-жой Шелгуновой бурные сцены, и она стала его бояться. Когда у нее родился сын, то, чтобы покончить все отношения с ним, она решилась окрестить ребенка и отослать его на воспитание к мужу своему, Шелгунову». Молодой отец тяжело переживает разлуку с сыном. «С отъезда ребенка Серно-Соловьевич был вне себя, – продолжает рассказ Тучкова-Огарева, – грозил убить гжу Шелгунову, врывался к ней в комнату и становился в самом деле страшен. “У меня всё взяли, – говорил он с отчаянием, – теперь я ничем не дорожу”. Не знаю, как г-же Шелгуновой удалось, для своего успокоения, поместить Серно-Соловьевича в дом умалишенных, но это несомненный факт. Вероятно, друзья Серно-Соловьевича помогли».
В лечебницу «Брестенберг» в Аарау больного помещает Александр Черкесов, лицейский друг Серно-Соловьевича, причем деньги на лечение берет втайне от Соловьевича у его злейшего врага Герцена. Черкесов, в юности революционер, поддерживает своего друга в эмиграции. В 1865 году Черкесов уезжает на родину, где подвергается аресту, но ненадолго, выходит на свободу и открывает в Петербурге и в Москве популярные книжные магазины. В 1869–1870 годах он снова будет арестован по нечаевскому делу, но опять ненадолго. Впоследствии Черкесов станет адвокатом и мировым судьей.
«Раз перед вечером, – читаем дальше у Тучковой-Огаревой, – мы сидели втроем: Огарев, Герцен и я; вдруг дверь быстро отворяется, и вбегает человек с растерянным видом, оглядывается по сторонам, потом падает на колени перед Герценом – это Серно-Соловьевич, я узнаю его.
– Встаньте, встаньте, что с вами, – говорит Александр Иванович тронутым голосом.
– Нет, нет, не встану, я виноват перед вами, Александр Иванович, я клеветал на вас, клеветал на вас даже в печати… А все-таки я у вас прошу помощи, вы защитите меня от моих друзей, они опять запрут меня туда, чтоб ей было покойно. Вы знаете, я бежал из сумасшедшего дома, и прямо к вам, к врагу.
Герцен и Огарев подняли его, жали ему руки, уверяли его, что не помнят зла, и оставили у нас, но убедительно просили не ходить туда (к г-же Шелгуновой), где всё его раздражало.
Они смотрели на него всепрощающим взглядом, и я думала, глядя на них, что так, должно быть, любили и прощали первые христиане».
Летом 1866-го после побега Серно-Соловьевича из лечебницы Герцен и Огарев, желая помочь хоть и личному врагу, но товарищу по борьбе, поручают ему корректуру «Колокола», чтобы дать молодому революционеру заработок. Это, однако, не помешает Серно-Соловьевичу написать брошюру против своего благодетеля. А может, именно то, что он зависел материально от ненавистного ему Герцена, и сыграло свою роль. «Через короткое время, – пишет Тучкова-Огарева, – Серно-Соловьевич не выдержал, ушел туда, где его раздражали до бешенства, и его опять отвезли в психиатрическую больницу».
В 1867 году он, выйдя в очередной раз из лечебницы, публикует нашумевшую брошюру «Наши домашние дела», в которой крепко и не на самом высоком уровне полемики достается Герцену. Серно-Соловьевич от лица русской молодой эмиграции хоронит Герцена заживо, называет его «мертвым человеком», от которого уже нечего ждать. Особенно ополчился Серно-Соловьевич на фразу Герцена из статьи «Порядок торжествует»: «Мысль о перевороте без кровавых средств нам дорога…»
Дальнейшая жизнь Серно-Соловьевича – яркое быстрое угасание. В короткие просветы он снова бросается в революцию – становится членом женевской секции Интернационала, вступает в переписку с Марксом. Тот посылает своему русскому приверженцу первый том «Капитала» – сразу по выходе в свет. В конфликтах, раздиравших Интернационал, Серно-Соловьевич расходится с русскими, пошедшими в массе своей за Бакуниным.
Болезнь прогрессирует. Еще одним сильным ударом является известие о смерти брата Николая в русской тюрьме. В будущем некрологе, написанном Утиным, будут приведены слова Серно-Соловьевича, объяснявшие сделанный им выбор: «Меня мучит, что я не еду в Россию мстить за гибель моего брата и его друзей; но мое единоличное мщение было бы недостаточно и бессильно; работая здесь в общем деле, мы отомстим всему этому проклятому порядку, потому что в Интернационале лежит залог уничтожения этого порядка повсюду, повсеместно!»
Просветы в помешательстве становятся всё реже. Узнав от врача, что состояние его безнадежное, Серно-Соловьевич уже в последний раз бежит из больницы и 4 августа 1869 года кончает с собой в Женеве, на своей квартире на улице Савуаз (rue de Savoises, дом не сохранился). Тучкова-Огарева: «Серно-Соловьевич кончил самоубийством, и каким страшным! Он дал себе три смерти: отравился, перерезал жилы и задохся от разожженных углей в жаровне. Настрадался и вышел на волю!» Его уже разлагавшийся труп нашли в квартире только через несколько дней – по запаху, потревожившему соседей.
В своем предсмертном письме он написал: «Я люблю жизнь и людей и покидаю их с сожалением. Но смерть – это еще не самое большое зло. Намного страшнее смерти быть живым мертвецом».
В своих обширных мемуарах Шелгунова упомянет отца своего ребенка лишь одной фразой: «Второй брат, Александр, предвидя арест, успел уехать за границу, где прожил лет пять то в больнице, то на свободе, так как он был душевнобольным, как была душевнобольной и его мать, и затем кончил дни свои самоубийством».
В короткий период работы корректором в «Колоколе» Серно-Соловьевич жил у Герценов – в их женевском поместье Шатле-де-ла-Буасьер (Le Châtelet de la Boissie`re, Route de Chêne), скромно называемом Тучковой-Огаревой в своих воспоминаниях дачей. Это первый постоянный адрес Герцена в Женеве после переселения его на континент.
Отношения гражданина общины Муртен в кантоне Фрибур со своей избранной родиной складываются не менее сложно, чем с родиной неизбранной. В одном из писем Герцен пишет о достижениях демократической республики: «Gott protege la Svizzera! Вот что может сделать народ в 3 миллиона, когда он народ, а не стадо. Ну что галлы и немцы… Шутки в сторону, я горжусь моим отечеством-bis». В другом письме: «То всё до того ужасно, что заставляет ненавидеть эту подлую Швейцарию».

В 1849 году он бежит в Швейцарию из Парижа, спасаясь от полиции и холеры. Те первые швейцарские годы омрачены трагическими событиями: предательством друга Гервега, гибелью матери, сына, мучительной болезнью и смертью жены. Последовавший переезд из Швейцарии в Лондон – это и попытка оторвать от себя прошлое. «Дело» захватывает его, помогает выжить в череде семейных несчастий. После смерти Николая I одним из первых вырывается на Запад Огарев. Вдвоем с другом они своими изданиями дают голос рождающемуся общественному мнению России. Но и бесконечной семейной трагедии придается новый импульс. Тучкова уходит от Огарева и становится женой Герцена почти сразу после приезда их в Лондон – союз, не принесший счастья никому. Клубок страстей, ненависти и любви только затягивается. Герцен мечтает о большой дружной семье, но Тучкова восстанавливает против себя детей его из первого брака, всё усложняет ее характер, крутой и истеричный. Семья распадается, старшие дети Герцена разъезжаются, воспитываются кто где, по разным семьям и странам, их отношение к мачехе становится почти враждебным. У Герцена и Тучковой рождаются дочь Лиза, близнецы Елена и Алексей. Но надежда, что новая семья принесет счастье, тоже обманывает. Борцы против мещанской морали на словах и передовые люди своего времени в блистательных статьях, в быту они – обыкновенные смертные и свои «внебрачные» отношения пытаются держать втайне от всех, а дети Тучковой и Герцена считаются детьми Огарева. Очередной удар не имеющей жалости судьбы – умирают близнецы. Тучкова после пережитой трагедии хочет уехать в Россию с Лизой, их старшей дочерью. Герцен не отпускает ребенка, борьба за дочь принимает формы драматические. Вся эта обстановка, в которой проходит детство, не может не сказаться на ребенке. Лиза ненадолго переживет своего отца – в семнадцать лет она покончит с собой.
