Страница:
– Почему?
– Ну, вот этого я вам не скажу.
Шельга покусал кожицу на губе. Смотрел вдоль пустынного бульвара.
Питкевич продолжал:
– У него не только изуродована рука, – у него на теле чудовищный шрам наискосок через грудь. Изуродовал Гарин в тысяча девятьсот девятнадцатом году. Человека этого зовут Стась Тыклинский…
– Что же, – спросил Шельга, – покойный Гарин изуродовал его тем же способом, каким он разрезал трёхдюймовые доски?
Питкевич быстро повернул голову к собеседнику, и они некоторое время глядели в глаза друг другу: один спокойно и непроницаемо, другой весело и открыто.
– Арестовать меня всё-таки вы намереваетесь, товарищ Шельга?
– Нет… Это мы всегда успеем.
– Вы правы. Я знаю много. Но, разумеется, никакими принудительными мерами вы не выпытаете у меня того, чего я не хочу открывать. В преступлении я не замешан, вы сами знаете. Хотите – игру в открытую? Условия борьбы: после хорошего удара мы встречаемся и откровенно беседуем. Это будет похоже на шахматную партию. Запрещённые приёмы – убивать друг друга до смерти. Кстати – покуда мы с вами беседуем, вы подвергались смертельной опасности, уверяю вас, – я не шучу. Если бы на вашем месте сидел Стась Тыклинский, то я бы, скажем, осмотрелся, – пустынно, – и пошёл бы, не спеша, на Сенатскую площадь, а его бы нашли на этой скамейке безнадёжно мёртвым, с отвратительными пятнами на теле. Но, повторяю, к вам этих фокусов применять не стану. Хотите партию?
– Ладно. Согласен, – сказал Шельга, блестя глазами, – нападать буду я первым, так?
– Разумеется, если бы вы не поймали меня на почтамте, я бы сам, конечно, не предложил игры. А что касается четырёхпалого поляка – обещаю помогать в его розыске. Где бы его ни встретил – я вам немедленно сообщу по телефону или телеграфно.
– Ладно. А теперь, Питкевич, покажите, что у вас за штука такая, чем вы грозитесь…
Питкевич качнул головой, усмехнулся: «Будь по-вашему – игра открытая», и осторожно вынул из бокового кармана плоскую коробку. В ней лежала металлическая, в палец толщины, трубка.
– Вот и всё, только надавить с одного конца, – там внутри хрустнет стёклышко.
Шельга действительно был одурачен вчистую. Он стоял в двух шагах от убийцы (в этом теперь не было сомнения) и не взял его. Он говорил с человеком, знающим, видимо, все нити убийства, и тот умудрился ничего ему не сказать по существу. Этот Пьянков-Питкевич владел какой-то тайной… Шельга вдруг понял – именно государственного, мирового значения была эта тайна… Он уже за хвост держал Пьянкова-Питкевича, – «вывернулся, проклятый, обошёл!»
Шельга взбежал на третий этаж к себе в отдел. На столе лежал пакет из газетной бумаги. В глубокой нише окна сидел смирный толстенький человек в смазных сапогах. Держа картуз у живота, он поклонился Шельге.
– Бабичев, управдом, – сказал он с сильно самогонным духом, – по Пушкарской улице двадцать четвёртый номер дома, жилтоварищество.
– Это вы принесли пакет?
– Я принёс. Из квартиры номер тринадцатый… Это не в главном корпусе, а в пристроечке. Жилец вторые сутки у нас пропал. Сегодня милицию позвали, дверь вскрыли, составили акт в порядке закона, – управдом прикрыл рот рукой, щёки его покраснели, глаза слегка вылезли, увлажнились, дух самогона наполнил комнату, – значит, этот пакет я нашёл дополнительно в печке.
– Фамилия пропавшего жильца?
– Савельев, Иван Алексеевич.
Шельга развернул пакет. Там оказались – фотографическая карточка Пьянкова-Питкевича, гребень, ножницы и склянка тёмной жидкости, краска для волос.
– Чем занимался Савельев?
– По учёной части. Когда у нас фановая труба лопнула – комитет к нему обратился… Он – «рад бы, говорит, вам помочь, но я химик».
– Он часто отлучался по ночам с квартиры?
– По ночам? Нет. Не замечалось, – управдом опять прикрыл рот, – чуть свет он – со двора, это верно. Но так, чтобы по ночам, – не замечалось, пьяным не видели.
– Ходили к нему знакомые?
– Не замечалось.
Шельга по телефону запросил отдел милиции Петроградской стороны. Оказалось, – в пристройке дома двадцать четыре по Пушкарской действительно проживал Савельев Иван Алексеевич, тридцати шести лет, инженер-химик. Поселился на Пушкарской в феврале с удостоверением личности, выданным тамбовской милицией.
Шельга послал телеграфный запрос в Тамбов и на автомобиле вместе с управдомом поехал на Фонтанку, где в отделе уголовного следствия, на леднике, лежал труп человека, убитого на Крестовском. Управдом сейчас же в нём признал жильца из тринадцатого номера.
Только здесь, в уединённой комнате (уставленной книжными полками и физическими приборами), он мог отдаться, наконец, ужасному волнению, почти отчаянию, потрясшему его со вчерашнего дня.
Его руки, сжимавшие лицо, дрожали. Он понимал, что смертельная опасность не миновала. Он был в окружении. Только какие-то небольшие возможности складывались в его пользу, из ста – девяносто девять было против. «Как неосторожно, ах, как неосторожно», – шептал он.
Усилием воли он, наконец, овладел своим волнением, ткнул кулаком грязную подушку, лёг навзничь и закрыл глаза.
Его мысли, перегруженные страшным напряжением, отдыхали. Несколько минут мёртвой неподвижности освежили его. Он поднялся, налил в стакан мадеры и выпил одним глотком. Когда горячая волна пошла по телу, он стал шагать по комнате, с методичной неторопливостью, ища этих небольших возможностей к спасению.
Он осторожно отогнул у плинтуса старые отставшие обои, вытащил из-под них листы чертежей и свернул их трубкой. Снял с полок несколько книг и всё это, вместе с чертежами и частями физических приборов, уложил в чемодан. Поминутно прислушиваясь, отнёс чемодан вниз и в одном из тёмных дровяных подвалов спрятал его под кучей мусора. Снова поднялся к себе, вынул из письменного стола револьвер, осмотрел, сунул в задний карман.
Было без четверти пять. Он опять лёг и курил одну папиросу за другой, бросая окурки в угол. «Разумеется, они не нашли!» – почти закричал он, сбрасывая ноги с дивана, и снова забегал по диагонали комнаты.
В сумерки он натянул грубые сапоги, надел парусиновое пальто и вышел из дому.
– На Крестовский, на дачу, где позавчера было убийство, послать немедленно наряд милиции…
Голос прервался. Дежурный сволочнулся в трубку. Вызвал проверочную, оказалось, что звонили из гребной школы. Позвонил в гребную школу. Там долго трещал телефон, наконец заспанный голос проговорил:
– Что нужно?
– От вас сейчас звонили?
– Звонили, – зевнув, ответил голос.
– Кто звонил?.. Вы видели?
– Нет, у нас электричество испорчено. Сказали, что по поручению товарища Шельги.
Через полчаса четверо милиционеров выскочили из грузовичка у заколоченной дачи на Крестовском. За берёзами тускло багровел остаток зари. В тишине слышались слабые стоны. Человек в тулупе лежал ничком близ чёрного крыльца. Его перевернули, – оказался сторож. Около него валялась вата, пропитанная хлороформом.
Дверь крыльца была раскрыта настежь. Замок сорван. Когда милиционеры проникли внутрь дачи, из подполья чей-то заглушённый голос закричал:
– Люк, отвалите люк в кухне, товарищи…
Столы, ящики, тяжёлые мешки навалены были горой у стены на кухне. Их раскидали, подняли крышку люка.
Из подполья выскочил Шельга, – весь в паутине, в пыли, с дикими глазами.
– Скорее сюда! – крикнул он, исчезая за дверью. – Свет, скорее!
В комнате (с железной кроватью) в свете потайных фонарей увидали на полу два расстрелянных револьвера, коричневый бархатный картуз и отвратительные, с едким запахом, следы рвоты.
– Осторожнее! – крикнул Шельга. – Не дышите, уходите, это – смерть!
Отступая, тесня к дверям милиционеров, он с ужасом, с омерзением глядел на валяющуюся на полу металлическую трубку величиной с человеческий палец.
Офис Роллинга на бульваре Мальзерб был мрачным и серьёзным помещением. Тёмного штофа[4] стены, тёмные бобрики[5] на полу, тёмная кожаная мебель. На тёмных столах, покрытых стеклом, лежали сборники реклам, справочные книги в коричневой юфте,[6] проспекты химических заводов. Несколько ржавых газовых снарядов и бомбомёт, привезённые с полей войны, украшали камин.
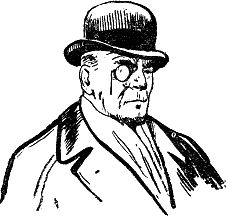 За высокими, тёмного ореха, дверями, в кабинете среди диаграмм, картограмм и фотографий сидел химический король Роллинг. Профильтрованные посетители неслышно по бобрику входили в приёмную, садились на кожаные стулья и с волнением глядели на ореховую дверь. Там, за дверью, самый воздух в кабинете короля был неимоверно драгоценен, так как его пронизывали мысли, стоящие пятьдесят тысяч долларов в секунду.
За высокими, тёмного ореха, дверями, в кабинете среди диаграмм, картограмм и фотографий сидел химический король Роллинг. Профильтрованные посетители неслышно по бобрику входили в приёмную, садились на кожаные стулья и с волнением глядели на ореховую дверь. Там, за дверью, самый воздух в кабинете короля был неимоверно драгоценен, так как его пронизывали мысли, стоящие пятьдесят тысяч долларов в секунду.
Какое человеческое сердце осталось бы спокойным, когда среди почтенной тишины в приёмной вдруг зашевелится бронзовая, в виде лапы, держащей шар, массивная ручка орехового дерева и появится маленький человек в тёмно-сером пиджачке, с известной всему миру бородкой, покрывающей щёки, мучительно неприветливый, почти сверхчеловек, с желтовато-нездоровым лицом, напоминающим известную всему миру марку изделий: жёлтый кружок с четырьмя чёрными полосками… Приоткрывая дверь, король вонзался глазами в посетителя и говорил с сильным американским акцентом – «прошу».
– Простите, ваша фамилия?
– Генерал Субботин, русский… эмигрант.
Отвечавший сердито вскинул плечи и скомканным платком провёл по серым усам.
Секретарь, улыбаясь так, будто разговор касается приятнейших, дружеских вещей, пролетел карандашом по блокнотику и спросил совсем уже осторожно:
– Какая цель, мосье Субботин, вашей предполагаемой беседы с мистером Роллингом?
– Чрезвычайная, весьма существенная.
– Быть может, я попытаюсь изложить её вкратце для представления мистеру Роллингу.
– Видите ли, – цель, так сказать, проста, план… Обоюдная выгода…
– План, касающийся химической борьбы с большевиками, я так понимаю? – спросил секретарь.
– Совершенно верно… Я намерен предложить мистеру Роллингу.
– Я боюсь, – с очаровательной вежливостью перебил его секретарь, и приятное лицо его изобразило даже страдание, – боюсь, что мистер Роллинг немного перегружен подобными планами. С прошлой недели к нам поступило от одних только русских сто двадцать четыре предложения о химической войне с большевиками. У нас в портфеле имеется прекрасная диспозиция[7] воздушно-химического нападения одновременно на Харьков, Москву и Петроград. Автор диспозиции остроумно развёртывает силы на плацдармах буферных государств,[8] – очень, очень интересно. Автор даёт даже точную смету: шесть тысяч восемьсот пятьдесят тонн горчичного газа для поголовного истребления жителей в этих столицах.
Генерал Субботин, побагровев от страшного прилива крови, перебил:
– В чём же дело, мистер, как вас! Мой план не хуже, но и этот – превосходный план. Надо действовать! От слов к делу… За чем же остановка?
– Дорогой генерал, остановка только за тем, что мистер Роллинг пока ещё не видит эквивалента своим расходам.
– Какого такого эквивалента?
– Сбросить шесть тысяч восемьсот пятьдесят тонн горчичного газа с аэропланов не составит труда для мистера Роллинга, но на это потребуются некоторые расходы. Война стоит денег, не правда ли? В представляемых планах мистер Роллинг пока видит одни расходы. Но эквивалента, то есть дохода от диверсий против большевиков, к сожалению, не указывается.
– Ясно, как божий день… доходы… колоссальные доходы всякому, кто возвратит России законных правителей, законный нормальный строй, – золотые горы такому человеку! – Генерал, как орёл, из-под бровей упёрся глазами в секретаря. – Ага! Значит, указать также эквивалент?
– Точно, вооружась цифрами: налево – пассив, направо – актив, затем – черту и разницу со знаком плюс, которая может заинтересовать мистера Роллинга.
– Ага! – генерал засопел, надвинул пыльную шляпу и решительно зашагал к двери.
– Доброе утро, дружище, – торопливо сказал он секретарю и бросил на стол шляпу и трость, – пропустите-ка меня к королю вне очереди.
Золотой карандашик секретаря повис в воздухе.
– Но мистер Роллинг сегодня особенно занят.
– Э, вздор, дружище… У меня в автомобиле дожидается человек, только что из Варшавы… Скажите Роллингу, что мы по делу Гарина.
У секретаря взлетели брови, и он исчез за ореховой дверью. Через минуту высунулся: «Мосье Семёнов, вас просят», – просвистал он нежным шёпотом. И сам нажал дверную ручку в виде лапы, держащей шар.
Семёнов встал перед глазами химического короля. Семёнов не выразил при этом особого волнения, во-первых, потому, что по натуре был хам, во-вторых, потому, что в эту минуту король нуждался в нём больше, чем он в короле.
Роллинг просверлил его зелёными глазами. Семёнов, и этим не смущаясь, сел напротив по другую сторону стола. Роллинг сказал:
– Ну?
– Дело сделано.
– Чертежи?
– Видите ли, мистер Роллинг, тут вышло некоторое недоразумение…
– Я спрашиваю, где чертежи? Я их не вижу, – свирепо сказал Роллинг и ладонью легко ударил по столу.
– Слушайте, Роллинг, мы условились, что я вам доставлю не только чертежи, но и самый прибор… Я сделал колоссально много… Нашёл людей… Послал их в Петроград. Они проникли в лабораторию Гарина. Они видели действие прибора… Но тут, чёрт его знает, что-то случилось… Во-первых, Гариных оказалось двое.
– Я это предполагал в самом начале, – брезгливо сказал Роллинг.
– Одного нам удалось убрать.
– Вы его убили?
– Если хотите – что-то в этом роде. Во всяком случае – он умер. Вас это не должно беспокоить: ликвидация произошла в Петрограде, сам он советский подданный, – пустяки… Но затем появился его двойник… Тогда мы сделали чудовищное усилие…
– Одним словом, – перебил Роллинг, – двойник или сам Гарин жив, и ни чертежей, ни приборов вы мне не доставили, несмотря на затраченные мною деньги.
– Хотите – я позову, – в автомобиле сидит Стась Тыклинский, участник всего этого дела, – он вам расскажет подробно.
– Не желаю видеть никакого Тыклинского, мне нужны чертежи и прибор… Удивляюсь вашей смелости – являться с пустыми руками…
Несмотря на холод этих слов, несмотря на то, что, окончив говорить, Роллинг убийственно посмотрел на Семёнова, уверенный, что паршивый русский эмигрант испепелится и исчезнет без следа, – Семёнов, не смущаясь, сунул в рот изжёванную сигару и проговорил бойко:
– Не хотите видеть Тыклинского, и не надо, – удовольствие маленькое. Но вот какая штука: мне нужны деньги, Роллинг, – тысяч двадцать франков. Чек дадите или наличными?
При всей огромной опытности и знании людей Роллинг первый раз в жизни видел такого нахала. У Роллинга выступило даже что-то вроде испарины на мясистом носу, – такое он сделал над собой усилие, чтобы не въехать чернильницей в веснушчатую рожу Семёнова… (А сколько было потеряно драгоценнейших секунд во время этого дрянного разговора!) Овладев собою, он потянулся к звонку.
Семёнов, следя за его рукой, сказал:
– Дело в том, дорогой мистер Роллинг, что инженер Гарин сейчас в Париже.
– Вы лжёте.
– Ну вот ещё, стану я врать… Дело было так: Стась Тыклинский встретил этого двойника в Петрограде на почте, когда тот сдавал телеграмму, и заметил адрес: Париж, бульвар Батиньоль… Вчера Тыклинский приехал из Варшавы, и мы сейчас же побежали на бульвар Батиньоль и – нос к носу напоролись в кафе на Гарина или на его двойника, чёрт их разберёт.
Роллинг ползал глазами по веснушчатому лицу Семёнова. Затем выпрямился, из лёгких его вырвалось пережжённое дыхание:
– Вы прекрасно понимаете, что мы не в Советской России, а в Париже, – если вы совершите преступление, спасать от гильотины я вас не буду. Но если вы попытаетесь меня обмануть, я вас растопчу.
Он вернулся на своё место, с отвращением раскрыл чековую книжку: «Двадцать тысяч не дам, с вас довольно и пяти…» Выписал чек, ногтем толкнул его по столу Семёнову и потом – не больше, чем на секунду, – положил локти на стол и ладонями стиснул лицо.
Нет, ни капли случайности, – только ум и воля привели Зою Монроз к постели Роллинга. Воля её была закалена, как сталь, приключениями девятнадцатого года. Ум её был настолько едок, что она сознательно поддерживала среди окружающих веру в исключительное расположение к себе божественной фортуны, или Счастья…
В квартале, где она жила (левый берег Сены, улица Сены), в мелочных, колониальных, винных, угольных и гастрономических лавочках считали Зою Монроз чем-то вроде святой.
Её дневной автомобиль – чёрный лимузин 24 HP, её прогулочный автомобиль – полубожественный рольс-ройс 80 HP, её вечерняя электрическая каретка, – внутри – стёганого шёлка, – с вазочками для цветов и серебряными ручками, – и в особенности выигрыш в казино в Довиле полутора миллионов франков, – вызывали религиозное восхищение в квартале.
Половину выигрыша, осторожно, с огромным знанием дела, Зоя Монроз «вложила» в прессу.
С октября месяца (начало парижского сезона) пресса «подняла красавицу Монроз на перья». Сначала в мелкобуржуазной газете появился пасквиль о разорённых любовниках Зои Монроз. «Красавица слишком дорого нам стоит!» – восклицала газета. Затем влиятельный радикальный орган, ни к селу ни к городу, по поводу этого пасквиля загремел о мелких буржуа, посылающих в парламент лавочников и винных торговцев с кругозором не шире их квартала. «Пусть Зоя Монроз разорила дюжину иностранцев, – восклицала газета, – их деньги вращаются в Париже, они увеличивают энергию жизни. Для нас Зоя Монроз лишь символ здоровых жизненных отношений, символ вечного движения, где один падает, другой поднимается».
Портреты и биографии Зои Монроз сообщались во всех газетах:
Очень скоро она поняла, что скоробогатые молодчики не дадут ей большого шика в Париже. Тогда она взяла себе в любовники модного журналиста, изменила ему с парламентским деятелем от крупной промышленности и поняла, что самое шикарное в двадцатых годах двадцатого века – это химия.
Она завела секретаря, который ежедневно делал ей доклады об успехах химической промышленности и давал нужную информацию. Таким образом она узнала о предполагающейся поездке в Европу короля химии Роллинга.
Она сейчас же выехала в Нью-Йорк. Там, на месте, купила, с душой и телом, репортёра большой газеты, – и в прессе появились заметки о приезде в Нью-Йорк самой умной, самой красивой в Европе женщины, которая соединяет профессию балерины с увлечением самой модной наукой – химией и даже, вместо банальных бриллиантов, носит ожерелье из хрустальных шариков, наполненных светящимся газом. Эти шарики подействовали на воображение американцев.
Когда Роллинг сел на пароход, отходящий во Францию, – на верхней палубе, на площадке для тенниса, между широколистной пальмой, шумящей от морского ветра, и деревом цветущего миндаля, сидела в плетёном кресле Зоя Монроз.
Роллинг знал, что это самая модная женщина в Европе, кроме того, она действительно ему понравилась. Он предложил ей быть его любовницей. Зоя Монроз поставила условием подписать контракт с неустойкой в миллион долларов.
О новой связи Роллинга и о необыкновенном контракте дано было радио из открытого океана. Эйфелева башня приняла эту сенсацию, и на следующий день Париж заговорил о Зое Монроз и о химическом короле.
– Милый друг, было бы глупо с моей стороны совать нос в ваши дела. Но вы скоро увидите, что как секретарь я ещё более удобна, чем как любовница. Женская дребедень меня мало занимает. Я честолюбива. Вы большой человек: я верю в вас. Вы должны победить. Не забудьте, – я пережила революцию, у меня был сыпняк, я дралась, как солдат, и проделала верхом на коне тысячу километров. Это незабываемо. Моя душа выжжена ненавистью.
Роллингу показалась занимательной её ледяная страстность. Он прикоснулся пальцем к кончику её носа и сказал:
– Крошка, для секретаря при деловом человеке у вас слишком много темперамента, вы сумасшедшая, в политике и делах вы всегда останетесь дилетантом.
В Париже он начал вести переговоры о трестировании химических заводов. Америка вкладывала крупные капиталы в промышленность Старого Света. Агенты Роллинга осторожно скупали акции. В Париже его называли «американским буйволом». Действительно, он казался великаном среди европейских промышленников. Он шёл напролом. Луч зрения его был узок. Он видел перед собой одну цель: сосредоточение в одних (своих) руках мировой химической промышленности.
– Ну, вот этого я вам не скажу.
Шельга покусал кожицу на губе. Смотрел вдоль пустынного бульвара.
Питкевич продолжал:
– У него не только изуродована рука, – у него на теле чудовищный шрам наискосок через грудь. Изуродовал Гарин в тысяча девятьсот девятнадцатом году. Человека этого зовут Стась Тыклинский…
– Что же, – спросил Шельга, – покойный Гарин изуродовал его тем же способом, каким он разрезал трёхдюймовые доски?
Питкевич быстро повернул голову к собеседнику, и они некоторое время глядели в глаза друг другу: один спокойно и непроницаемо, другой весело и открыто.
– Арестовать меня всё-таки вы намереваетесь, товарищ Шельга?
– Нет… Это мы всегда успеем.
– Вы правы. Я знаю много. Но, разумеется, никакими принудительными мерами вы не выпытаете у меня того, чего я не хочу открывать. В преступлении я не замешан, вы сами знаете. Хотите – игру в открытую? Условия борьбы: после хорошего удара мы встречаемся и откровенно беседуем. Это будет похоже на шахматную партию. Запрещённые приёмы – убивать друг друга до смерти. Кстати – покуда мы с вами беседуем, вы подвергались смертельной опасности, уверяю вас, – я не шучу. Если бы на вашем месте сидел Стась Тыклинский, то я бы, скажем, осмотрелся, – пустынно, – и пошёл бы, не спеша, на Сенатскую площадь, а его бы нашли на этой скамейке безнадёжно мёртвым, с отвратительными пятнами на теле. Но, повторяю, к вам этих фокусов применять не стану. Хотите партию?
– Ладно. Согласен, – сказал Шельга, блестя глазами, – нападать буду я первым, так?
– Разумеется, если бы вы не поймали меня на почтамте, я бы сам, конечно, не предложил игры. А что касается четырёхпалого поляка – обещаю помогать в его розыске. Где бы его ни встретил – я вам немедленно сообщу по телефону или телеграфно.
– Ладно. А теперь, Питкевич, покажите, что у вас за штука такая, чем вы грозитесь…
Питкевич качнул головой, усмехнулся: «Будь по-вашему – игра открытая», и осторожно вынул из бокового кармана плоскую коробку. В ней лежала металлическая, в палец толщины, трубка.
– Вот и всё, только надавить с одного конца, – там внутри хрустнет стёклышко.
9
Подходя к уголовному розыску, Шельга сразу остановился, – будто налетел на телеграфный столб: «Хе! – выдохнул он, – хе! – и бешено топнул ногой: – Ах, ловкач, ах, артист!»Шельга действительно был одурачен вчистую. Он стоял в двух шагах от убийцы (в этом теперь не было сомнения) и не взял его. Он говорил с человеком, знающим, видимо, все нити убийства, и тот умудрился ничего ему не сказать по существу. Этот Пьянков-Питкевич владел какой-то тайной… Шельга вдруг понял – именно государственного, мирового значения была эта тайна… Он уже за хвост держал Пьянкова-Питкевича, – «вывернулся, проклятый, обошёл!»
Шельга взбежал на третий этаж к себе в отдел. На столе лежал пакет из газетной бумаги. В глубокой нише окна сидел смирный толстенький человек в смазных сапогах. Держа картуз у живота, он поклонился Шельге.
– Бабичев, управдом, – сказал он с сильно самогонным духом, – по Пушкарской улице двадцать четвёртый номер дома, жилтоварищество.
– Это вы принесли пакет?
– Я принёс. Из квартиры номер тринадцатый… Это не в главном корпусе, а в пристроечке. Жилец вторые сутки у нас пропал. Сегодня милицию позвали, дверь вскрыли, составили акт в порядке закона, – управдом прикрыл рот рукой, щёки его покраснели, глаза слегка вылезли, увлажнились, дух самогона наполнил комнату, – значит, этот пакет я нашёл дополнительно в печке.
– Фамилия пропавшего жильца?
– Савельев, Иван Алексеевич.
Шельга развернул пакет. Там оказались – фотографическая карточка Пьянкова-Питкевича, гребень, ножницы и склянка тёмной жидкости, краска для волос.
– Чем занимался Савельев?
– По учёной части. Когда у нас фановая труба лопнула – комитет к нему обратился… Он – «рад бы, говорит, вам помочь, но я химик».
– Он часто отлучался по ночам с квартиры?
– По ночам? Нет. Не замечалось, – управдом опять прикрыл рот, – чуть свет он – со двора, это верно. Но так, чтобы по ночам, – не замечалось, пьяным не видели.
– Ходили к нему знакомые?
– Не замечалось.
Шельга по телефону запросил отдел милиции Петроградской стороны. Оказалось, – в пристройке дома двадцать четыре по Пушкарской действительно проживал Савельев Иван Алексеевич, тридцати шести лет, инженер-химик. Поселился на Пушкарской в феврале с удостоверением личности, выданным тамбовской милицией.
Шельга послал телеграфный запрос в Тамбов и на автомобиле вместе с управдомом поехал на Фонтанку, где в отделе уголовного следствия, на леднике, лежал труп человека, убитого на Крестовском. Управдом сейчас же в нём признал жильца из тринадцатого номера.
10
В то же приблизительно время тот, кто называл себя Пьянковым-Питкевичем, подъехал на извозчике с поднятым верхом к одному из пустырей на Петроградской стороне, расплатился и пошёл по тротуару вдоль пустыря. Он открыл калитку в дощатом заборе, миновал двор и поднялся по узкой лестнице чёрного хода на пятый этаж. Двумя ключами открыл дверь, повесил в пустой прихожей на единственный гвоздь пальто и шляпу, вошёл в комнату, где четыре окна до половины были замазаны мелом, сел на продранный диван и закрыл лицо руками.Только здесь, в уединённой комнате (уставленной книжными полками и физическими приборами), он мог отдаться, наконец, ужасному волнению, почти отчаянию, потрясшему его со вчерашнего дня.
Его руки, сжимавшие лицо, дрожали. Он понимал, что смертельная опасность не миновала. Он был в окружении. Только какие-то небольшие возможности складывались в его пользу, из ста – девяносто девять было против. «Как неосторожно, ах, как неосторожно», – шептал он.
Усилием воли он, наконец, овладел своим волнением, ткнул кулаком грязную подушку, лёг навзничь и закрыл глаза.
Его мысли, перегруженные страшным напряжением, отдыхали. Несколько минут мёртвой неподвижности освежили его. Он поднялся, налил в стакан мадеры и выпил одним глотком. Когда горячая волна пошла по телу, он стал шагать по комнате, с методичной неторопливостью, ища этих небольших возможностей к спасению.
Он осторожно отогнул у плинтуса старые отставшие обои, вытащил из-под них листы чертежей и свернул их трубкой. Снял с полок несколько книг и всё это, вместе с чертежами и частями физических приборов, уложил в чемодан. Поминутно прислушиваясь, отнёс чемодан вниз и в одном из тёмных дровяных подвалов спрятал его под кучей мусора. Снова поднялся к себе, вынул из письменного стола револьвер, осмотрел, сунул в задний карман.
Было без четверти пять. Он опять лёг и курил одну папиросу за другой, бросая окурки в угол. «Разумеется, они не нашли!» – почти закричал он, сбрасывая ноги с дивана, и снова забегал по диагонали комнаты.
В сумерки он натянул грубые сапоги, надел парусиновое пальто и вышел из дому.
11
В полночь в шестнадцатом отделении милиции был вызван к телефону дежурный. Торопливый голос проговорил ему на ухо:– На Крестовский, на дачу, где позавчера было убийство, послать немедленно наряд милиции…
Голос прервался. Дежурный сволочнулся в трубку. Вызвал проверочную, оказалось, что звонили из гребной школы. Позвонил в гребную школу. Там долго трещал телефон, наконец заспанный голос проговорил:
– Что нужно?
– От вас сейчас звонили?
– Звонили, – зевнув, ответил голос.
– Кто звонил?.. Вы видели?
– Нет, у нас электричество испорчено. Сказали, что по поручению товарища Шельги.
Через полчаса четверо милиционеров выскочили из грузовичка у заколоченной дачи на Крестовском. За берёзами тускло багровел остаток зари. В тишине слышались слабые стоны. Человек в тулупе лежал ничком близ чёрного крыльца. Его перевернули, – оказался сторож. Около него валялась вата, пропитанная хлороформом.
Дверь крыльца была раскрыта настежь. Замок сорван. Когда милиционеры проникли внутрь дачи, из подполья чей-то заглушённый голос закричал:
– Люк, отвалите люк в кухне, товарищи…
Столы, ящики, тяжёлые мешки навалены были горой у стены на кухне. Их раскидали, подняли крышку люка.
Из подполья выскочил Шельга, – весь в паутине, в пыли, с дикими глазами.
– Скорее сюда! – крикнул он, исчезая за дверью. – Свет, скорее!
В комнате (с железной кроватью) в свете потайных фонарей увидали на полу два расстрелянных револьвера, коричневый бархатный картуз и отвратительные, с едким запахом, следы рвоты.
– Осторожнее! – крикнул Шельга. – Не дышите, уходите, это – смерть!
Отступая, тесня к дверям милиционеров, он с ужасом, с омерзением глядел на валяющуюся на полу металлическую трубку величиной с человеческий палец.
12
Как все крупного масштаба деловые люди, химический король Роллинг принимал по делам в особо для того снятом помещении, офисе, где его секретарь фильтровал посетителей, устанавливая степень их важности, читал их мысли и с чудовищной вежливостью отвечал на все вопросы. Стенографистка превращала в кристаллы человеческих слов идеи Роллинга, которые (если взять их арифметическое среднее за год и умножить на денежный эквивалент) стоили приблизительно пятьдесят тысяч долларов за каждый протекающий в одну секунду отрезок идеи короля неорганической химии. Миндалевидные ногти четырёх машинисток, не переставая, порхали по клавишам четырёх ундервудов. Мальчик для поручений мгновенно вслед за вызовом вырастал перед глазами Роллинга, как сгустившаяся материя его воли.Офис Роллинга на бульваре Мальзерб был мрачным и серьёзным помещением. Тёмного штофа[4] стены, тёмные бобрики[5] на полу, тёмная кожаная мебель. На тёмных столах, покрытых стеклом, лежали сборники реклам, справочные книги в коричневой юфте,[6] проспекты химических заводов. Несколько ржавых газовых снарядов и бомбомёт, привезённые с полей войны, украшали камин.
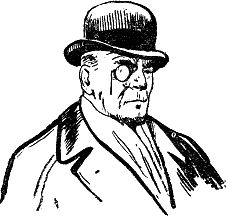
Какое человеческое сердце осталось бы спокойным, когда среди почтенной тишины в приёмной вдруг зашевелится бронзовая, в виде лапы, держащей шар, массивная ручка орехового дерева и появится маленький человек в тёмно-сером пиджачке, с известной всему миру бородкой, покрывающей щёки, мучительно неприветливый, почти сверхчеловек, с желтовато-нездоровым лицом, напоминающим известную всему миру марку изделий: жёлтый кружок с четырьмя чёрными полосками… Приоткрывая дверь, король вонзался глазами в посетителя и говорил с сильным американским акцентом – «прошу».
13
Секретарь (с чудовищной вежливостью) спросил, держа золотой карандашик двумя пальцами:– Простите, ваша фамилия?
– Генерал Субботин, русский… эмигрант.
Отвечавший сердито вскинул плечи и скомканным платком провёл по серым усам.
Секретарь, улыбаясь так, будто разговор касается приятнейших, дружеских вещей, пролетел карандашом по блокнотику и спросил совсем уже осторожно:
– Какая цель, мосье Субботин, вашей предполагаемой беседы с мистером Роллингом?
– Чрезвычайная, весьма существенная.
– Быть может, я попытаюсь изложить её вкратце для представления мистеру Роллингу.
– Видите ли, – цель, так сказать, проста, план… Обоюдная выгода…
– План, касающийся химической борьбы с большевиками, я так понимаю? – спросил секретарь.
– Совершенно верно… Я намерен предложить мистеру Роллингу.
– Я боюсь, – с очаровательной вежливостью перебил его секретарь, и приятное лицо его изобразило даже страдание, – боюсь, что мистер Роллинг немного перегружен подобными планами. С прошлой недели к нам поступило от одних только русских сто двадцать четыре предложения о химической войне с большевиками. У нас в портфеле имеется прекрасная диспозиция[7] воздушно-химического нападения одновременно на Харьков, Москву и Петроград. Автор диспозиции остроумно развёртывает силы на плацдармах буферных государств,[8] – очень, очень интересно. Автор даёт даже точную смету: шесть тысяч восемьсот пятьдесят тонн горчичного газа для поголовного истребления жителей в этих столицах.
Генерал Субботин, побагровев от страшного прилива крови, перебил:
– В чём же дело, мистер, как вас! Мой план не хуже, но и этот – превосходный план. Надо действовать! От слов к делу… За чем же остановка?
– Дорогой генерал, остановка только за тем, что мистер Роллинг пока ещё не видит эквивалента своим расходам.
– Какого такого эквивалента?
– Сбросить шесть тысяч восемьсот пятьдесят тонн горчичного газа с аэропланов не составит труда для мистера Роллинга, но на это потребуются некоторые расходы. Война стоит денег, не правда ли? В представляемых планах мистер Роллинг пока видит одни расходы. Но эквивалента, то есть дохода от диверсий против большевиков, к сожалению, не указывается.
– Ясно, как божий день… доходы… колоссальные доходы всякому, кто возвратит России законных правителей, законный нормальный строй, – золотые горы такому человеку! – Генерал, как орёл, из-под бровей упёрся глазами в секретаря. – Ага! Значит, указать также эквивалент?
– Точно, вооружась цифрами: налево – пассив, направо – актив, затем – черту и разницу со знаком плюс, которая может заинтересовать мистера Роллинга.
– Ага! – генерал засопел, надвинул пыльную шляпу и решительно зашагал к двери.
14
Не успел генерал выйти – в подъезде послышался протестующий голос мальчика для поручений, затем другой голос выразил желание, чтобы мальчишку взяли черти, и перед секретарём появился Семёнов в расстёгнутом пальто, в руке шляпа и трость, в углу рта изжёванная сигара.– Доброе утро, дружище, – торопливо сказал он секретарю и бросил на стол шляпу и трость, – пропустите-ка меня к королю вне очереди.
Золотой карандашик секретаря повис в воздухе.
– Но мистер Роллинг сегодня особенно занят.
– Э, вздор, дружище… У меня в автомобиле дожидается человек, только что из Варшавы… Скажите Роллингу, что мы по делу Гарина.
У секретаря взлетели брови, и он исчез за ореховой дверью. Через минуту высунулся: «Мосье Семёнов, вас просят», – просвистал он нежным шёпотом. И сам нажал дверную ручку в виде лапы, держащей шар.
Семёнов встал перед глазами химического короля. Семёнов не выразил при этом особого волнения, во-первых, потому, что по натуре был хам, во-вторых, потому, что в эту минуту король нуждался в нём больше, чем он в короле.
Роллинг просверлил его зелёными глазами. Семёнов, и этим не смущаясь, сел напротив по другую сторону стола. Роллинг сказал:
– Ну?
– Дело сделано.
– Чертежи?
– Видите ли, мистер Роллинг, тут вышло некоторое недоразумение…
– Я спрашиваю, где чертежи? Я их не вижу, – свирепо сказал Роллинг и ладонью легко ударил по столу.
– Слушайте, Роллинг, мы условились, что я вам доставлю не только чертежи, но и самый прибор… Я сделал колоссально много… Нашёл людей… Послал их в Петроград. Они проникли в лабораторию Гарина. Они видели действие прибора… Но тут, чёрт его знает, что-то случилось… Во-первых, Гариных оказалось двое.
– Я это предполагал в самом начале, – брезгливо сказал Роллинг.
– Одного нам удалось убрать.
– Вы его убили?
– Если хотите – что-то в этом роде. Во всяком случае – он умер. Вас это не должно беспокоить: ликвидация произошла в Петрограде, сам он советский подданный, – пустяки… Но затем появился его двойник… Тогда мы сделали чудовищное усилие…
– Одним словом, – перебил Роллинг, – двойник или сам Гарин жив, и ни чертежей, ни приборов вы мне не доставили, несмотря на затраченные мною деньги.
– Хотите – я позову, – в автомобиле сидит Стась Тыклинский, участник всего этого дела, – он вам расскажет подробно.
– Не желаю видеть никакого Тыклинского, мне нужны чертежи и прибор… Удивляюсь вашей смелости – являться с пустыми руками…
Несмотря на холод этих слов, несмотря на то, что, окончив говорить, Роллинг убийственно посмотрел на Семёнова, уверенный, что паршивый русский эмигрант испепелится и исчезнет без следа, – Семёнов, не смущаясь, сунул в рот изжёванную сигару и проговорил бойко:
– Не хотите видеть Тыклинского, и не надо, – удовольствие маленькое. Но вот какая штука: мне нужны деньги, Роллинг, – тысяч двадцать франков. Чек дадите или наличными?
При всей огромной опытности и знании людей Роллинг первый раз в жизни видел такого нахала. У Роллинга выступило даже что-то вроде испарины на мясистом носу, – такое он сделал над собой усилие, чтобы не въехать чернильницей в веснушчатую рожу Семёнова… (А сколько было потеряно драгоценнейших секунд во время этого дрянного разговора!) Овладев собою, он потянулся к звонку.
Семёнов, следя за его рукой, сказал:
– Дело в том, дорогой мистер Роллинг, что инженер Гарин сейчас в Париже.
15
Роллинг вскочил, – ноздри распахнулись, между бровей вздулась жила. Он подбежал к двери и запер её на ключ, затем близко подошёл к Семёнову, взялся за спинку кресла, другой рукой вцепился в край стола. Наклонился к его лицу:– Вы лжёте.
– Ну вот ещё, стану я врать… Дело было так: Стась Тыклинский встретил этого двойника в Петрограде на почте, когда тот сдавал телеграмму, и заметил адрес: Париж, бульвар Батиньоль… Вчера Тыклинский приехал из Варшавы, и мы сейчас же побежали на бульвар Батиньоль и – нос к носу напоролись в кафе на Гарина или на его двойника, чёрт их разберёт.
Роллинг ползал глазами по веснушчатому лицу Семёнова. Затем выпрямился, из лёгких его вырвалось пережжённое дыхание:
– Вы прекрасно понимаете, что мы не в Советской России, а в Париже, – если вы совершите преступление, спасать от гильотины я вас не буду. Но если вы попытаетесь меня обмануть, я вас растопчу.
Он вернулся на своё место, с отвращением раскрыл чековую книжку: «Двадцать тысяч не дам, с вас довольно и пяти…» Выписал чек, ногтем толкнул его по столу Семёнову и потом – не больше, чем на секунду, – положил локти на стол и ладонями стиснул лицо.
16
Разумеется, не по воле случая красавица Зоя Монроз стала любовницей химического короля. Только дураки да те, кто не знает, что такое борьба и победа, видят повсюду случай. «Вот этот счастливый», – говорят они с завистью и смотрят на удачника, как на чудо. Но сорвись он – тысячи дураков с упоением растопчут его, отвергнутого божественным случаем.Нет, ни капли случайности, – только ум и воля привели Зою Монроз к постели Роллинга. Воля её была закалена, как сталь, приключениями девятнадцатого года. Ум её был настолько едок, что она сознательно поддерживала среди окружающих веру в исключительное расположение к себе божественной фортуны, или Счастья…
В квартале, где она жила (левый берег Сены, улица Сены), в мелочных, колониальных, винных, угольных и гастрономических лавочках считали Зою Монроз чем-то вроде святой.
Её дневной автомобиль – чёрный лимузин 24 HP, её прогулочный автомобиль – полубожественный рольс-ройс 80 HP, её вечерняя электрическая каретка, – внутри – стёганого шёлка, – с вазочками для цветов и серебряными ручками, – и в особенности выигрыш в казино в Довиле полутора миллионов франков, – вызывали религиозное восхищение в квартале.
Половину выигрыша, осторожно, с огромным знанием дела, Зоя Монроз «вложила» в прессу.
С октября месяца (начало парижского сезона) пресса «подняла красавицу Монроз на перья». Сначала в мелкобуржуазной газете появился пасквиль о разорённых любовниках Зои Монроз. «Красавица слишком дорого нам стоит!» – восклицала газета. Затем влиятельный радикальный орган, ни к селу ни к городу, по поводу этого пасквиля загремел о мелких буржуа, посылающих в парламент лавочников и винных торговцев с кругозором не шире их квартала. «Пусть Зоя Монроз разорила дюжину иностранцев, – восклицала газета, – их деньги вращаются в Париже, они увеличивают энергию жизни. Для нас Зоя Монроз лишь символ здоровых жизненных отношений, символ вечного движения, где один падает, другой поднимается».
Портреты и биографии Зои Монроз сообщались во всех газетах:
«Её покойный отец служил в императорской опере в С.-Петербурге. Восьми лет очаровательная малютка Зоя была отдана в балетную школу. Перед самой войной она её окончила и дебютировала в балете с успехом, которого не запомнит Северная столица. Но вот – война, и Зоя Монроз с юным сердцем, переполненным милосердия, бросается на фронт, одетая в серое платьице с красным крестом на груди. Её встречают в самых опасных местах, спокойно наклоняющуюся над раненым солдатом среди урагана вражеских снарядов. Она ранена (что, однако, не нанесло ущерба её телу юной грации), её везут в Петербург, и там она знакомится с капитаном французской армии. Революция. Россия предаёт союзников. Душа Зои Монроз потрясена Брестским миром. Вместе со своим другом, французским капитаном, она бежит на юг и там верхом на коне, с винтовкой в руках, как разгневанная грация, борется с большевиками. Её друг умирает от сыпного тифа. Французские моряки увозят её на миноносце в Марсель. И вот она в Париже. Она бросается к ногам президента, прося дать ей возможность стать французской подданной. Она танцует в пользу несчастных жителей разрушенной Шампаньи. Она – на всех благотворительных вечерах. Она – как ослепительная звезда, упавшая на тротуары Парижа».В общих чертах биография была правдива. В Париже Зоя быстро осмотрелась и пошла по линии: всегда вперёд, всегда с боями, всегда к самому трудному и ценному. Она действительно разорила дюжину скоробогачей, тех самых коротеньких молодчиков с волосатыми пальцами в перстнях и с воспалёнными щеками. Зоя была дорогая женщина, и они погибли.
Очень скоро она поняла, что скоробогатые молодчики не дадут ей большого шика в Париже. Тогда она взяла себе в любовники модного журналиста, изменила ему с парламентским деятелем от крупной промышленности и поняла, что самое шикарное в двадцатых годах двадцатого века – это химия.
Она завела секретаря, который ежедневно делал ей доклады об успехах химической промышленности и давал нужную информацию. Таким образом она узнала о предполагающейся поездке в Европу короля химии Роллинга.
Она сейчас же выехала в Нью-Йорк. Там, на месте, купила, с душой и телом, репортёра большой газеты, – и в прессе появились заметки о приезде в Нью-Йорк самой умной, самой красивой в Европе женщины, которая соединяет профессию балерины с увлечением самой модной наукой – химией и даже, вместо банальных бриллиантов, носит ожерелье из хрустальных шариков, наполненных светящимся газом. Эти шарики подействовали на воображение американцев.
Когда Роллинг сел на пароход, отходящий во Францию, – на верхней палубе, на площадке для тенниса, между широколистной пальмой, шумящей от морского ветра, и деревом цветущего миндаля, сидела в плетёном кресле Зоя Монроз.
Роллинг знал, что это самая модная женщина в Европе, кроме того, она действительно ему понравилась. Он предложил ей быть его любовницей. Зоя Монроз поставила условием подписать контракт с неустойкой в миллион долларов.
О новой связи Роллинга и о необыкновенном контракте дано было радио из открытого океана. Эйфелева башня приняла эту сенсацию, и на следующий день Париж заговорил о Зое Монроз и о химическом короле.
17
Роллинг не ошибся в выборе любовницы. Ещё на пароходе Зоя сказала ему:– Милый друг, было бы глупо с моей стороны совать нос в ваши дела. Но вы скоро увидите, что как секретарь я ещё более удобна, чем как любовница. Женская дребедень меня мало занимает. Я честолюбива. Вы большой человек: я верю в вас. Вы должны победить. Не забудьте, – я пережила революцию, у меня был сыпняк, я дралась, как солдат, и проделала верхом на коне тысячу километров. Это незабываемо. Моя душа выжжена ненавистью.
Роллингу показалась занимательной её ледяная страстность. Он прикоснулся пальцем к кончику её носа и сказал:
– Крошка, для секретаря при деловом человеке у вас слишком много темперамента, вы сумасшедшая, в политике и делах вы всегда останетесь дилетантом.
В Париже он начал вести переговоры о трестировании химических заводов. Америка вкладывала крупные капиталы в промышленность Старого Света. Агенты Роллинга осторожно скупали акции. В Париже его называли «американским буйволом». Действительно, он казался великаном среди европейских промышленников. Он шёл напролом. Луч зрения его был узок. Он видел перед собой одну цель: сосредоточение в одних (своих) руках мировой химической промышленности.
