Страница:
— Узнаю вот этого гражданина.
И указывает на Мушанского. Тот равнодушно пожимает плечами.
— Могли бы и побыстрее, — говорит он. — Я, например, вас сразу узнал.
Вскоре процедура опознания заканчивается, и я предлагаю Саше Грачеву допросить Мушанского по этому эпизоду. Однако Мушанский неожиданно заявляет:
— Возражаю. Устал и время обедать.
Но я прекрасно понимаю, почему он возражает. Дело тут не в усталости и не в обеде. Просто ему, видимо, надо обдумать возникшую ситуацию, которая имеет для него, очевидно, какое-то значение. Ну что ж, пусть обдумывает. И Саша Грачев вызывает конвой. Мы с Валей возвращаемся к себе.
Прежде чем вскрыть конверт и прочесть письмо, я спрашиваю Валю:
— Ты что хотел мне сказать?
— В гостиницу опять приходил тот человек, которому Екатерина Осиповна давала сердечные капли. Помнишь?
— Конечно. И что же?
— Екатерина Осиповна сообщила ему о письме. Он предложил свои услуги, чтобы переправить его Николову. Екатерина Осиповна ответила, что они сами его отправят. И тогда он предложил за письмо… сто рублей. Представляешь?
На какой-то миг Валю даже покидает его обычная невозмутимость.
Я достаю конверт. Обратного адреса на нем нет. Почтовый штемпель места отправления неразборчив. Приходится прибегнуть к лупе. И мы с трудом разбираем название города. Это уже что-то новое.
— М-да…
Я качаю головой и с обычными предосторожностями вскрываю конверт. Письмо оказывается коротким и непонятным.
«Привет! Хорошо, что ты мне сообщил, где остановился. Письмо мое должно тебя застать. Ты очень нужен. Тетя опасно заболела. Не знаю, что делать. Дядя Петя».
— Знаем мы этих тетей, — желчно замечает Валя.
— В том-то и дело, что мы их не знаем, — возражаю я. — И вообще их, как правило, не существует.
— Вот именно, — подтверждает Валя. — Запросим и этот город?
— Придется.
Я с сомнением качаю головой. Этот город не вызывает у меня почему-то доверия. Валя предполагает, что Николов скорей всего уехал к дяде Пете, который без него не знает, что делать. Но мне это кажется сомнительным. Ведь письмо не застало Николова. И отправлено оно всего три дня назад, следовательно, только тогда и возникла необходимость в его приезде и «тетя заболела» только тогда.
Я внимательно перечитываю последнюю графу в Валиной таблице. С кем же разговаривал Николов? В Одессе — с некой Галиной Остаповной Кочергой, продавщицей комиссионного магазина. В Ростове — с Леонидом Васильевичем Палатовым, начальником отдела капитального строительства завода. В Ленинграде — с Орестом Антоновичем Сокольским, заместителем директора одного из промторгов, в Куйбышеве — с Олегом Ивановичем Клячко, врачом городской поликлиники. А вот в маленьком неведомом Пунеже срочный и короткий разговор произошел неизвестно с кем, на междугородной станции абонент оказался почему-то неотмеченным. Как это получилось, телефонистки не могли Вале объяснить. «Случается», — сказали они. Может быть, так оно и есть, ведь тысячи разговоров проходят через них, всякая возможна случайность. А может быть, это не случайность? Тогда что же? Работа приучила меня не доверять случайностям. В этой механике надо будет разобраться.
Мы с Валей снова и снова просматриваем список лиц, с которыми говорил Николов. Одно имя все время задерживает мое внимание. Где я его встречал? Когда, при каких обстоятельствах? Не могу вспомнить. Это меня все больше раздражает, как невидимая иголочка маминого кактуса, однажды вцепившаяся мне в палец, которая напоминала о себе лишь когда я прикасался этим пальцем к чему-нибудь.
Ну хорошо. А остальные в этом списке, что собой представляют они? Неизвестно. Неужели предстоит собирать сведения о каждом из них? Но больше всего меня интригует маленький Пунеж. Кто оттуда говорил с Николовым? Мы все время словно бродим в темноте и натыкаемся вытянутыми руками на какие-то неизвестные предметы.
— Нет, так ничего не выйдет, — досадливо говорю я Вале. — Этим делом надо или заняться вплотную, или вообще бросить.
Валя пожимает плечами.
— Как решит начальство.
Мне не нравится его неизменное спокойствие. Его нисколько не зажег, не заинтересовал этот поиск. Валя лишь добросовестен и пунктуален, как всегда. Я никогда не видел, чтобы он волновался, горячился, переживал что-то. Может быть, он так глубоко это все прячет, так умеет владеть собой? Нет, непохоже. Хотя Валя никого, по-моему, особенно близко к себе не подпускает. Я, например, все время ощущаю некую дистанцию между нами, ближе начинается какой-то непонятный холодок и мягкое, но упругое отталкивание, что ли.
— Да, как решит начальство, — сердито повторяю я. — Вечером доложим.
На столе звонит телефон. Это Саша Грачев.
— Заходи, — отрывисто говорит он.
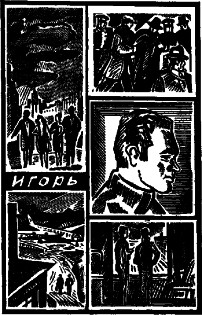 Мушанский, сгорбившись, сидит около стола Саши Грачева, зажав ладони между колен, и сосредоточенно смотрит в пол. Густые черные брови сошлись на переносице, на небритых скулах перекатываются желваки.
Мушанский, сгорбившись, сидит около стола Саши Грачева, зажав ладони между колен, и сосредоточенно смотрит в пол. Густые черные брови сошлись на переносице, на небритых скулах перекатываются желваки.
Некоторое время мы молчим. Потом Мушанский начинает говорить, медленно и серьезно, по-прежнему глядя в пол и зажав коленями руки:
— Ладно. Я вам кое в чем признаюсь. Видит бог, я не хотел подводить этого человека. Но вы, — он бросает на меня быстрый и насмешливый взгляд, — вы отыскали уже тропинку к нему и, конечно, с нее не сойдете. Так ведь?
Я пожимаю плечами:
— Какого человека вы имеете в виду?
— Сейчас узнаете. И еще… — Он усмехается. — Я догадываюсь, какой вопрос вы мне сейчас зададите. Я же прекрасно помню ту встречу в гостинице и до последнего слова помню свой разговор с молодым человеком. Вы спросите, — он снова, уже пристально, смотрит мне в глаза, — откуда мне известно имя того человека, который жил в «люксе». Так ведь?
— Да, так, — киваю я.
— Ну вот видите? — Мушанский самодовольно улыбается. — Не такой уж я, извините, дурак. Да, имя его мне было известно. И не только имя, кстати. Я рассчитывал в том «люксе» найти кое-чего побольше, чем две дрянные кофточки. Уверяю вас. И нашел бы, если бы не та горничная, которая вошла в номер. Я не хотел ее трогать. Я даже сам не понимаю, что со мной вдруг случилось. Вы можете мне не верить, это ваше дело. Но все было именно так. Какая-то мутная волна страха захлестнула меня, что-то оборвалось внутри…
Я не прерываю его, пусть выговорится. Я не хочу разрушать это его состояние, его решимость все рассказать.
— Так вот, — продолжает он. — Скажу вам то, чего еще никому не говорил,
— и бросает иронический взгляд на сидящего в стороне Сашу Грачева. — В этом деле у меня был помощник, весьма ценный, кстати. — И вдруг, прерывая себя, спрашивает: — Почему вы не записываете?
— Запишу, — отвечаю я.
— Да уж, придется, — каким-то странным тоном подтверждает Мушанский. — Хотя вам этого записывать и не захочется. Потому что помощником моим была… Варя Глотова.
Он теперь не спускает с меня глаз. Но я уже взял себя в руки и внешне совершенно невозмутим. Мушанский явно неудовлетворен моей реакцией и нахально спрашивает:
— Вы не хотите вспомнить эту красавицу?
— Сейчас вопросы задаю я. Что сообщила вам Глотова о том гражданине?
— Глотова сообщила мне, — спокойно говорит Мушанский, — где остановился этот Иван Харитонович, сказала, что он набит деньгами, и посоветовала его… навестить.
— Вы подтверждаете свои первоначальные показания о том, что взяли там только две кофточки? — спрашиваю я.
И в тот же момент вспоминаю, что точно такую же кофточку я видел у Варвары.
— Конечно. После… инцидента с горничной я уже не имел времени.
— Что вы знаете об этом Иване Харитоновиче?
Мушанский издевательским тоном отвечает:
— Пардон. Я не собираюсь вам помогать. Ищите, ловите. Вам за это платят. Или, может быть, вы мне тоже заплатите? Тогда извольте. Тогда я готов. Сколько дадите? Из личной симпатии к вам сделаю скидку.
Да, он может себе позволить так разговаривать. Я же позволить себе этого не могу. Я не могу и не должен отвечать ему тем же.
Я навсегда запомнил случай, который произошел чуть не в первый месяц моей работы. Мы задержали бандита, который с ножом напал на женщину где-то в темном подъезде. И когда, еще разгоряченные, мы приступили к допросу этого грязного животного, тот харкнул мне в лицо. И я потерял самообладание. Ослепленный, полный отвращения и ненависти, я развернулся и ударил его. А потом кинулся к умывальнику. У меня дрожали руки и тошнота подступала к горлу. Через час меня вызвал Кузьмич и сказал примерно так: «Ты, парень, нам не годишься. Нервный. А главное, ни себя, ни нас не уважаешь. С кем ты вровень стал? До кого опустился? Да он теперь этот синяк, как орден, носить будет, он всем его будет показывать: вот вам милиция. Форменный позор. Я уж не говорю, что он теперь рта не раскроет. А нам надо через него на всю их шайку выйти. Словом, спасибо тебе. Иди в отдел кадров. Не подходишь ты нам». Вот так примерно сказал мне тогда Кузьмич. И добавил: «Поднять руку на человека, который ответить тебе не может, который в твоей власти, может только трус, подлец или дурак. Запомни это и ступай». И я запомнил. А что на следующий день было, мне до сих пор стыдно вспоминать. Как я просил Кузьмича, как ребята за меня просили…
Вот такой был случай. И потому Мушанскому на его издевательства я тем же ответить не могу.
И вообще мне некогда, у меня тысяча дел. Поэтому я заканчиваю допрос. Больше Мушанский уже ничего интересного не окажет. Думаю, он сам больше ничего не знает. Хотя и то, что он сказал, немаловажно. И главное здесь — Варвара.
Но еще важнее оказывается заключение экспертизы из научно-технического отдела. Восстановлен полный текст той записки. Он выглядит так, если при этом выделить угаданные мною места: «Приходи, посоветуемся. С этой СВОЛОЧЬЮ ОКОНЧАТЕЛЬНО надо рассчитаться, когда СОБЕРУТСЯ ВСЕ».
Вот так, не более и не менее.
Об этом я и докладываю в конце дня на совещании у Кузьмича. Здесь же присутствуют Игорь, Валя, Петя Шухмин и еще несколько сотрудников.
— М-да… — задумчиво произносит Кузьмич, когда я кончаю свой доклад. — М-да… Действительно, интересно все тут поворачивается. И пока темно.
Он достает из ящика стола начатую пачку сигарет, медленно вытаскивает одну, словно прикидывая, сколько он уже выкурил за день.
— Пятая, Федор Кузьмич, — говорит Петя Шухмин, щелкая зажигалкой.
— Ладно тебе, счетовод, — прикуривая, ворчит Кузьмич и, затянувшись, продолжает размышлять вслух: — Однако в этой темноте кое-что все же обрисовывается. Как считаете?
— Что верно, то верно, — говорю я. — Обрисовывается. Но дело это трудоемкое, Федор Кузьмич. Тут надо в принципе решить.
— В принципе? — усмехается Кузьмич. — Ну давайте сначала в принципе. Какие будут соображения?
Первым высказывается Петя Шухмин:
— Между прочим, нас никто не заставляет его искать, Николова этого. Тут и дела-то никакого не возбудишь, если на то пошло. Ничего человек не совершил, ничего не нарушил. Мотанул из гостиницы? Домой вовремя не вернулся? На бумажке чего-то считал? Ну и что? Какой тут, спрашивается, криминал? Да и записка, прочтенная экспертом, неизвестно еще кому принадлежит. И означать она может все что угодно. Это только Лосеву тут почему-то убийство мерещится. А намеки этого Мушанского вообще ничего не стоят.
Петя у нас реалист и прагматик, не верит ни в какие ощущения, чутье, интуицию и прочие иррациональные категории. Он всегда ставит вопрос ребром, ему все до конца должно быть ясно. Да или нет? Неопределенность его нервирует и всякие сомнения тоже. Им не место в работе. Иначе, по его мнению, будет хаос и всеобщая путаница.
— Так… — кивает Кузьмич. — У кого еще есть соображения? — И смотрит на Игоря. — Что скажешь, Откаленко?
Я настораживаюсь. Но Игорь, не поднимая глаз, цедит сквозь зубы:
— Согласен с Шухминым.
На Игоря это совсем не похоже. Что с ним происходит?
Кузьмич тоже недоволен, он хмурится и сердито сминает в пепельнице недокуренную сигарету. Потом поворачивается к Вале и коротко бросает:
— Давай ты, Денисов.
Валя невозмутимо пожимает плечами.
— Формальных оснований к розыску нет, конечно, — говорит он. — Кроме одного: нужен свидетель по шестой краже Мушанского. Но еще и подозрения есть. Тут Лосев прав. Если прикажете, можно заняться, Федор Кузьмич. Но можно вытянуть и пустой номер.
— Та-ак, — медленно произносит Кузьмич и трет ладонью макушку. — Пустой номер, говоришь…
— Не обязательно, — осторожно поправляет его Валя.
— Понятно, что не обязательно. А приказать, Денисов, это самое простое. Но дел у нас, как ты знаешь, и так невпроворот, конкретных дел.
— Федор Кузьмич, — не выдерживаю я. — Все-таки разрешите мне встретиться с Варей.
— Можно, — соглашается Кузьмич. — Даже нужно. Но вот эти города… — Он задумывается. — Повтори-ка, с кем он там разговаривал.
Не дают ему покоя эти города. И мне почему-то тоже.
Когда я кончаю читать Валину таблицу, Кузьмич некоторое время молчит, потом задумчиво произносит:
— Да, с Варей этой встретиться, конечно, надо. А вот ты, — обращается он к Вале, — все-таки, будь добр, выясни, что это за люди в тех городах. Может, они нашим товарищам там известны? С каждым из них, видимо, придется побеседовать о Николове. Осторожно, конечно.
— Кто же будет беседовать? — ревниво спрашиваю я.
— Если надо, то и мы подъедем, — отвечает Кузьмич. — Там поглядим. Но что-то в этой темноте должно проступить.
И проступает. На следующий день. Часа в два меня с Игорем неожиданно вызывает Кузьмич. У него, оказывается, сидит Валя Денисов.
— А ну повтори, — приказывает ему Кузьмич.
— Странная новость, — говорит Валя. — Все перечисленные в таблице граждане исчезли.

И указывает на Мушанского. Тот равнодушно пожимает плечами.
— Могли бы и побыстрее, — говорит он. — Я, например, вас сразу узнал.
Вскоре процедура опознания заканчивается, и я предлагаю Саше Грачеву допросить Мушанского по этому эпизоду. Однако Мушанский неожиданно заявляет:
— Возражаю. Устал и время обедать.
Но я прекрасно понимаю, почему он возражает. Дело тут не в усталости и не в обеде. Просто ему, видимо, надо обдумать возникшую ситуацию, которая имеет для него, очевидно, какое-то значение. Ну что ж, пусть обдумывает. И Саша Грачев вызывает конвой. Мы с Валей возвращаемся к себе.
Прежде чем вскрыть конверт и прочесть письмо, я спрашиваю Валю:
— Ты что хотел мне сказать?
— В гостиницу опять приходил тот человек, которому Екатерина Осиповна давала сердечные капли. Помнишь?
— Конечно. И что же?
— Екатерина Осиповна сообщила ему о письме. Он предложил свои услуги, чтобы переправить его Николову. Екатерина Осиповна ответила, что они сами его отправят. И тогда он предложил за письмо… сто рублей. Представляешь?
На какой-то миг Валю даже покидает его обычная невозмутимость.
Я достаю конверт. Обратного адреса на нем нет. Почтовый штемпель места отправления неразборчив. Приходится прибегнуть к лупе. И мы с трудом разбираем название города. Это уже что-то новое.
— М-да…
Я качаю головой и с обычными предосторожностями вскрываю конверт. Письмо оказывается коротким и непонятным.
«Привет! Хорошо, что ты мне сообщил, где остановился. Письмо мое должно тебя застать. Ты очень нужен. Тетя опасно заболела. Не знаю, что делать. Дядя Петя».
— Знаем мы этих тетей, — желчно замечает Валя.
— В том-то и дело, что мы их не знаем, — возражаю я. — И вообще их, как правило, не существует.
— Вот именно, — подтверждает Валя. — Запросим и этот город?
— Придется.
Я с сомнением качаю головой. Этот город не вызывает у меня почему-то доверия. Валя предполагает, что Николов скорей всего уехал к дяде Пете, который без него не знает, что делать. Но мне это кажется сомнительным. Ведь письмо не застало Николова. И отправлено оно всего три дня назад, следовательно, только тогда и возникла необходимость в его приезде и «тетя заболела» только тогда.
Я внимательно перечитываю последнюю графу в Валиной таблице. С кем же разговаривал Николов? В Одессе — с некой Галиной Остаповной Кочергой, продавщицей комиссионного магазина. В Ростове — с Леонидом Васильевичем Палатовым, начальником отдела капитального строительства завода. В Ленинграде — с Орестом Антоновичем Сокольским, заместителем директора одного из промторгов, в Куйбышеве — с Олегом Ивановичем Клячко, врачом городской поликлиники. А вот в маленьком неведомом Пунеже срочный и короткий разговор произошел неизвестно с кем, на междугородной станции абонент оказался почему-то неотмеченным. Как это получилось, телефонистки не могли Вале объяснить. «Случается», — сказали они. Может быть, так оно и есть, ведь тысячи разговоров проходят через них, всякая возможна случайность. А может быть, это не случайность? Тогда что же? Работа приучила меня не доверять случайностям. В этой механике надо будет разобраться.
Мы с Валей снова и снова просматриваем список лиц, с которыми говорил Николов. Одно имя все время задерживает мое внимание. Где я его встречал? Когда, при каких обстоятельствах? Не могу вспомнить. Это меня все больше раздражает, как невидимая иголочка маминого кактуса, однажды вцепившаяся мне в палец, которая напоминала о себе лишь когда я прикасался этим пальцем к чему-нибудь.
Ну хорошо. А остальные в этом списке, что собой представляют они? Неизвестно. Неужели предстоит собирать сведения о каждом из них? Но больше всего меня интригует маленький Пунеж. Кто оттуда говорил с Николовым? Мы все время словно бродим в темноте и натыкаемся вытянутыми руками на какие-то неизвестные предметы.
— Нет, так ничего не выйдет, — досадливо говорю я Вале. — Этим делом надо или заняться вплотную, или вообще бросить.
Валя пожимает плечами.
— Как решит начальство.
Мне не нравится его неизменное спокойствие. Его нисколько не зажег, не заинтересовал этот поиск. Валя лишь добросовестен и пунктуален, как всегда. Я никогда не видел, чтобы он волновался, горячился, переживал что-то. Может быть, он так глубоко это все прячет, так умеет владеть собой? Нет, непохоже. Хотя Валя никого, по-моему, особенно близко к себе не подпускает. Я, например, все время ощущаю некую дистанцию между нами, ближе начинается какой-то непонятный холодок и мягкое, но упругое отталкивание, что ли.
— Да, как решит начальство, — сердито повторяю я. — Вечером доложим.
На столе звонит телефон. Это Саша Грачев.
— Заходи, — отрывисто говорит он.
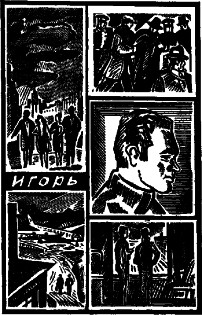
Некоторое время мы молчим. Потом Мушанский начинает говорить, медленно и серьезно, по-прежнему глядя в пол и зажав коленями руки:
— Ладно. Я вам кое в чем признаюсь. Видит бог, я не хотел подводить этого человека. Но вы, — он бросает на меня быстрый и насмешливый взгляд, — вы отыскали уже тропинку к нему и, конечно, с нее не сойдете. Так ведь?
Я пожимаю плечами:
— Какого человека вы имеете в виду?
— Сейчас узнаете. И еще… — Он усмехается. — Я догадываюсь, какой вопрос вы мне сейчас зададите. Я же прекрасно помню ту встречу в гостинице и до последнего слова помню свой разговор с молодым человеком. Вы спросите, — он снова, уже пристально, смотрит мне в глаза, — откуда мне известно имя того человека, который жил в «люксе». Так ведь?
— Да, так, — киваю я.
— Ну вот видите? — Мушанский самодовольно улыбается. — Не такой уж я, извините, дурак. Да, имя его мне было известно. И не только имя, кстати. Я рассчитывал в том «люксе» найти кое-чего побольше, чем две дрянные кофточки. Уверяю вас. И нашел бы, если бы не та горничная, которая вошла в номер. Я не хотел ее трогать. Я даже сам не понимаю, что со мной вдруг случилось. Вы можете мне не верить, это ваше дело. Но все было именно так. Какая-то мутная волна страха захлестнула меня, что-то оборвалось внутри…
Я не прерываю его, пусть выговорится. Я не хочу разрушать это его состояние, его решимость все рассказать.
— Так вот, — продолжает он. — Скажу вам то, чего еще никому не говорил,
— и бросает иронический взгляд на сидящего в стороне Сашу Грачева. — В этом деле у меня был помощник, весьма ценный, кстати. — И вдруг, прерывая себя, спрашивает: — Почему вы не записываете?
— Запишу, — отвечаю я.
— Да уж, придется, — каким-то странным тоном подтверждает Мушанский. — Хотя вам этого записывать и не захочется. Потому что помощником моим была… Варя Глотова.
Он теперь не спускает с меня глаз. Но я уже взял себя в руки и внешне совершенно невозмутим. Мушанский явно неудовлетворен моей реакцией и нахально спрашивает:
— Вы не хотите вспомнить эту красавицу?
— Сейчас вопросы задаю я. Что сообщила вам Глотова о том гражданине?
— Глотова сообщила мне, — спокойно говорит Мушанский, — где остановился этот Иван Харитонович, сказала, что он набит деньгами, и посоветовала его… навестить.
— Вы подтверждаете свои первоначальные показания о том, что взяли там только две кофточки? — спрашиваю я.
И в тот же момент вспоминаю, что точно такую же кофточку я видел у Варвары.
— Конечно. После… инцидента с горничной я уже не имел времени.
— Что вы знаете об этом Иване Харитоновиче?
Мушанский издевательским тоном отвечает:
— Пардон. Я не собираюсь вам помогать. Ищите, ловите. Вам за это платят. Или, может быть, вы мне тоже заплатите? Тогда извольте. Тогда я готов. Сколько дадите? Из личной симпатии к вам сделаю скидку.
Да, он может себе позволить так разговаривать. Я же позволить себе этого не могу. Я не могу и не должен отвечать ему тем же.
Я навсегда запомнил случай, который произошел чуть не в первый месяц моей работы. Мы задержали бандита, который с ножом напал на женщину где-то в темном подъезде. И когда, еще разгоряченные, мы приступили к допросу этого грязного животного, тот харкнул мне в лицо. И я потерял самообладание. Ослепленный, полный отвращения и ненависти, я развернулся и ударил его. А потом кинулся к умывальнику. У меня дрожали руки и тошнота подступала к горлу. Через час меня вызвал Кузьмич и сказал примерно так: «Ты, парень, нам не годишься. Нервный. А главное, ни себя, ни нас не уважаешь. С кем ты вровень стал? До кого опустился? Да он теперь этот синяк, как орден, носить будет, он всем его будет показывать: вот вам милиция. Форменный позор. Я уж не говорю, что он теперь рта не раскроет. А нам надо через него на всю их шайку выйти. Словом, спасибо тебе. Иди в отдел кадров. Не подходишь ты нам». Вот так примерно сказал мне тогда Кузьмич. И добавил: «Поднять руку на человека, который ответить тебе не может, который в твоей власти, может только трус, подлец или дурак. Запомни это и ступай». И я запомнил. А что на следующий день было, мне до сих пор стыдно вспоминать. Как я просил Кузьмича, как ребята за меня просили…
Вот такой был случай. И потому Мушанскому на его издевательства я тем же ответить не могу.
И вообще мне некогда, у меня тысяча дел. Поэтому я заканчиваю допрос. Больше Мушанский уже ничего интересного не окажет. Думаю, он сам больше ничего не знает. Хотя и то, что он сказал, немаловажно. И главное здесь — Варвара.
Но еще важнее оказывается заключение экспертизы из научно-технического отдела. Восстановлен полный текст той записки. Он выглядит так, если при этом выделить угаданные мною места: «Приходи, посоветуемся. С этой СВОЛОЧЬЮ ОКОНЧАТЕЛЬНО надо рассчитаться, когда СОБЕРУТСЯ ВСЕ».
Вот так, не более и не менее.
Об этом я и докладываю в конце дня на совещании у Кузьмича. Здесь же присутствуют Игорь, Валя, Петя Шухмин и еще несколько сотрудников.
— М-да… — задумчиво произносит Кузьмич, когда я кончаю свой доклад. — М-да… Действительно, интересно все тут поворачивается. И пока темно.
Он достает из ящика стола начатую пачку сигарет, медленно вытаскивает одну, словно прикидывая, сколько он уже выкурил за день.
— Пятая, Федор Кузьмич, — говорит Петя Шухмин, щелкая зажигалкой.
— Ладно тебе, счетовод, — прикуривая, ворчит Кузьмич и, затянувшись, продолжает размышлять вслух: — Однако в этой темноте кое-что все же обрисовывается. Как считаете?
— Что верно, то верно, — говорю я. — Обрисовывается. Но дело это трудоемкое, Федор Кузьмич. Тут надо в принципе решить.
— В принципе? — усмехается Кузьмич. — Ну давайте сначала в принципе. Какие будут соображения?
Первым высказывается Петя Шухмин:
— Между прочим, нас никто не заставляет его искать, Николова этого. Тут и дела-то никакого не возбудишь, если на то пошло. Ничего человек не совершил, ничего не нарушил. Мотанул из гостиницы? Домой вовремя не вернулся? На бумажке чего-то считал? Ну и что? Какой тут, спрашивается, криминал? Да и записка, прочтенная экспертом, неизвестно еще кому принадлежит. И означать она может все что угодно. Это только Лосеву тут почему-то убийство мерещится. А намеки этого Мушанского вообще ничего не стоят.
Петя у нас реалист и прагматик, не верит ни в какие ощущения, чутье, интуицию и прочие иррациональные категории. Он всегда ставит вопрос ребром, ему все до конца должно быть ясно. Да или нет? Неопределенность его нервирует и всякие сомнения тоже. Им не место в работе. Иначе, по его мнению, будет хаос и всеобщая путаница.
— Так… — кивает Кузьмич. — У кого еще есть соображения? — И смотрит на Игоря. — Что скажешь, Откаленко?
Я настораживаюсь. Но Игорь, не поднимая глаз, цедит сквозь зубы:
— Согласен с Шухминым.
На Игоря это совсем не похоже. Что с ним происходит?
Кузьмич тоже недоволен, он хмурится и сердито сминает в пепельнице недокуренную сигарету. Потом поворачивается к Вале и коротко бросает:
— Давай ты, Денисов.
Валя невозмутимо пожимает плечами.
— Формальных оснований к розыску нет, конечно, — говорит он. — Кроме одного: нужен свидетель по шестой краже Мушанского. Но еще и подозрения есть. Тут Лосев прав. Если прикажете, можно заняться, Федор Кузьмич. Но можно вытянуть и пустой номер.
— Та-ак, — медленно произносит Кузьмич и трет ладонью макушку. — Пустой номер, говоришь…
— Не обязательно, — осторожно поправляет его Валя.
— Понятно, что не обязательно. А приказать, Денисов, это самое простое. Но дел у нас, как ты знаешь, и так невпроворот, конкретных дел.
— Федор Кузьмич, — не выдерживаю я. — Все-таки разрешите мне встретиться с Варей.
— Можно, — соглашается Кузьмич. — Даже нужно. Но вот эти города… — Он задумывается. — Повтори-ка, с кем он там разговаривал.
Не дают ему покоя эти города. И мне почему-то тоже.
Когда я кончаю читать Валину таблицу, Кузьмич некоторое время молчит, потом задумчиво произносит:
— Да, с Варей этой встретиться, конечно, надо. А вот ты, — обращается он к Вале, — все-таки, будь добр, выясни, что это за люди в тех городах. Может, они нашим товарищам там известны? С каждым из них, видимо, придется побеседовать о Николове. Осторожно, конечно.
— Кто же будет беседовать? — ревниво спрашиваю я.
— Если надо, то и мы подъедем, — отвечает Кузьмич. — Там поглядим. Но что-то в этой темноте должно проступить.
И проступает. На следующий день. Часа в два меня с Игорем неожиданно вызывает Кузьмич. У него, оказывается, сидит Валя Денисов.
— А ну повтори, — приказывает ему Кузьмич.
— Странная новость, — говорит Валя. — Все перечисленные в таблице граждане исчезли.

Глава 3.
НОВЫЕ ФАКТЫ
На работу я в этот день прихожу несколько позже, чем обычно. Дело в том, что сначала я поехал к Варваре. Но, оказывается, успел уже забыть ее «расписание». В этот день Варвара работала в утреннюю смену и визит пришлось отложить до вечера.
В коридоре я сталкиваюсь с Петей Шухминым, он взволнован и одновременно чем-то смущен, по-моему.
— Слушай, — говорит. — Тут, понимаешь, такое дело случилось.
И рассказывает мне довольно неприятную историю.
Оказывается, утром к дежурному является какой-то гражданин и в панике сообщает, что его дочь грозятся убить. Говорит он сбивчиво, бестолково, и дежурный ничего понять не может, тем более что его непрерывно отвлекают. В это время приходит Петя, и дежурный просит его побеседовать с гражданином.
Петя не отказывается и приглашает того к себе. И гражданин снова повторяет свой рассказ.
— Вы только подумайте, — говорит он. — Это же черт знает что! Звонят моей Надюше, грозят. Раз, другой, третий…
— А первый раз когда звонили? — осведомляется Петя.
— Первый? Да я еще домой вернуться не успел!
— Откуда?
— Как то есть откуда? — Гражданин настороженно смотрит на Петю. — Боже мой, какое это имеет значение? Ну, допустим, с работы.
— Не «допустим», а точно говорите, — прицепляется к нему Петя.
Гражданин вызывает у него антипатию и какое-то интуитивное недоверие. Толстый, потный, шумливый, даже скандальный и вдобавок еще до того неряшливый, что это режет глаз даже Пете, который, как известно, сам не отличается особой аккуратностью. К тому же гражданин говорит действительно бестолково. Петя почему-то ее учитывает его состояние и нешуточную причину, которая пригнала его к нам.
— Не обязан я вам это говорить! — взвизгивает гражданин. — Причем тут откуда я пришел?! Убить грозят, вам понятно?! Убить! Мою дочь, понятно?! Вот о чем спрашивайте! А не…
— Я сам знаю, о чем спрашивать, — грубо обрывает его Петя. — Вы меня не учите. Так откуда вы пришли в тот день?
Что-то в интонациях этого гражданина, в его непонятном упрямстве, во всем этом визге и крике Пете не нравится. Хотя это и не дает ему права так вести разговор. Но Петя тоже взвинчивается.
— А я вам повторяю, это не имеет значения! — багровея, почти кричит на него гражданин. — Вы что, издеваетесь надо мной?!
Словом, разыгрывается безобразнейшая сцена.
Первым приходит в себя Петя и, спохватившись, примирительно говорит:
— Ладно. Погорячился я. Вы уж извините. Давайте спокойненько разберемся, что к чему.
— Вас не извинять, а наказывать надо за такие вещи! — гневно выпаливает гражданин. — Строжайшим образом! Я к вашему начальству сейчас пойду.
— Да успокойтесь вы, в самом-то деле.
— Не желаю успокаиваться. Кто ваш начальник?
— Ну майор Цветков.
— Вот я к нему и пойду. Я это так не оставлю!
Гражданин вскакивает со стула и шаром выкатывается из кабинета.
Петя досадливо и растерянно смотрит ему вслед, потом плетется к дежурному. По дороге он встречает меня.
— Ну и где этот гражданин? — спрашиваю я.
— Сидит ждет Кузьмича, — отвечает вконец расстроенный Петя. — Представляешь, что теперь будет? Ты бы с ним потолковал, а?
— Ладно, — говорю я Пете. — Черт с тобой. Попробую. Но ты-то хорош, нечего оказать.
Петя в ответ лишь горестно машет рукой и уходит, а я, поднявшись на второй этаж, направляюсь в конец коридора, где на скамье замечаю одинокую фигуру.
Когда я подхожу ближе, то вижу толстого потного человека в расстегнутом пальто, под которым виден тоже расстегнутый пиджак, съехавший набок галстук и громадный живот, туго обтянутый белой сорочкой. Отвислые, заросшие черной с проседью щетиной щеки его багрового цвета, а маленький носик, зажатый между ними, наоборот, совершенно побелел. За сильными стеклами очков в тонкой золотой оправе огромные, как у совы, серые встревоженные глаза. При моем приближении человек вскакивает. Короткие широкие брюки смешно болтаются на тонких ножках. На секунду они будят у меня какие-то неясные воспоминания, которые, впрочем, тут же начисто пропадают.
— Это вы начальник? — запальчиво спрашивает меня гражданин, и взгляд его сквозь очки становится одновременно воинственным и растерянным.
— Нет, я не начальник, — отвечаю. — Но мне сказал дежурный, что вы пришли по серьезному делу. Может быть, пока майора Цветкова нет, вы мне расскажете, в чем дело? — И представляюсь: — Инспектор уголовного розыска старший лейтенант милиции Лосев.
Мой титул, видимо, производит благоприятное впечатление, как и мой доброжелательный, спокойный тон. И гражданин отвечает, все еще, правда, нервно, но уже с оттенком доверия:
— Да, да, да! Я вам сейчас все расскажу.
— Тогда пойдемте ко мне.
Когда мы располагаемся в комнате, я предлагаю:
— Прежде всего давайте познакомимся. С кем имею честь говорить? — И, предупреждая его поспешное движение, добавляю: — Паспорт мне не нужен. Просто как к вам обращаться?
— Понимаю, понимаю, — кивает человек, и на полном лице его исчезает напряжение, щеки постепенно приобретают нормальный цвет и нос, кстати, тоже.
— Очень приятно. Пирожков Григорий Сергеевич.
— Ну вот и прекрасно, — говорю я. — Так в чем дело, Григорий Сергеевич? Кто угрожает вашей дочери?
— Если бы я знал! В том-то и дело…
— Но у вас есть какие-нибудь подозрения или предположения?
— Видите ли… что-либо определенное… — Пирожков неожиданно мнется. — Пожалуй, трудно сказать…
Я вижу, что ему есть что сказать, но он явно не решается это сделать. Впрочем, так бывает, и мне его состояние понятно. Человек, попавший в такое сложное положение, обычно не знает, как себя вести. Он боится заподозрить кого-либо понапрасну, выглядеть глупым, наивным или трусливым, наконец, боится направить нас на ложный след, помешать нашему квалифицированному, профессиональному расследованию, на которое он так уповает.
— Григорий Сергеевич, — говорю я как можно спокойнее и внушительней, — если вы действительно обеспокоены этими угрозами, то прежде всего должны быть с нами абсолютно искренни. Иначе мы бессильны будем вам помочь. Не бойтесь, мы во вред вам ничего не истолкуем и ничего не предпримем.
— Ах, если бы… — горестно бормочет Пирожков и вытирает скомканным платком лоб и шею. — Если бы!.. Но вот ваш товарищ, например…
Он бросает на меня укоризненный взгляд. Серые глаза его за стеклами очков неправдоподобно увеличены, расплывчаты и кажутся полными слез.
— А насчет моих подозрений… — продолжает Пирожков и нервно трет пухлые руки. — У Наденьки нет таких знакомых. Это точно. Это безусловно. Она умница. Она хорошая девочка…
— Сколько ей лет?
— Девятнадцать.
— Значит, никаких подозрительных знакомств?
— Ну конечно! У нее таких знакомых нет. Это точно… А вот у меня… кажется…
Пирожков растерянно умолкает, пытаясь собрать какие-то разбегающиеся мысли.
У меня такое ощущение, что сейчас он брякнет какую-то несусветную глупость. Он, видимо, совсем помешался от страха. Ну какие могут быть у этого пожилого, вполне приличного человека знакомые, которые бы угрожали его дочери? Если только сын кого-нибудь из них или, допустим, молодой сослуживец, ухаживания которого были отвергнуты? Но тогда это скорей всего сущая чепуха.
— Господи, — вдруг вырывается у Пирожкова. — Я так устал от этой жизни. Если бы вы только знали…
Мне и в самом деле становится его жалко, даже если все эти страхи ему и померещились.
— От какой жизни, Григорий Сергеевич? — участливо спрашиваю я.
— Ах, все не объяснишь, — он машет рукой.
Но вдруг рука его застывает в воздухе, словно ему внезапно пришла в голову какая-то новая мысль. Пирожков бросает на меня испуганный и одновременно странно-пытливый взгляд, словно заподозрив меня в том, что я подслушал какие-то его мысли, затем торопливо говорит:
— Впрочем, я, пожалуй, не прав. Насчет того человека. Он… он уже уехал из Москвы. И неизвестно когда вернется. Да, да… И вообще… что я, в самом деле…
— Он с вами работал? — спрашиваю я единственно для того, чтобы что-то спросить, ибо и в самом деле что-либо подобное предположить трудно.
— Нет, нет… Он так, знаете… проездом… — сбивчиво отвечает Пирожков. — Остановился в гостинице… и вот уехал… У меня просто ум за разум заходит…
Слово «гостиница» меня совершенно невольно настораживает. Это уже почти рефлекс. Я теперь вообще не могу спокойно его слышать. У меня это слово немедленно ассоциируется с Мушанским, кражами, допросами, словом, чертовщина какая-то. Но я ничего с собой поделать не могу. И машинально спрашиваю:
— Где же он — проездом — остановился?
— Ах, какое это имеет значение! — досадливо машет рукой Пирожков, но в тоне его проскальзывает неуверенность, и он добавляет, словно убеждая самого себя: — Он уехал, и все. Звонили уже после его отъезда. Звонили и грозили. Вы понимаете? Боже мой! Если из-за меня что-нибудь случится с Наденькой, я этого не переживу! Я руки на себя наложу!
Теперь я уже окончательно ничего не понимаю.
— Почему же из-за вас? — удивленно спрашиваю я. — Вы сами говорите…
Вид у него совершенно измученный, даже, я бы сказал, затравленный какой-то.
— Да, да, да! Я знаю, что говорю!.. А впрочем, глупости, глупости. Я просто с ума схожу! И сердце вот… — Он прет грудь под пиджаком. — Каждый день болит. Однажды в гостинице так прихватило, что если бы не дежурная…
Пирожков неожиданно вскакивает и бежит к двери.
— Куда вы, Григорий Сергеевич?
Он так же поспешно возвращается. Короткие брючки смешно полощутся на его тонких ногах. Пальто и пиджак готовы вот-вот соскочить, застегнуть их невозможно, кажется, что они никогда не сойдутся на огромном круглом животе.
— Нет, нет, я никуда, — бормочет Пирожков, обессиленно плюхаясь на стул. — Мне показалось, я забыл…
А у меня вдруг мелькает странная догадка. Я наклоняюсь через стол и тихо спрашиваю:
— Григорий Сергеевич, а ведь его фамилия Николов, не так ли?
Пирожков вздрагивает и испуганно смотрит на меня сквозь очки.
— Вы… разве… позвольте, какой Николов?
— Тот самый, Григорий Сергеевич, — уже твердо говорю я, сам, однако, до конца не веря в эту сумасшедшую удачу. — Мы имеем в виду одного и того же человека.
— Но… ради бога…
— Вы знаете, почему он так неожиданно исчез?
— Понятия… понятия не имею. Но откуда…
— Его обокрали там, в гостинице.
— Не может быть!
Пирожков даже всплескивает короткими пухлыми ручками и с неподдельным изумлением смотрит на меня.
— Представьте себе, — говорю я и повторяю свой вопрос: — Куда же он так неожиданно исчез?
Пирожков отводит глаза и секунду молча трет руки, пытаясь, видимо, собраться с мыслями. Какая-то жестокая борьба идет в нем. Щеки снова становятся багровыми, и постепенно странно белеет тонкий нос между ними.
Но вот Пирожков наконец принимает решение. Огромные водянистые серые глаза за стеклами очков теперь смотрят на меня грустно и отрешенно. Пирожков начинает говорить, осторожно, неуверенно, но вполне, однако, связно:
— Видите ли, я познакомился с ним недавно. Он был у нас в тресте, пытался достать весьма дефицитный стройматериал. Ему это не удалось. И тогда он предложил мне… как бы вам сказать… ну довольно сомнительную сделку. Короче говоря, жульническую, конечно. Я отказался. Я и так, знаете, ночи не сплю со своими делами. Тогда он намекнул, что располагает какими-то компрометирующими меня документами и предложил встретиться, показать их. Я пришел к нему в гостиницу. Хотя я понимал, что таких документов не существует, но все-таки, знаете… мало ли что. Никто не хочет лишних неприятностей. И он мне действительно кое-что показал. Нет, нет! — Пирожков выставляет перед собой руки, словно отталкивая что-то. — Никакого уголовного дела! Но однажды… я уступил одному человеку, своему начальнику. Нарушил ради него строжайший приказ главка… тут не было взятки, клянусь вам. Просто… он приказал, а я… ну, в общем, подчинился. Вы понимаете, не было сил возражать. Он бы меня… Потом он еще раз приказал… Ну, словом, вот так. Потом начальник этот ушел. Все стало на свое место. И вдруг теперь этот человек… Но это не главное! Это бы я еще пережил как-нибудь. Но он сказал… сказал, что я мало люблю Наденьку. И… и очень ею рискую. Это была уже наглость!
В коридоре я сталкиваюсь с Петей Шухминым, он взволнован и одновременно чем-то смущен, по-моему.
— Слушай, — говорит. — Тут, понимаешь, такое дело случилось.
И рассказывает мне довольно неприятную историю.
Оказывается, утром к дежурному является какой-то гражданин и в панике сообщает, что его дочь грозятся убить. Говорит он сбивчиво, бестолково, и дежурный ничего понять не может, тем более что его непрерывно отвлекают. В это время приходит Петя, и дежурный просит его побеседовать с гражданином.
Петя не отказывается и приглашает того к себе. И гражданин снова повторяет свой рассказ.
— Вы только подумайте, — говорит он. — Это же черт знает что! Звонят моей Надюше, грозят. Раз, другой, третий…
— А первый раз когда звонили? — осведомляется Петя.
— Первый? Да я еще домой вернуться не успел!
— Откуда?
— Как то есть откуда? — Гражданин настороженно смотрит на Петю. — Боже мой, какое это имеет значение? Ну, допустим, с работы.
— Не «допустим», а точно говорите, — прицепляется к нему Петя.
Гражданин вызывает у него антипатию и какое-то интуитивное недоверие. Толстый, потный, шумливый, даже скандальный и вдобавок еще до того неряшливый, что это режет глаз даже Пете, который, как известно, сам не отличается особой аккуратностью. К тому же гражданин говорит действительно бестолково. Петя почему-то ее учитывает его состояние и нешуточную причину, которая пригнала его к нам.
— Не обязан я вам это говорить! — взвизгивает гражданин. — Причем тут откуда я пришел?! Убить грозят, вам понятно?! Убить! Мою дочь, понятно?! Вот о чем спрашивайте! А не…
— Я сам знаю, о чем спрашивать, — грубо обрывает его Петя. — Вы меня не учите. Так откуда вы пришли в тот день?
Что-то в интонациях этого гражданина, в его непонятном упрямстве, во всем этом визге и крике Пете не нравится. Хотя это и не дает ему права так вести разговор. Но Петя тоже взвинчивается.
— А я вам повторяю, это не имеет значения! — багровея, почти кричит на него гражданин. — Вы что, издеваетесь надо мной?!
Словом, разыгрывается безобразнейшая сцена.
Первым приходит в себя Петя и, спохватившись, примирительно говорит:
— Ладно. Погорячился я. Вы уж извините. Давайте спокойненько разберемся, что к чему.
— Вас не извинять, а наказывать надо за такие вещи! — гневно выпаливает гражданин. — Строжайшим образом! Я к вашему начальству сейчас пойду.
— Да успокойтесь вы, в самом-то деле.
— Не желаю успокаиваться. Кто ваш начальник?
— Ну майор Цветков.
— Вот я к нему и пойду. Я это так не оставлю!
Гражданин вскакивает со стула и шаром выкатывается из кабинета.
Петя досадливо и растерянно смотрит ему вслед, потом плетется к дежурному. По дороге он встречает меня.
— Ну и где этот гражданин? — спрашиваю я.
— Сидит ждет Кузьмича, — отвечает вконец расстроенный Петя. — Представляешь, что теперь будет? Ты бы с ним потолковал, а?
— Ладно, — говорю я Пете. — Черт с тобой. Попробую. Но ты-то хорош, нечего оказать.
Петя в ответ лишь горестно машет рукой и уходит, а я, поднявшись на второй этаж, направляюсь в конец коридора, где на скамье замечаю одинокую фигуру.
Когда я подхожу ближе, то вижу толстого потного человека в расстегнутом пальто, под которым виден тоже расстегнутый пиджак, съехавший набок галстук и громадный живот, туго обтянутый белой сорочкой. Отвислые, заросшие черной с проседью щетиной щеки его багрового цвета, а маленький носик, зажатый между ними, наоборот, совершенно побелел. За сильными стеклами очков в тонкой золотой оправе огромные, как у совы, серые встревоженные глаза. При моем приближении человек вскакивает. Короткие широкие брюки смешно болтаются на тонких ножках. На секунду они будят у меня какие-то неясные воспоминания, которые, впрочем, тут же начисто пропадают.
— Это вы начальник? — запальчиво спрашивает меня гражданин, и взгляд его сквозь очки становится одновременно воинственным и растерянным.
— Нет, я не начальник, — отвечаю. — Но мне сказал дежурный, что вы пришли по серьезному делу. Может быть, пока майора Цветкова нет, вы мне расскажете, в чем дело? — И представляюсь: — Инспектор уголовного розыска старший лейтенант милиции Лосев.
Мой титул, видимо, производит благоприятное впечатление, как и мой доброжелательный, спокойный тон. И гражданин отвечает, все еще, правда, нервно, но уже с оттенком доверия:
— Да, да, да! Я вам сейчас все расскажу.
— Тогда пойдемте ко мне.
Когда мы располагаемся в комнате, я предлагаю:
— Прежде всего давайте познакомимся. С кем имею честь говорить? — И, предупреждая его поспешное движение, добавляю: — Паспорт мне не нужен. Просто как к вам обращаться?
— Понимаю, понимаю, — кивает человек, и на полном лице его исчезает напряжение, щеки постепенно приобретают нормальный цвет и нос, кстати, тоже.
— Очень приятно. Пирожков Григорий Сергеевич.
— Ну вот и прекрасно, — говорю я. — Так в чем дело, Григорий Сергеевич? Кто угрожает вашей дочери?
— Если бы я знал! В том-то и дело…
— Но у вас есть какие-нибудь подозрения или предположения?
— Видите ли… что-либо определенное… — Пирожков неожиданно мнется. — Пожалуй, трудно сказать…
Я вижу, что ему есть что сказать, но он явно не решается это сделать. Впрочем, так бывает, и мне его состояние понятно. Человек, попавший в такое сложное положение, обычно не знает, как себя вести. Он боится заподозрить кого-либо понапрасну, выглядеть глупым, наивным или трусливым, наконец, боится направить нас на ложный след, помешать нашему квалифицированному, профессиональному расследованию, на которое он так уповает.
— Григорий Сергеевич, — говорю я как можно спокойнее и внушительней, — если вы действительно обеспокоены этими угрозами, то прежде всего должны быть с нами абсолютно искренни. Иначе мы бессильны будем вам помочь. Не бойтесь, мы во вред вам ничего не истолкуем и ничего не предпримем.
— Ах, если бы… — горестно бормочет Пирожков и вытирает скомканным платком лоб и шею. — Если бы!.. Но вот ваш товарищ, например…
Он бросает на меня укоризненный взгляд. Серые глаза его за стеклами очков неправдоподобно увеличены, расплывчаты и кажутся полными слез.
— А насчет моих подозрений… — продолжает Пирожков и нервно трет пухлые руки. — У Наденьки нет таких знакомых. Это точно. Это безусловно. Она умница. Она хорошая девочка…
— Сколько ей лет?
— Девятнадцать.
— Значит, никаких подозрительных знакомств?
— Ну конечно! У нее таких знакомых нет. Это точно… А вот у меня… кажется…
Пирожков растерянно умолкает, пытаясь собрать какие-то разбегающиеся мысли.
У меня такое ощущение, что сейчас он брякнет какую-то несусветную глупость. Он, видимо, совсем помешался от страха. Ну какие могут быть у этого пожилого, вполне приличного человека знакомые, которые бы угрожали его дочери? Если только сын кого-нибудь из них или, допустим, молодой сослуживец, ухаживания которого были отвергнуты? Но тогда это скорей всего сущая чепуха.
— Господи, — вдруг вырывается у Пирожкова. — Я так устал от этой жизни. Если бы вы только знали…
Мне и в самом деле становится его жалко, даже если все эти страхи ему и померещились.
— От какой жизни, Григорий Сергеевич? — участливо спрашиваю я.
— Ах, все не объяснишь, — он машет рукой.
Но вдруг рука его застывает в воздухе, словно ему внезапно пришла в голову какая-то новая мысль. Пирожков бросает на меня испуганный и одновременно странно-пытливый взгляд, словно заподозрив меня в том, что я подслушал какие-то его мысли, затем торопливо говорит:
— Впрочем, я, пожалуй, не прав. Насчет того человека. Он… он уже уехал из Москвы. И неизвестно когда вернется. Да, да… И вообще… что я, в самом деле…
— Он с вами работал? — спрашиваю я единственно для того, чтобы что-то спросить, ибо и в самом деле что-либо подобное предположить трудно.
— Нет, нет… Он так, знаете… проездом… — сбивчиво отвечает Пирожков. — Остановился в гостинице… и вот уехал… У меня просто ум за разум заходит…
Слово «гостиница» меня совершенно невольно настораживает. Это уже почти рефлекс. Я теперь вообще не могу спокойно его слышать. У меня это слово немедленно ассоциируется с Мушанским, кражами, допросами, словом, чертовщина какая-то. Но я ничего с собой поделать не могу. И машинально спрашиваю:
— Где же он — проездом — остановился?
— Ах, какое это имеет значение! — досадливо машет рукой Пирожков, но в тоне его проскальзывает неуверенность, и он добавляет, словно убеждая самого себя: — Он уехал, и все. Звонили уже после его отъезда. Звонили и грозили. Вы понимаете? Боже мой! Если из-за меня что-нибудь случится с Наденькой, я этого не переживу! Я руки на себя наложу!
Теперь я уже окончательно ничего не понимаю.
— Почему же из-за вас? — удивленно спрашиваю я. — Вы сами говорите…
Вид у него совершенно измученный, даже, я бы сказал, затравленный какой-то.
— Да, да, да! Я знаю, что говорю!.. А впрочем, глупости, глупости. Я просто с ума схожу! И сердце вот… — Он прет грудь под пиджаком. — Каждый день болит. Однажды в гостинице так прихватило, что если бы не дежурная…
Пирожков неожиданно вскакивает и бежит к двери.
— Куда вы, Григорий Сергеевич?
Он так же поспешно возвращается. Короткие брючки смешно полощутся на его тонких ногах. Пальто и пиджак готовы вот-вот соскочить, застегнуть их невозможно, кажется, что они никогда не сойдутся на огромном круглом животе.
— Нет, нет, я никуда, — бормочет Пирожков, обессиленно плюхаясь на стул. — Мне показалось, я забыл…
А у меня вдруг мелькает странная догадка. Я наклоняюсь через стол и тихо спрашиваю:
— Григорий Сергеевич, а ведь его фамилия Николов, не так ли?
Пирожков вздрагивает и испуганно смотрит на меня сквозь очки.
— Вы… разве… позвольте, какой Николов?
— Тот самый, Григорий Сергеевич, — уже твердо говорю я, сам, однако, до конца не веря в эту сумасшедшую удачу. — Мы имеем в виду одного и того же человека.
— Но… ради бога…
— Вы знаете, почему он так неожиданно исчез?
— Понятия… понятия не имею. Но откуда…
— Его обокрали там, в гостинице.
— Не может быть!
Пирожков даже всплескивает короткими пухлыми ручками и с неподдельным изумлением смотрит на меня.
— Представьте себе, — говорю я и повторяю свой вопрос: — Куда же он так неожиданно исчез?
Пирожков отводит глаза и секунду молча трет руки, пытаясь, видимо, собраться с мыслями. Какая-то жестокая борьба идет в нем. Щеки снова становятся багровыми, и постепенно странно белеет тонкий нос между ними.
Но вот Пирожков наконец принимает решение. Огромные водянистые серые глаза за стеклами очков теперь смотрят на меня грустно и отрешенно. Пирожков начинает говорить, осторожно, неуверенно, но вполне, однако, связно:
— Видите ли, я познакомился с ним недавно. Он был у нас в тресте, пытался достать весьма дефицитный стройматериал. Ему это не удалось. И тогда он предложил мне… как бы вам сказать… ну довольно сомнительную сделку. Короче говоря, жульническую, конечно. Я отказался. Я и так, знаете, ночи не сплю со своими делами. Тогда он намекнул, что располагает какими-то компрометирующими меня документами и предложил встретиться, показать их. Я пришел к нему в гостиницу. Хотя я понимал, что таких документов не существует, но все-таки, знаете… мало ли что. Никто не хочет лишних неприятностей. И он мне действительно кое-что показал. Нет, нет! — Пирожков выставляет перед собой руки, словно отталкивая что-то. — Никакого уголовного дела! Но однажды… я уступил одному человеку, своему начальнику. Нарушил ради него строжайший приказ главка… тут не было взятки, клянусь вам. Просто… он приказал, а я… ну, в общем, подчинился. Вы понимаете, не было сил возражать. Он бы меня… Потом он еще раз приказал… Ну, словом, вот так. Потом начальник этот ушел. Все стало на свое место. И вдруг теперь этот человек… Но это не главное! Это бы я еще пережил как-нибудь. Но он сказал… сказал, что я мало люблю Наденьку. И… и очень ею рискую. Это была уже наглость!
