Страница:
Столовая заставлена мебелью. Какие-то старинные, затейливые стулья с высокими спинками, громадный, в полстены, буфет, тугие, обтянутые шелком пуфики, два мощных «вольтеровских» кресла в углу, обитые зеленым сукном, с красивыми резными подлокотниками, круглый стол на искусно выполненных львиных лапах, хрустальная люстра над ним, как юбилейный сахарный пирог с воткнутыми в нем белыми свечами. По стенам густо развешаны сомнительных достоинств картины в золотых багетах, громадные и совсем маленькие. Под французов и итальянцев, если не ошибаюсь.
Впрочем, рассмотреть картины я не успеваю. Бурлаков усаживает меня в одно из кресел, сам опускается в другое. Рядом оказывается полированный, вполне современный журнальный столик на тоненьких дрожащих ножках. На столике лежат большие шахматы, две пестрые коробочки сигарет, одна из них «Кент», красивая газовая зажигалка и громадная пепельница из цветного чешского стекла.
Мы закуриваем.
— Слушаю вас, молодой человек, — добродушно рокочет Бурлаков, откидываясь на спинку кресла.
Но маленькие светлые глазки его под набрякшими веками изучают меня довольно откровенно. Во взгляде его чуть заметна ирония. Меня он, кажется, всерьез не воспринимает. Мальчишка, вот и все. «Тем лучше», — сказал бы Кузьмич. Но меня это задевает.
— Видите ли, Светозар Еремеевич, — осторожно говорю я, — нас интересует один человек, который когда-то попадался вам на пути. Может быть, вы его вспомните. — И, как бы между прочим, добавляю: — Вас-то он, конечно, помнит.
— Кто же это такой? — спокойно интересуется Бурлаков.
— Некий Зурих Михаил Александрович.
— Зурих… Зурих… — бормочет Бурлаков, затягиваясь сигаретой и задумчиво глядя куда-то в пространство.
Ответить сразу ему мешает мой неприятный, хотя и не совсем ясный намек на то, что Зурих его помнит. Бурлаков, наверное, пытается его сейчас оценить.
Наконец он выдавливает:
— Что-то, признаться, не помню такого.
— Недавно снова приезжал в Москву, — подсказываю я. — Правда, фамилия у него на этот раз была Николов.
— Гляди, — усмехается Бурлаков. — Ну артист…
— Тоже не припоминаете?
— Николова? Откуда же?
— Тогда сначала напомню вам фамилию Зурих, — говорю я. — И пожалуй, не теми фактами, которые он может сообщить, а теми, что вы сами сообщили. Так вам, пожалуй, будет легче вспомнить.
Я улавливаю настороженность в глазах Бурлакова, даже некоторую опаску. И относится это, конечно, к моему намеку на факты, которые может сообщить Зурих. Из чего следует, видимо, сделать вывод, что Бурлаков скорей всего не знает, где сейчас находится Зурих, возможно, он и у нас уже. И во-вторых, Бурлаков, очевидно, не уверен, что Зурих будет молчать, попав к нам.
То, что Бурлакова одолевают все эти сомнения, и хорошо и плохо. Все зависит от того, решит ли он, что Зурих у нас или нет. Если решит, то будет, конечно, защищаться и что-то о Зурихе скажет. Если же нет, то побоится помочь нам напасть на его след и ничего не скажет.
Как мне хочется в этот момент взять его «на пушку» и сообщить, что Зурих у нас. Но делать это ни в коем случае нельзя. И не только потому, что если я ошибаюсь и Бурлаков знает, где на самом деле сейчас Зурих, то разговор будет безнадежно сорван и я вообще ничего не узнаю. Главное в другом, в том, что обманывать Бурлакова я не имею права, это бесчестный прием, и он до добра не доводит. Но вот посеять в душе Бурлакова неуверенность и тревогу, вызвать всяческие опасения и тем толкнуть на какой-то необдуманный, неосторожный шаг, заставить проговориться, на это я имею право, и это надо постараться сделать. Словом, обхитрить я его могу, но обмануть нет.
— Ну, ну, интересно даже, — говорит Бурлаков. — Чего такое я сообщил об этом Зурихе. Может, я его и вспомню. Народу-то тьму-тьмущую на своем веку встречал. Интересно даже…
Но я чувствую, что ему совсем не интересно, ему все это в высшей степени неприятно и боязно тоже!
— Для этого придется напомнить вам, Светозар Еремеевич, одно дело.
И я пересказываю ему то самое судебное дело. При этом даю понять, что верю и в полную непричастность к нему самого Бурлакова, и в абсолютную правдивость его показаний как свидетеля. Особо останавливаюсь я на эпизоде, где Бурлаков упомянул Зуриха.
Все это его, естественно, вполне устраивает и даже вызывает симпатию ко мне. Но, с другой стороны, это как бы обязывает его пойти мне навстречу, не разрушить мое впечатление о его роли в том деле, и ему волей-неволей приходится вспомнить упомянутый мною эпизод.
— Зурих, Зурих… Да, да… был такой, — с видимым, даже подчеркнутым усилием вспоминает Бурлаков.
— Что он собой представляет? — спрашиваю я. — Поделитесь впечатлением, Светозар Еремеевич, — и со значением добавляю: — Очень мы на вас рассчитываем.
— Ну особо-то не рассчитывайте, — размягченно гудит Бурлаков. — Память-то, знаете, стала того…
— Ничего. Я вам помогу.
И тут же замечаю, что Бурлакову не очень нравятся мои последние слова. Что ж, не все же его гладить по шерстке. Пусть не думает, что я каждое его слово на веру приму.
— Ну что я о нем помню… — собирается с мыслями Бурлаков и, видимо, лихорадочно соображает, что же такое сообщить о Зурихе, чтобы и впросак не попасть, и лишнего чего-нибудь не брякнуть.
Я его не тороплю, пусть подумает.
— Значит, приехал он вроде бы из Одессы… — начинает Бурлаков. — Да, да, из Одессы. Командировка у него еще была, помню. Что-то там по обмену опытом, если не ошибаюсь. А у нас в это время голова о другом болела Махинации всякие обнаружились, дефицитный материал на сторону плыл. Вот и те тридцать тонн керамзита, — в голосе Бурлакова слышится металл благородного негодования, он входит в обличительный раж и даже, как видите, кое-что преувеличивает. — Ну жуликов-то мы, конечно, за шиворот. И под суд, чтобы неповадно было А этот самый Зурих… Думается мне теперь, и он к этим делам руку приложил. Но тогда впечатление производил самое благоприятное. Беседы такие умные вел, что ой-ой-ой.
— И дома у вас бывал, — не то спрашиваю, не то подсказываю я.
— Разве гниль-то сразу увидишь? — продолжает с негодованием Бурлаков. — Пуд соли с таким подлецом сперва съесть надо. Тем более… — Но тут он спохватывается и поспешно добавляет: — По чести говоря, помнится, однажды был он у меня дома, напросился.
— А в Одессе у него семья? — спрашиваю я, делая вид, что не замечаю его оговорки.
— Какая там семья, — расплывается в улыбке Бурлаков. — Так, знаете… одна любовь. С ней и в Москву прикатил. Ох и девка… Для супруги, я скажу, слишком хороша.
Толстая физиономия его приобретает мечтательное выражение, и он сладко чмокает губами.
— Звали-то ее как? — с неслужебной, а чисто мужской заинтересованностью спрашиваю я, подыгрывая Бурлакову.
— Галина Остаповна… — все так же мечтательно отвечает он.
Вот это открытие! Ради одного его стоило навестить Бурлакова.
— Ну а может быть, и жена? Красота, это, знаете, еще ничего не означает, — все тем же тоном продолжаю я обсуждать эту животрепещущую тему.
— Что вы! Какая там жена… — отмахивался Бурлаков, весь еще во власти приятных воспоминаний. — Жене разве такие подарки делают, какие он делал?
— Какие же? — с любопытством спрашиваю я.
— Ну, к примеру, золотое кольцо с камнями, каждое по два карата, не меньше. Старинной работы. Камушки, как ягодки, на стебельке висят. Неслыханной красоты кольцо, уверяю вас.
— Ух ты… — восхищенно вздыхаю я.
— А внутри, значит, надпись изобразил, — увлеченно продолжает Бурлаков.
— Как сейчас помню: «Галочке от М.3. на всю жизнь».
Второй факт, который стоит не меньше первого!
— Ну вот видите? — говорю я. — «…на всю жизнь». Выходит, все-таки жена она ему.
Бурлаков с откровенной иронией смотрит на меня.
— Эх, молодой человек, что вы понимаете? — вздыхает он. — Да если хотите знать, он эту Галочку уже бросил, говорят. Вот вам и «на всю жизнь».
Но я чувствую, что он доволен, и не только сладкими воспоминаниями о красивой Галине Остаповне, но и тем, что так ловко увел разговор в сторону от опасной темы всяких там злоупотреблений и махинаций в тихую заводь любовных утех. И я пока его иллюзии не разрушаю. Кстати, факт его собственного знакомства с Галиной Кочергой нам тоже может пригодиться. Об этом он, конечно, не догадывается.
— А вы-то память о себе ей тоже небось оставили? — лукаво спрашиваю я.
— Не утерпели? Тем более если не жена.
— Куда мне, старику!.. — машет рукой Бурлаков.
Он закуривает новую сигарету и блаженно откидывается на спинку кресла.
Но тут вдруг до него, видимо, доходит, что он, пожалуй, уж слишком расписал свои связи с Зурихом, и неожиданно резко заявляет:
— Да и с какой, собственно, стати мне ей чего-то дарить? Люди, в общем-то, посторонние, незнакомые даже.
Глазки его наливаются холодом и теперь смотрят на меня отчужденно и даже подозрительно. Я понимаю, что лирическая часть разговора окончена, и пожимаю плечами.
— Вообще-то верно, — соглашаюсь я и уже деловым тоном спрашиваю: — Не помните, где Зурих тогда работал?
— А черт его знает, где этот прохвост работал. Разве все упомнишь?
— Недавно с ним в Москве большая неприятность случилась, — говорю я.
— Это какая же? — настороженно интересуется Бурлаков.
— В гостинице его обокрали.
— Вот те раз! — не очень искусно демонстрирует удивление Бурлаков. — Скажи на милость.
Ему, конечно, все это давно известно, возможно, даже не только от Веры Михайловны.
Я чувствую, что больше ничего от Бурлакова не узнаю. Он уже отгородился от меня и, возможно, даже казнит себя сейчас за болтливость.
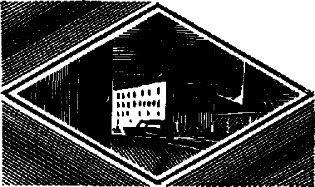
Впрочем, рассмотреть картины я не успеваю. Бурлаков усаживает меня в одно из кресел, сам опускается в другое. Рядом оказывается полированный, вполне современный журнальный столик на тоненьких дрожащих ножках. На столике лежат большие шахматы, две пестрые коробочки сигарет, одна из них «Кент», красивая газовая зажигалка и громадная пепельница из цветного чешского стекла.
Мы закуриваем.
— Слушаю вас, молодой человек, — добродушно рокочет Бурлаков, откидываясь на спинку кресла.
Но маленькие светлые глазки его под набрякшими веками изучают меня довольно откровенно. Во взгляде его чуть заметна ирония. Меня он, кажется, всерьез не воспринимает. Мальчишка, вот и все. «Тем лучше», — сказал бы Кузьмич. Но меня это задевает.
— Видите ли, Светозар Еремеевич, — осторожно говорю я, — нас интересует один человек, который когда-то попадался вам на пути. Может быть, вы его вспомните. — И, как бы между прочим, добавляю: — Вас-то он, конечно, помнит.
— Кто же это такой? — спокойно интересуется Бурлаков.
— Некий Зурих Михаил Александрович.
— Зурих… Зурих… — бормочет Бурлаков, затягиваясь сигаретой и задумчиво глядя куда-то в пространство.
Ответить сразу ему мешает мой неприятный, хотя и не совсем ясный намек на то, что Зурих его помнит. Бурлаков, наверное, пытается его сейчас оценить.
Наконец он выдавливает:
— Что-то, признаться, не помню такого.
— Недавно снова приезжал в Москву, — подсказываю я. — Правда, фамилия у него на этот раз была Николов.
— Гляди, — усмехается Бурлаков. — Ну артист…
— Тоже не припоминаете?
— Николова? Откуда же?
— Тогда сначала напомню вам фамилию Зурих, — говорю я. — И пожалуй, не теми фактами, которые он может сообщить, а теми, что вы сами сообщили. Так вам, пожалуй, будет легче вспомнить.
Я улавливаю настороженность в глазах Бурлакова, даже некоторую опаску. И относится это, конечно, к моему намеку на факты, которые может сообщить Зурих. Из чего следует, видимо, сделать вывод, что Бурлаков скорей всего не знает, где сейчас находится Зурих, возможно, он и у нас уже. И во-вторых, Бурлаков, очевидно, не уверен, что Зурих будет молчать, попав к нам.
То, что Бурлакова одолевают все эти сомнения, и хорошо и плохо. Все зависит от того, решит ли он, что Зурих у нас или нет. Если решит, то будет, конечно, защищаться и что-то о Зурихе скажет. Если же нет, то побоится помочь нам напасть на его след и ничего не скажет.
Как мне хочется в этот момент взять его «на пушку» и сообщить, что Зурих у нас. Но делать это ни в коем случае нельзя. И не только потому, что если я ошибаюсь и Бурлаков знает, где на самом деле сейчас Зурих, то разговор будет безнадежно сорван и я вообще ничего не узнаю. Главное в другом, в том, что обманывать Бурлакова я не имею права, это бесчестный прием, и он до добра не доводит. Но вот посеять в душе Бурлакова неуверенность и тревогу, вызвать всяческие опасения и тем толкнуть на какой-то необдуманный, неосторожный шаг, заставить проговориться, на это я имею право, и это надо постараться сделать. Словом, обхитрить я его могу, но обмануть нет.
— Ну, ну, интересно даже, — говорит Бурлаков. — Чего такое я сообщил об этом Зурихе. Может, я его и вспомню. Народу-то тьму-тьмущую на своем веку встречал. Интересно даже…
Но я чувствую, что ему совсем не интересно, ему все это в высшей степени неприятно и боязно тоже!
— Для этого придется напомнить вам, Светозар Еремеевич, одно дело.
И я пересказываю ему то самое судебное дело. При этом даю понять, что верю и в полную непричастность к нему самого Бурлакова, и в абсолютную правдивость его показаний как свидетеля. Особо останавливаюсь я на эпизоде, где Бурлаков упомянул Зуриха.
Все это его, естественно, вполне устраивает и даже вызывает симпатию ко мне. Но, с другой стороны, это как бы обязывает его пойти мне навстречу, не разрушить мое впечатление о его роли в том деле, и ему волей-неволей приходится вспомнить упомянутый мною эпизод.
— Зурих, Зурих… Да, да… был такой, — с видимым, даже подчеркнутым усилием вспоминает Бурлаков.
— Что он собой представляет? — спрашиваю я. — Поделитесь впечатлением, Светозар Еремеевич, — и со значением добавляю: — Очень мы на вас рассчитываем.
— Ну особо-то не рассчитывайте, — размягченно гудит Бурлаков. — Память-то, знаете, стала того…
— Ничего. Я вам помогу.
И тут же замечаю, что Бурлакову не очень нравятся мои последние слова. Что ж, не все же его гладить по шерстке. Пусть не думает, что я каждое его слово на веру приму.
— Ну что я о нем помню… — собирается с мыслями Бурлаков и, видимо, лихорадочно соображает, что же такое сообщить о Зурихе, чтобы и впросак не попасть, и лишнего чего-нибудь не брякнуть.
Я его не тороплю, пусть подумает.
— Значит, приехал он вроде бы из Одессы… — начинает Бурлаков. — Да, да, из Одессы. Командировка у него еще была, помню. Что-то там по обмену опытом, если не ошибаюсь. А у нас в это время голова о другом болела Махинации всякие обнаружились, дефицитный материал на сторону плыл. Вот и те тридцать тонн керамзита, — в голосе Бурлакова слышится металл благородного негодования, он входит в обличительный раж и даже, как видите, кое-что преувеличивает. — Ну жуликов-то мы, конечно, за шиворот. И под суд, чтобы неповадно было А этот самый Зурих… Думается мне теперь, и он к этим делам руку приложил. Но тогда впечатление производил самое благоприятное. Беседы такие умные вел, что ой-ой-ой.
— И дома у вас бывал, — не то спрашиваю, не то подсказываю я.
— Разве гниль-то сразу увидишь? — продолжает с негодованием Бурлаков. — Пуд соли с таким подлецом сперва съесть надо. Тем более… — Но тут он спохватывается и поспешно добавляет: — По чести говоря, помнится, однажды был он у меня дома, напросился.
— А в Одессе у него семья? — спрашиваю я, делая вид, что не замечаю его оговорки.
— Какая там семья, — расплывается в улыбке Бурлаков. — Так, знаете… одна любовь. С ней и в Москву прикатил. Ох и девка… Для супруги, я скажу, слишком хороша.
Толстая физиономия его приобретает мечтательное выражение, и он сладко чмокает губами.
— Звали-то ее как? — с неслужебной, а чисто мужской заинтересованностью спрашиваю я, подыгрывая Бурлакову.
— Галина Остаповна… — все так же мечтательно отвечает он.
Вот это открытие! Ради одного его стоило навестить Бурлакова.
— Ну а может быть, и жена? Красота, это, знаете, еще ничего не означает, — все тем же тоном продолжаю я обсуждать эту животрепещущую тему.
— Что вы! Какая там жена… — отмахивался Бурлаков, весь еще во власти приятных воспоминаний. — Жене разве такие подарки делают, какие он делал?
— Какие же? — с любопытством спрашиваю я.
— Ну, к примеру, золотое кольцо с камнями, каждое по два карата, не меньше. Старинной работы. Камушки, как ягодки, на стебельке висят. Неслыханной красоты кольцо, уверяю вас.
— Ух ты… — восхищенно вздыхаю я.
— А внутри, значит, надпись изобразил, — увлеченно продолжает Бурлаков.
— Как сейчас помню: «Галочке от М.3. на всю жизнь».
Второй факт, который стоит не меньше первого!
— Ну вот видите? — говорю я. — «…на всю жизнь». Выходит, все-таки жена она ему.
Бурлаков с откровенной иронией смотрит на меня.
— Эх, молодой человек, что вы понимаете? — вздыхает он. — Да если хотите знать, он эту Галочку уже бросил, говорят. Вот вам и «на всю жизнь».
Но я чувствую, что он доволен, и не только сладкими воспоминаниями о красивой Галине Остаповне, но и тем, что так ловко увел разговор в сторону от опасной темы всяких там злоупотреблений и махинаций в тихую заводь любовных утех. И я пока его иллюзии не разрушаю. Кстати, факт его собственного знакомства с Галиной Кочергой нам тоже может пригодиться. Об этом он, конечно, не догадывается.
— А вы-то память о себе ей тоже небось оставили? — лукаво спрашиваю я.
— Не утерпели? Тем более если не жена.
— Куда мне, старику!.. — машет рукой Бурлаков.
Он закуривает новую сигарету и блаженно откидывается на спинку кресла.
Но тут вдруг до него, видимо, доходит, что он, пожалуй, уж слишком расписал свои связи с Зурихом, и неожиданно резко заявляет:
— Да и с какой, собственно, стати мне ей чего-то дарить? Люди, в общем-то, посторонние, незнакомые даже.
Глазки его наливаются холодом и теперь смотрят на меня отчужденно и даже подозрительно. Я понимаю, что лирическая часть разговора окончена, и пожимаю плечами.
— Вообще-то верно, — соглашаюсь я и уже деловым тоном спрашиваю: — Не помните, где Зурих тогда работал?
— А черт его знает, где этот прохвост работал. Разве все упомнишь?
— Недавно с ним в Москве большая неприятность случилась, — говорю я.
— Это какая же? — настороженно интересуется Бурлаков.
— В гостинице его обокрали.
— Вот те раз! — не очень искусно демонстрирует удивление Бурлаков. — Скажи на милость.
Ему, конечно, все это давно известно, возможно, даже не только от Веры Михайловны.
Я чувствую, что больше ничего от Бурлакова не узнаю. Он уже отгородился от меня и, возможно, даже казнит себя сейчас за болтливость.
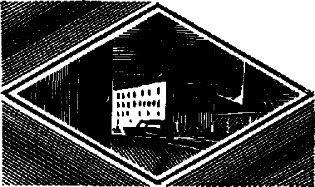
Глава 7.
СЕСТРЕНОК НЕ ВЫБИРАЮТ
Поздний вечер. Я все еще сижу у Кузьмича. Он по привычке утюжит ладонью свою седую макушку и, хмурясь, говорит:
— Что значит «исчез»? Что это еще за чепуха такая?
Он сердит и встревожен. Я это прекрасно вижу. И я встревожен не меньше его, даже больше. И сердит тоже.
— Все-таки что-то случилось, — говорю я.
— Панику порют. Ну не ночевал в гостинице, не дал о себе знать. Что из того? В нашей работе всякое может быть.
— Вот именно, — многозначительно подтверждаю я.
— А, брось, — машет рукой Кузьмич. — Что это за настроение у тебя, скажи на милость?
— Я вам говорил, Федор Кузьмич, не надо было посылать его одного. Не у меня настроение, а у него.
— Да что за черт! — взрывается Кузьмич. — С барышнями какими-то кисейными работаю! Настроение, видите ли, у них! Нервные стали, — он берет себя в руки и сухо говорит: — Ладно, хватит. Чтоб я больше об этом не слышал.
— Разрешите мне поехать в Пунеж, Федор Кузьмич, — как можно спокойнее говорю я.
— Не разрешаю. Ты поедешь в Одессу. Найдется Откаленко, не бойся. А если он глупости наделал… Да нет! Что мы его, первый день знаем?
Кузьмич вытаскивает из ящика стола сигарету, закуривает и машет рукой, разгоняя дым.
Я вижу, с каким трудом он успокаивается. У него тоже шалят нервы. Но и я взвинчен. Я целый день почему-то в таком состоянии, словно предчувствовал, что что-то случится.
— Давай займемся делом, — говорит Кузьмич. — Значит, Одесса. Какие факты привели нас к ней?
— Пожалуйста, — нехотя отвечаю я. — Значит, так. Если начать в хронологическом порядке. Зурих звонил туда Галине Кочерге и говорил с ней дольше, чем с другими. Потом она уехала якобы к больной матери. Денисов установил: мать больна не была, просто жила месяц у старшей дочери и сейчас вместе с Галиной вернулась в Одессу, — незаметно для самого себя я увлекаюсь и говорю уже с некоторой даже горячностью: — Дальше. Зурих пытался подарить Варе Глотовой браслет, купленный в комиссионном магазине в Одессе, возможно, в том самом, где работает Галина Кочерга. Он же дал Николову для связи ее адрес, а не чей-нибудь другой. Отсюда можно сделать вывод, что, во всяком случае, деловые отношения у них сохраняются.
— Так, так… — одобрительно кивает Кузьмич.
— Потом. В Одессу срочно летал Клячко. Цель пока неясна. Там же, в Одессе, вероятно, жил и работал Зурих. По крайней мере, там он получил командировку в Москву и, конечно же, туда угнал вагон дефицитного керамзита. Ну что еще? Кочерга замечена в спекуляции кофточками, которые обнаружены у Зуриха. Наконец, Зурих был в близких отношениях с этой девицей и в Москве подарил ей дорогое кольцо с надписью. Вот, пожалуй, и все… Да! Возможно, что в Одессу Зурих направил какого-то головореза, который звонил Пирожкову. Вот и все факты по Одессе.
— Немало… немало… — задумчиво произносит Кузьмич и мнет в пепельнице недокуренную сигарету. — Очень даже немало… Сам, надеюсь, видишь. Итак, надо ехать, — он решительно прихлопывает ладонями по столу. — Непременно надо ехать. Очень все там серьезно.
— Конечно, Федор Кузьмич.
— Вот и поедешь. С Денисовым.
— Нет, Федор Кузьмич, — твердо говорю я. — С Денисовым я бы не хотел ехать.
— Это еще почему?
Кузьмич сердито и удивленно смотрит на меня.
— Именно потому, что там все очень серьезно.
— Что-то я тебя не понимаю, милый мой. Что ж, по-твоему, Денисов плохой работник?
— Не в этом дело. Просто психологическая несовместимость. И потом… я не люблю равнодушных.
С Кузьмичом я привык быть всегда откровенен. Я ему очень верю, нашему Кузьмичу. И он это знает.
— Та-ак… — задумчиво произносит Кузьмич. — Интересно. Однако и одному тебе будет трудно.
— Там есть отличные ребята.
— Это конечно. И все же требуется рядом человек… Узел-то запутанный. Эта самая Галина и ее окружение… Гм… И человек должен быть умный, опытный и… какой-то другой, чтобы посмотреть на все по-другому, заметить, чего ты можешь не заметить…
Кузьмич размышляет вслух, навалившись грудью на стол, и, прищурившись, смотрит куда-то в пространство:
— А что, если… Гм… если послать с тобой женщину?..
— Женщину?! — изумленно переспрашиваю я. — Это еще зачем?
Кузьмич усмехается.
— Красивую молодую женщину. Нашего работника, конечно.
— Мужчина надежней!
— Гм… видно, что ты с женщинами не работал, — очень серьезно говорит Кузьмич. — А они, милый мой, могут быть неоценимыми работниками. У них свои качества, которых у нас нет. Не замечал? Например, особая интуиция и особая наблюдательность. С ними иной раз скорее будут откровенны и легче вступят в контакт.
Я невольно улыбаюсь.
— Уговорили, Федор Кузьмич. Надо только найти стоящего человека, — замечаю я.
— Конечно, — соглашается Кузьмич. — Найдем. Есть у нас такой человек.
— Кто же это?
— Да вот хотя бы Златова Лена. Очень хороший работник.
— Лена?!
У меня, очевидно, в этот момент очень глупый вид. И Кузьмич еле заметно усмехается.
Я решаю ничего не объяснять. Кузьмич опять скажет, что все это мои причуды и нервы.
— Вставай, пошли, — говорит Кузьмич, потягиваясь. — Поздно уже. Завтра утром все обговорим окончательно.
Я машинально поднимаюсь и устало тру лоб. Черт возьми, слишком уж много впечатлений для одного дня.
Утром в кабинете Кузьмича я застаю высокую молодую женщину, светлые, с рыжеватым отливом волосы аккуратно собраны в тугой пучок на затылке, на впалых щеках чуть заметный румянец, строгая вертикальная складка залегла между тонкими бровями, серые глаза смотрят сухо и внимательно. Ей бы еще очки в роговой оправе. Типичная «училка», да и только.
Впервые я вижу Лену так близко. Тогда, в троллейбусе, она показалась мне куда симпатичнее.
Кузьмич нас друг другу представляет, деловито и вполне официально.
— Старший лейтенант Лосев Виталий Павлович. Лейтенант Златова Елена Павловна…
Тут он на секунду останавливается, удивленный неожиданным совпадением, оглядывает нас и усмехается.
Мы тоже невольно, хотя и весьма сдержанно, улыбаемся.
— И в самом деле похожи, — говорит Кузьмич. — Оба длинные, худые, светловолосые. И даже лицом, пожалуй, похожи.
— Обрел себе сестрицу на старости лет, — шучу я без особого, впрочем, энтузиазма.
Лену эта мысль тоже, кажется, в восторг не приводит.
— А что? Такая легенда тоже может пригодиться, — серьезно подтверждает Кузьмич. — Пока что извольте друг друга по имени величать. С первого раза привыкайте.
— Доброе утро, Леночка, — говорю я чуть насмешливо.
— Доброе утро, Виталий, — сдержанно отвечает она мне.
Нет, я решительно недоволен такой сестрицей. «Синий чулок» какой-то. Что только нашел в ней Игорь? Впрочем, я ей, кажется, тоже не слишком пришелся по душе. Такие ощущения почти всегда взаимны, кстати.
Кузьмич, по-моему, все замечает, но вида не подает.
— Так вот, милые мои, — говорит он. — Летите вы завтра. День даю на подготовку. Ты, Виталий, сейчас полностью введи Лену в курс дела. Все обсудите. Наметьте легенду, кто вы, откуда и так далее. Это на случай контактов. И помните, задача ваша не только обнаружить и задержать Зуриха. Его там вообще может не оказаться. Надо еще выявить все его связи, найти ниточки, ведущие к убийству, а они там есть, не зря Клячко летал в Одессу. Вечером встретимся и все окончательно уточним. Вот так. Вопросы есть?
— Есть один, — говорю я. — Вы не звонили больше в Пунеж, Федор Кузьмич.
— Нет, — сдержанно отвечает Кузьмич. — Ну ступайте.
Мы выходим из кабинета. Я галантно пропускаю Лену вперед.
По дороге я заглядываю в комнату, где сидит Валя Денисов. Он, к счастью, на месте.
— Пойдем, — говорю я ему. — И захвати свою папку. Надо ввести товарища в курс дела.
Мы уже втроем идем по коридору и заходим в мою комнату.
Пустой стол Игоря вызывает у меня какое-то сосущее, тоскливое чувство. Я бросаю быстрый взгляд на Лену. Серые глаза ее смотрят по-прежнему отчужденно и сосредоточенно. Она вся ушла в себя и не делает никаких попыток наладить хоть какой-то контакт со мной. Ну и особа.
Мы усаживаемся возле моего стола, и Валя раскрывает папку.
— Давай, — говорю я. — Мне тоже не грех вспомнить все детали.
Валя, кстати говоря, идеальный накопитель всяких сведений. У него не только феноменальная память, он еще умеет сгруппировать, сцепить факты и педантичнейшим образом разложить их по нужным полочкам. В этом смысле одна его таблица чего стоит.
Ровным голосом Валя начинает докладывать все дело с самого начала, от последней кражи в гостинице и исчезновения Зуриха.
Некоторое время мы втроем обсуждаем всякие подробности, и, судя по коротким репликам Лены и ее вопросам, я убеждаюсь, что она прекрасно во всем разобралась и вообще не новичок в нашей работе. Это меня несколько примиряет с ней. Потом Валя выходит, и мы остаемся вдвоем.
— Ну так как, — говорю я, — вариант «брат — сестра» для внешних контактов принимается? Все другое, я думаю, будет сложнее.
— Пожалуй, — соглашается Лена.
— Тогда сразу переходим на «ты», — бодро говорю я и, не удержавшись, прибавляю: — На будущее тоже может пригодиться.
Лена бросает на меня внимательный взгляд и неожиданно спрашивает:
— Откаленко в Пунеже?
— Да.
— Есть что-нибудь от него?
— Пока ничего.
Она смотрит на меня все так же внимательно.
— Почему вас…
— Тебя, — поправляю я.
— Да. Почему тебя это беспокоит?
— Что именно?
— Что он молчит.
— С чего ты взяла, что это меня беспокоит?
— Так мне показалось. Это правда?
— Не совсем.
Лена пристально смотрит мне в глаза и сухо произносит:
— Если не хочешь говорить, не говори. Только обманывать меня не надо. На будущее это тоже имей в виду… Виталий.
Мне становится неловко, и в то же время возникает глухое раздражение. Что это, в самом деле, за менторский тон. Учить меня будет эта «училка», как вести себя.
— Хорошо, — сдержанно отвечаю я. — Буду иметь в виду, — и добавляю: — Давай закончим легенду. Кто наши родители? Твои, например, кто?
— У меня нет родителей, — тихо говорит Лена. — И я их не знаю. Можем оставить твоих.
— Как так не знаешь? — вырывается у меня.
Лена отводит глаза и отрывисто говорит:
— Они погибли. Оба. Мама была радисткой. А папа… он был разведчик. Они погибли вместе. Уже после окончания войны. Я не знаю как. Мне было два года…
Она умолкает. Мне вдруг становится неловко. Сам не знаю почему. За свою неприязнь к ней, что ли? Или за то, что у меня есть родители, есть Светка, и вообще я какой-то уж очень благополучный и все у меня хорошо. А у нее…
— Кто твои родители, я знаю, — говорит Лена. — И как их зовут, тоже. Пусть будут они. Так легче. Давай дальше.
Я собираюсь с мыслями и предлагаю:
— Мы приехали в Одессу на праздники посмотреть город и остановились в гостинице.
— Да. Так лучше.
Словом, мы составляем неплохую легенду. Вечером еще уточним ее с Кузьмичом.
Лена смотрит на часы и прощается. Я провожаю ее и напоследок говорю:
— Знаешь, когда поедем, оденься как-нибудь… полегкомысленней.
Она впервые улыбается. Улыбка у нее хорошая.
— Обязательно…
Не успеваю я вернуться к себе в комнату, как звонит телефон. Взволнованный и какой-то очень знакомый девичий голос просит:
— Товарища Лосева можно?
— Слушаю вас.
— Ой, здравствуйте! Это Надя Пирожкова. Вы знаете, я его сейчас встретила, этого парня.
— Какого парня?
— Ну который звонил нам.
— И говорили с ним?
— Да, да! Просто кошмар какой-то!
— Можете заехать ко мне?
— А я… Вы знаете, я напротив стою, в будке…
— Так что же вы? Идите сейчас же!
— Иду…
В трубке слышатся короткие гудки.
Через две минуты Надя появляется у меня в комнате. Короткое кожаное пальто расстегнуто, глаза возбужденно блестят, волосы спутаны, в руках у нее красивая сумка с длинным ремешком, чтобы носить на плече. Надя тяжело дышит. Видно, бежала. Усевшись к столу, Надя немного успокаивается и начинает торопливо рассказывать:
— Представляете? Я к вам прямо с вокзала. Подругу провожала. Она в Киев уехала, к родным, на праздники. Так вот, стоим мы около вагона. Кругом люди. И вдруг подходит парень. В дугу пьяный. И говорит: «Вот ты где, сучка. Давай, давай, гуляй пока». Я говорю: «Что вам надо?» А у самой руки-ноги трясутся. А он смеется: «Скажи, — говорит, — спасибо, что не завалил. Папаше своему скажи». — «Отстаньте, — говорю. — Я вас не знаю». А он говорит: «Зато я тебя знаю. Вот вернусь, тогда со мной погуляешь». И еще что-то в таком роде. Ну надо же? Я чуть не умерла со страху.
— Какой он из себя, этот парень? Одет как?
— Какой? Громадный, вот какой. Бык просто. И глаза красные. А одет… Ну я не помню, как одет. Как все.
Больше мне ничего у нее не удается узнать. На глазах у Нади слезы, губы трясутся, и она никак не может открыть сумку, чтобы достать платок. Я помогаю ей. Потом даю стакан с водой. И наконец мы оба закуриваем.
— Ну а теперь, — говорю я, когда вижу, что она немного успокоилась, — скажите, зачем вы приходили в гостиницу к тому человеку?
— Какое это…
— Прямое, — перебиваю я ее. — Прямое отношение имеет к тому, что случилось. Ну говорите…
— Я… сама не знаю… — мнется Надя. — Он пришел к нам домой… Папы еще не было… Мы разговорились… Потом он сказал, что у него есть одна вещь… и… и он мне ее подарит…
— Какая же вы, извините, дура! — в сердцах говорю я.
— Конечно, дура, — покорно соглашается Надя.
А я невольно вспоминаю Варвару, ее гневный взгляд, презрение, какое было в ее голосе, когда она говорила о Зурихе.
— Уж не браслет ли он вам обещал подарить? — с усмешкой спрашиваю я.
— Да. Откуда вы знаете?
Надя сидит пунцовая и не поднимает на меня глаз.
— Он… он и не думал ко мне приставать, честное слово… Просто хотел, чтобы я повлияла на папу…
— Ну и вы повлияли?
Я не могу скрыть злости и презрения. Надя еще ниже опускает голову.
— Я пробовала… — еле слышно шепчет она. — Папа на меня страшно накричал… и тоже сказал… что я… дура…
— Идите и немедленно привезите этот браслет, — говорю я. — Немедленно. Мы оформим это как положено.
Надя поднимается и выходит. Вид у нее побитой собачонки, мерзкой собачонки причем.
Часа через два она возвращается. Я веду ее к Кузьмичу. Там она и передает нам браслет. Конечно же, в присутствии понятых и ювелира, который его осматривает и оценивает. Потом я еду за Варварой. И она опознает браслет. Это мы тоже тщательно документируем.
В конце дня приезжает Лена.
Мы долго сидим у Кузьмича. Испытываем «на прочность» нашу «легенду». Ведь нам наверняка придется контактировать с весьма подозрительным окружением Галины Кочерги, а может быть, и самого Зуриха. И тут надо не ошибиться, надо точно сыграть свою роль. Мы имеем дело с умным и опасным врагом.
Потом Кузьмич звонит в Одессу.
Когда разговор кончается, я осторожно спрашиваю:
— Больше никуда не позвоните, Федор Кузьмич? В Пунеж, например?
— Звонил, — хмурясь, говорит Кузьмич. — Ничего там нового нет.
Я чуть скашиваю глаза.
Лена внешне сейчас абсолютно спокойна и невозмутимо курит. Но я замечаю, как при последних словах Кузьмича тонкие ноздри ее вздрагивают, Лена на миг прикусывает нижнюю губу. Кажется, она о чем-то все-таки догадывается. Но выдержке ее можно позавидовать.
Поздно вечером я приезжаю к Светке.
— Опять надо лететь, — виновато говорю я, снимая пальто в передней. — Опять, Светка.
— Ой, какая у тебя работа, — досадует она. — Бедная твоя жена.
— Нет, моя жена очень счастливая, — горячо возражаю я и крепко прижимаю Светку к себе.
— Что значит «исчез»? Что это еще за чепуха такая?
Он сердит и встревожен. Я это прекрасно вижу. И я встревожен не меньше его, даже больше. И сердит тоже.
— Все-таки что-то случилось, — говорю я.
— Панику порют. Ну не ночевал в гостинице, не дал о себе знать. Что из того? В нашей работе всякое может быть.
— Вот именно, — многозначительно подтверждаю я.
— А, брось, — машет рукой Кузьмич. — Что это за настроение у тебя, скажи на милость?
— Я вам говорил, Федор Кузьмич, не надо было посылать его одного. Не у меня настроение, а у него.
— Да что за черт! — взрывается Кузьмич. — С барышнями какими-то кисейными работаю! Настроение, видите ли, у них! Нервные стали, — он берет себя в руки и сухо говорит: — Ладно, хватит. Чтоб я больше об этом не слышал.
— Разрешите мне поехать в Пунеж, Федор Кузьмич, — как можно спокойнее говорю я.
— Не разрешаю. Ты поедешь в Одессу. Найдется Откаленко, не бойся. А если он глупости наделал… Да нет! Что мы его, первый день знаем?
Кузьмич вытаскивает из ящика стола сигарету, закуривает и машет рукой, разгоняя дым.
Я вижу, с каким трудом он успокаивается. У него тоже шалят нервы. Но и я взвинчен. Я целый день почему-то в таком состоянии, словно предчувствовал, что что-то случится.
— Давай займемся делом, — говорит Кузьмич. — Значит, Одесса. Какие факты привели нас к ней?
— Пожалуйста, — нехотя отвечаю я. — Значит, так. Если начать в хронологическом порядке. Зурих звонил туда Галине Кочерге и говорил с ней дольше, чем с другими. Потом она уехала якобы к больной матери. Денисов установил: мать больна не была, просто жила месяц у старшей дочери и сейчас вместе с Галиной вернулась в Одессу, — незаметно для самого себя я увлекаюсь и говорю уже с некоторой даже горячностью: — Дальше. Зурих пытался подарить Варе Глотовой браслет, купленный в комиссионном магазине в Одессе, возможно, в том самом, где работает Галина Кочерга. Он же дал Николову для связи ее адрес, а не чей-нибудь другой. Отсюда можно сделать вывод, что, во всяком случае, деловые отношения у них сохраняются.
— Так, так… — одобрительно кивает Кузьмич.
— Потом. В Одессу срочно летал Клячко. Цель пока неясна. Там же, в Одессе, вероятно, жил и работал Зурих. По крайней мере, там он получил командировку в Москву и, конечно же, туда угнал вагон дефицитного керамзита. Ну что еще? Кочерга замечена в спекуляции кофточками, которые обнаружены у Зуриха. Наконец, Зурих был в близких отношениях с этой девицей и в Москве подарил ей дорогое кольцо с надписью. Вот, пожалуй, и все… Да! Возможно, что в Одессу Зурих направил какого-то головореза, который звонил Пирожкову. Вот и все факты по Одессе.
— Немало… немало… — задумчиво произносит Кузьмич и мнет в пепельнице недокуренную сигарету. — Очень даже немало… Сам, надеюсь, видишь. Итак, надо ехать, — он решительно прихлопывает ладонями по столу. — Непременно надо ехать. Очень все там серьезно.
— Конечно, Федор Кузьмич.
— Вот и поедешь. С Денисовым.
— Нет, Федор Кузьмич, — твердо говорю я. — С Денисовым я бы не хотел ехать.
— Это еще почему?
Кузьмич сердито и удивленно смотрит на меня.
— Именно потому, что там все очень серьезно.
— Что-то я тебя не понимаю, милый мой. Что ж, по-твоему, Денисов плохой работник?
— Не в этом дело. Просто психологическая несовместимость. И потом… я не люблю равнодушных.
С Кузьмичом я привык быть всегда откровенен. Я ему очень верю, нашему Кузьмичу. И он это знает.
— Та-ак… — задумчиво произносит Кузьмич. — Интересно. Однако и одному тебе будет трудно.
— Там есть отличные ребята.
— Это конечно. И все же требуется рядом человек… Узел-то запутанный. Эта самая Галина и ее окружение… Гм… И человек должен быть умный, опытный и… какой-то другой, чтобы посмотреть на все по-другому, заметить, чего ты можешь не заметить…
Кузьмич размышляет вслух, навалившись грудью на стол, и, прищурившись, смотрит куда-то в пространство:
— А что, если… Гм… если послать с тобой женщину?..
— Женщину?! — изумленно переспрашиваю я. — Это еще зачем?
Кузьмич усмехается.
— Красивую молодую женщину. Нашего работника, конечно.
— Мужчина надежней!
— Гм… видно, что ты с женщинами не работал, — очень серьезно говорит Кузьмич. — А они, милый мой, могут быть неоценимыми работниками. У них свои качества, которых у нас нет. Не замечал? Например, особая интуиция и особая наблюдательность. С ними иной раз скорее будут откровенны и легче вступят в контакт.
Я невольно улыбаюсь.
— Уговорили, Федор Кузьмич. Надо только найти стоящего человека, — замечаю я.
— Конечно, — соглашается Кузьмич. — Найдем. Есть у нас такой человек.
— Кто же это?
— Да вот хотя бы Златова Лена. Очень хороший работник.
— Лена?!
У меня, очевидно, в этот момент очень глупый вид. И Кузьмич еле заметно усмехается.
Я решаю ничего не объяснять. Кузьмич опять скажет, что все это мои причуды и нервы.
— Вставай, пошли, — говорит Кузьмич, потягиваясь. — Поздно уже. Завтра утром все обговорим окончательно.
Я машинально поднимаюсь и устало тру лоб. Черт возьми, слишком уж много впечатлений для одного дня.
Утром в кабинете Кузьмича я застаю высокую молодую женщину, светлые, с рыжеватым отливом волосы аккуратно собраны в тугой пучок на затылке, на впалых щеках чуть заметный румянец, строгая вертикальная складка залегла между тонкими бровями, серые глаза смотрят сухо и внимательно. Ей бы еще очки в роговой оправе. Типичная «училка», да и только.
Впервые я вижу Лену так близко. Тогда, в троллейбусе, она показалась мне куда симпатичнее.
Кузьмич нас друг другу представляет, деловито и вполне официально.
— Старший лейтенант Лосев Виталий Павлович. Лейтенант Златова Елена Павловна…
Тут он на секунду останавливается, удивленный неожиданным совпадением, оглядывает нас и усмехается.
Мы тоже невольно, хотя и весьма сдержанно, улыбаемся.
— И в самом деле похожи, — говорит Кузьмич. — Оба длинные, худые, светловолосые. И даже лицом, пожалуй, похожи.
— Обрел себе сестрицу на старости лет, — шучу я без особого, впрочем, энтузиазма.
Лену эта мысль тоже, кажется, в восторг не приводит.
— А что? Такая легенда тоже может пригодиться, — серьезно подтверждает Кузьмич. — Пока что извольте друг друга по имени величать. С первого раза привыкайте.
— Доброе утро, Леночка, — говорю я чуть насмешливо.
— Доброе утро, Виталий, — сдержанно отвечает она мне.
Нет, я решительно недоволен такой сестрицей. «Синий чулок» какой-то. Что только нашел в ней Игорь? Впрочем, я ей, кажется, тоже не слишком пришелся по душе. Такие ощущения почти всегда взаимны, кстати.
Кузьмич, по-моему, все замечает, но вида не подает.
— Так вот, милые мои, — говорит он. — Летите вы завтра. День даю на подготовку. Ты, Виталий, сейчас полностью введи Лену в курс дела. Все обсудите. Наметьте легенду, кто вы, откуда и так далее. Это на случай контактов. И помните, задача ваша не только обнаружить и задержать Зуриха. Его там вообще может не оказаться. Надо еще выявить все его связи, найти ниточки, ведущие к убийству, а они там есть, не зря Клячко летал в Одессу. Вечером встретимся и все окончательно уточним. Вот так. Вопросы есть?
— Есть один, — говорю я. — Вы не звонили больше в Пунеж, Федор Кузьмич.
— Нет, — сдержанно отвечает Кузьмич. — Ну ступайте.
Мы выходим из кабинета. Я галантно пропускаю Лену вперед.
По дороге я заглядываю в комнату, где сидит Валя Денисов. Он, к счастью, на месте.
— Пойдем, — говорю я ему. — И захвати свою папку. Надо ввести товарища в курс дела.
Мы уже втроем идем по коридору и заходим в мою комнату.
Пустой стол Игоря вызывает у меня какое-то сосущее, тоскливое чувство. Я бросаю быстрый взгляд на Лену. Серые глаза ее смотрят по-прежнему отчужденно и сосредоточенно. Она вся ушла в себя и не делает никаких попыток наладить хоть какой-то контакт со мной. Ну и особа.
Мы усаживаемся возле моего стола, и Валя раскрывает папку.
— Давай, — говорю я. — Мне тоже не грех вспомнить все детали.
Валя, кстати говоря, идеальный накопитель всяких сведений. У него не только феноменальная память, он еще умеет сгруппировать, сцепить факты и педантичнейшим образом разложить их по нужным полочкам. В этом смысле одна его таблица чего стоит.
Ровным голосом Валя начинает докладывать все дело с самого начала, от последней кражи в гостинице и исчезновения Зуриха.
Некоторое время мы втроем обсуждаем всякие подробности, и, судя по коротким репликам Лены и ее вопросам, я убеждаюсь, что она прекрасно во всем разобралась и вообще не новичок в нашей работе. Это меня несколько примиряет с ней. Потом Валя выходит, и мы остаемся вдвоем.
— Ну так как, — говорю я, — вариант «брат — сестра» для внешних контактов принимается? Все другое, я думаю, будет сложнее.
— Пожалуй, — соглашается Лена.
— Тогда сразу переходим на «ты», — бодро говорю я и, не удержавшись, прибавляю: — На будущее тоже может пригодиться.
Лена бросает на меня внимательный взгляд и неожиданно спрашивает:
— Откаленко в Пунеже?
— Да.
— Есть что-нибудь от него?
— Пока ничего.
Она смотрит на меня все так же внимательно.
— Почему вас…
— Тебя, — поправляю я.
— Да. Почему тебя это беспокоит?
— Что именно?
— Что он молчит.
— С чего ты взяла, что это меня беспокоит?
— Так мне показалось. Это правда?
— Не совсем.
Лена пристально смотрит мне в глаза и сухо произносит:
— Если не хочешь говорить, не говори. Только обманывать меня не надо. На будущее это тоже имей в виду… Виталий.
Мне становится неловко, и в то же время возникает глухое раздражение. Что это, в самом деле, за менторский тон. Учить меня будет эта «училка», как вести себя.
— Хорошо, — сдержанно отвечаю я. — Буду иметь в виду, — и добавляю: — Давай закончим легенду. Кто наши родители? Твои, например, кто?
— У меня нет родителей, — тихо говорит Лена. — И я их не знаю. Можем оставить твоих.
— Как так не знаешь? — вырывается у меня.
Лена отводит глаза и отрывисто говорит:
— Они погибли. Оба. Мама была радисткой. А папа… он был разведчик. Они погибли вместе. Уже после окончания войны. Я не знаю как. Мне было два года…
Она умолкает. Мне вдруг становится неловко. Сам не знаю почему. За свою неприязнь к ней, что ли? Или за то, что у меня есть родители, есть Светка, и вообще я какой-то уж очень благополучный и все у меня хорошо. А у нее…
— Кто твои родители, я знаю, — говорит Лена. — И как их зовут, тоже. Пусть будут они. Так легче. Давай дальше.
Я собираюсь с мыслями и предлагаю:
— Мы приехали в Одессу на праздники посмотреть город и остановились в гостинице.
— Да. Так лучше.
Словом, мы составляем неплохую легенду. Вечером еще уточним ее с Кузьмичом.
Лена смотрит на часы и прощается. Я провожаю ее и напоследок говорю:
— Знаешь, когда поедем, оденься как-нибудь… полегкомысленней.
Она впервые улыбается. Улыбка у нее хорошая.
— Обязательно…
Не успеваю я вернуться к себе в комнату, как звонит телефон. Взволнованный и какой-то очень знакомый девичий голос просит:
— Товарища Лосева можно?
— Слушаю вас.
— Ой, здравствуйте! Это Надя Пирожкова. Вы знаете, я его сейчас встретила, этого парня.
— Какого парня?
— Ну который звонил нам.
— И говорили с ним?
— Да, да! Просто кошмар какой-то!
— Можете заехать ко мне?
— А я… Вы знаете, я напротив стою, в будке…
— Так что же вы? Идите сейчас же!
— Иду…
В трубке слышатся короткие гудки.
Через две минуты Надя появляется у меня в комнате. Короткое кожаное пальто расстегнуто, глаза возбужденно блестят, волосы спутаны, в руках у нее красивая сумка с длинным ремешком, чтобы носить на плече. Надя тяжело дышит. Видно, бежала. Усевшись к столу, Надя немного успокаивается и начинает торопливо рассказывать:
— Представляете? Я к вам прямо с вокзала. Подругу провожала. Она в Киев уехала, к родным, на праздники. Так вот, стоим мы около вагона. Кругом люди. И вдруг подходит парень. В дугу пьяный. И говорит: «Вот ты где, сучка. Давай, давай, гуляй пока». Я говорю: «Что вам надо?» А у самой руки-ноги трясутся. А он смеется: «Скажи, — говорит, — спасибо, что не завалил. Папаше своему скажи». — «Отстаньте, — говорю. — Я вас не знаю». А он говорит: «Зато я тебя знаю. Вот вернусь, тогда со мной погуляешь». И еще что-то в таком роде. Ну надо же? Я чуть не умерла со страху.
— Какой он из себя, этот парень? Одет как?
— Какой? Громадный, вот какой. Бык просто. И глаза красные. А одет… Ну я не помню, как одет. Как все.
Больше мне ничего у нее не удается узнать. На глазах у Нади слезы, губы трясутся, и она никак не может открыть сумку, чтобы достать платок. Я помогаю ей. Потом даю стакан с водой. И наконец мы оба закуриваем.
— Ну а теперь, — говорю я, когда вижу, что она немного успокоилась, — скажите, зачем вы приходили в гостиницу к тому человеку?
— Какое это…
— Прямое, — перебиваю я ее. — Прямое отношение имеет к тому, что случилось. Ну говорите…
— Я… сама не знаю… — мнется Надя. — Он пришел к нам домой… Папы еще не было… Мы разговорились… Потом он сказал, что у него есть одна вещь… и… и он мне ее подарит…
— Какая же вы, извините, дура! — в сердцах говорю я.
— Конечно, дура, — покорно соглашается Надя.
А я невольно вспоминаю Варвару, ее гневный взгляд, презрение, какое было в ее голосе, когда она говорила о Зурихе.
— Уж не браслет ли он вам обещал подарить? — с усмешкой спрашиваю я.
— Да. Откуда вы знаете?
Надя сидит пунцовая и не поднимает на меня глаз.
— Он… он и не думал ко мне приставать, честное слово… Просто хотел, чтобы я повлияла на папу…
— Ну и вы повлияли?
Я не могу скрыть злости и презрения. Надя еще ниже опускает голову.
— Я пробовала… — еле слышно шепчет она. — Папа на меня страшно накричал… и тоже сказал… что я… дура…
— Идите и немедленно привезите этот браслет, — говорю я. — Немедленно. Мы оформим это как положено.
Надя поднимается и выходит. Вид у нее побитой собачонки, мерзкой собачонки причем.
Часа через два она возвращается. Я веду ее к Кузьмичу. Там она и передает нам браслет. Конечно же, в присутствии понятых и ювелира, который его осматривает и оценивает. Потом я еду за Варварой. И она опознает браслет. Это мы тоже тщательно документируем.
В конце дня приезжает Лена.
Мы долго сидим у Кузьмича. Испытываем «на прочность» нашу «легенду». Ведь нам наверняка придется контактировать с весьма подозрительным окружением Галины Кочерги, а может быть, и самого Зуриха. И тут надо не ошибиться, надо точно сыграть свою роль. Мы имеем дело с умным и опасным врагом.
Потом Кузьмич звонит в Одессу.
Когда разговор кончается, я осторожно спрашиваю:
— Больше никуда не позвоните, Федор Кузьмич? В Пунеж, например?
— Звонил, — хмурясь, говорит Кузьмич. — Ничего там нового нет.
Я чуть скашиваю глаза.
Лена внешне сейчас абсолютно спокойна и невозмутимо курит. Но я замечаю, как при последних словах Кузьмича тонкие ноздри ее вздрагивают, Лена на миг прикусывает нижнюю губу. Кажется, она о чем-то все-таки догадывается. Но выдержке ее можно позавидовать.
Поздно вечером я приезжаю к Светке.
— Опять надо лететь, — виновато говорю я, снимая пальто в передней. — Опять, Светка.
— Ой, какая у тебя работа, — досадует она. — Бедная твоя жена.
— Нет, моя жена очень счастливая, — горячо возражаю я и крепко прижимаю Светку к себе.
