Я издавал этот журнал около трёх лет. Коля Высоцкий великолепно его иллюстрировал. «Цап-Царап» был популярен среди студентов, его тайком читали на лекциях, на переменах, после занятий.
«… Её лицо оттенка хаки,
И щёчки чуть покрыты матом,
И даже каки, даже каки
Благоухают ароматом!..»
Сюньи, прослышав про этот журнал, попросил дать ему почитать. Я дал на один день, но он его возвращать отказался. Потом я выпустил ещё «Цап-Царапы» номер два и номер три, и они тоже исчезли. Мы устраивали коллективные разборки, выясняли, кто взял, но узнать не смогли.
И только спустя несколько лет, уже после окончания института, Сюньи сознался, что и эти оба журнала – тоже у него.
– И не верну. Не верну! Это моё право иметь память о тебе.
– Как вы их похитили? – удивился я.
– Было нелегко, но… Во-первых, они мне очень нравились, а во-вторых, не хотел, чтобы их положили на стол директору – ты бы имел дополнительные неприятности.
Директором нашего института был профессор Даденков, надутый и хамоватый советский номенклатурщик (впоследствии он стал министром высшего образования Украины), который с благоговением и почётом носил своё упитанное туловище по коридорам института. Одновременно, он ещё преподавал гидравлику и заведовал кафедрой. Однажды, читая лекцию, заставил пожилую ассистентку, наверное, минут десять держать на вытянутой руке большой макет, иллюстрирующий лекцию. У неё от напряжения уже дрожала рука, но он не обращал внимания на такие мелочи. Я не выдержал и громко произнёс:
– Не мешало бы предложить женщине стул.
Даденков был ошеломлён: ему, великому и могучему, посмели сделать замечание!
– Кто это сказал? – грозно вопросил он. Я встал. – Вон из аудитории! – заорал он. – Вон из института! Вон из высшего образования!
Я молча двинулся к выходу, но потом не выдержал и ляпнул:
– А я на вас не обижаюсь: всё это можно было сказать вежливо, но для этого надо быть воспитанным человеком.
Через час висел приказ о моём отчислении из института. Спасло партбюро. (Это был первый и последний раз в моей жизни, когда партия мне помогла, а не навредила). Дело в том, что я выпускал институтскую газету «Оса». Сперва она делалась мелом на огромной доске, висящей в центральном вестибюле. Потом я стал выпускать её на бумаге, потом придумал приложения, которые разрослись и стали больше самой газеты, потом организовал несколько вечеров юмора по материалам «Осы»… Газета была очень популярна в институте, её выхода ждали, обсуждали, цитировали. Партбюро очень гордилось этой газетой, особенно тем, что об «Осе» знали «даже в райкоме партии». Поэтому партия убедила коммуниста Даденкова отменить свой приказ, чтобы я смог продолжать издательскую деятельность, прославляющую институт. Он, скрепя сердце, вынужден был согласиться, но вернул меня условно, лишив стипендии и приказав старосте нашего курса лично следить за моим посещением и отмечать каждый прогул.
С первого курса и до окончания института Даденков «курировал» меня, проверял, как посещаю, как сдаю, как веду себя на лекциях. Однажды, на одном из практических занятий, он заявил:
– Когда будет распределение, проситесь куда-нибудь за Северный Полярный круг – ближе я вас не направлю.
– Очень хорошо, – ответил я, – уж там-то вы за мной следить не сможете!
Перед защитой диплома секретарь нашего декана предупредила меня, что директор интересовался, когда защищает Каневский, и сообщил, что будет присутствовать. К защите диплома я был готов (опять же с чертежами помогли сокурсницы, а все расчеты проверил Сима Тартаковский и благословил). Но я понимал, что Даденков постарается сбить меня дополнительными вопросами, связанными с гидравликой, и проштудировал несколько раз подробнейшие конспекты Марика Глинкина. Кроме того, ребята написали мне все дополнительные вопросы, которые Даденков задавал каждому из них на экзаменах. Словом, к бою я был готов.
Защита диплома проходила в актовом зале института. Пришло много народа: мама и папа, их друзья, все мои однокурсники, педагоги. Я был на сцене, чертежи и схемы висели на стене. Между первым рядом и сценой стоял стол, за которым сидели члены приёмной комиссии во главе с каким-то академиком из Москвы. Я начал довольно бойко, но минут через десять Даденков прервал меня:
– А что, если… – И задал один из своих коронных вопросов «на засыпку».
Я знал этот вопрос и точно и чётко ему ответил. Удивлённый и раздосадованный, он продолжил:
– А какой ещё может быть выход из положения?
Я был готов и к этому вопросу – и он, буквально, отскочил у меня от зубов. Мои сокурсники знали о предстоящей дуэли и, чтобы поддержать меня, каждый мой ответ сопровождали аплодисментами. В Даденкове закипала злость. Он вышел из-за стола, подошёл к сцене и снова метнул в меня вопрос. Я отбил его правильным ответом. Мы напоминали двух игроков в пинг-понг: удар-ответ, удар-ответ, удар… Вдруг из-за стола поднялся мой дорогой Георгий Камилович Сюньи и громко, на весь зал, произнёс:
– Юрий Николаевич, хватит! Остановитесь!
Даденков, как от ковша холодной воды, вздрогнул, вытер носовым платком пот со лба и быстро вышел из зала, бросив на ходу:
– Я – на совещание. Продолжайте.
Сюньи о чём-то посовещался с членами комиссии, вышел на сцену, обнял меня и сказал:
– Поздравляю, ты защитил диплом!
Мне долго и горячо аплодировали, но не только за защиту диплома, но и за победу над Даденковым.
Чтобы завершить портрет Сюньи, расскажу ещё один эпизод. Последним экзаменом, который я сдавал перед защитой, были «Дорожные материалы». Когда подошла моя очередь, Георгий Камилович, провоцируя меня, спросил:
– Ну, что? Сойдёмся на крепкой троечке?
– Ни за что!
Он разыграл искреннее удивление:
– Неужели хочешь четвёрку?
– Нет, – снова отказался я. – Хочу пятёрку.
– Ай, нахал! Ай, молодец! – Он довольно потёр руки. – Тогда тащи билет.
Его предмет был единственным, который я постоянно и добросовестно учил, но не потому, что мне так нравились дорожные материалы – просто не хотел огорчать Сюньи. Все вопросы в билете я знал.
– Могу отвечать без обдумывания.
– Нахал! – снова повторил он. – Ну, давай, давай, повесели народ.
Я начал отвечать. Минут через пять он меня перебил:
– Слушай, ты действительно знаешь! – Повернулся к студентам, ожидающим своей очереди сдавать. – Ребята, он знает!.. Неужели ты учил?
– Учил.
– С ума сойти! А ну, ответь на второй вопрос.
Я стал отвечать – повторилось то же самое: Сюньи прервал меня и снова обратился к ребятам:
– Он меня просто пугает!.. Откуда ты всё знаешь?
– У меня хороший педагог.
– Отличный ответ! Продолжай в том же духе.
Когда я ответил на третий вопрос, на лице Георгия Камиловича сияла счастливая улыбка. Он сообщил студентам:
– Я удивлён, поражён, потрясён, но вынужден поставить этому нахалу пятёрку! – Протягивая мне зачётку, шепнул. – Подожди меня в коридоре – уже немного осталось.
Через полчаса он вышел из аудитории, взял меня за плечи:
– Пошли, посидим, побеседуем.
Напротив нашего института было странное заведение, которое за годы моей учёбы неоднократно меняло вывески: сперва – это была «Закусочная», потом – «Столовая», затем – «Пирожковая», «Парикмахерская» и, наконец, завершилось неоновой вывеской – «Кафе». Со временем первые две буквы погасли, горело только «фе», но всё равно, мы его любили и часто, после занятий, отмечали там праздники и дни рождений. Именно в этом «фе» Сюньи заранее заказал столик.
Когда мы выпили по первой рюмке, он произнёс:
– Я наблюдаю за тобой с первого курса, ты мне очень напоминаешь меня в молодости. Но в тебе – более мощная пружина, у тебя горят глаза, ты всё можешь: убедить, уговорить, пробиться, влюбить в себя… Но это – пока они горят. А горят они только в полуголодном состоянии. Когда ты сыт, они гаснут – и ты теряешь все свои достоинства. Поэтому – мой главный завет: не пресыщайся, ничем: ни едой, ни выпивкой, ни женщинами, ни благополучием… Будь всегда полуголодным и ты всего достигнешь. Главное: не пре-сы-щай-ся!..
Помню, тогда я как-то отшутился, посмеялся, перевёл разговор, не придав ему должного значения. И только спустя много лет, подводя первые жизненные итоги, я понял, как был прав и проницателен, как он знал меня больше, чем я сам, этот весёлый и мудрый француз!
И вот настал момент распределения. Я понимал, что в Киеве мне не остаться, да, честно говоря, и не хотелось: антисемитский заслон, который я ощутил при первых же моих начинаниях в творчестве, подталкивал меня попробовать свои силы в другом месте, не на Украине. Поэтому я решил проситься куда-нибудь подальше. Посоветовался с мамой – она меня, как всегда, поддержала.
Комиссия по распределению была очень авторитетна, в неё входили руководители министерства автотранспорта, работники ЦК партии, обкома, горкома и, конечно, педагоги нашего института и члены партбюро. Председательствовал всё тот же академик из Москвы. Люди старшего возраста, наверное, ещё помнят, что такое комиссия по распределению – там вам сначала задают лицемерный вопрос «Куда бы вы хотели?», а потом посылают туда, куда они хотят. Не поехать по назначению и не отработать положенные три года, было невозможно: в случае отказа – суд и срок. Предварительно нас ознакомили со списком городов, которые дали заявки на выпускников нашего института.
Когда меня спросили, куда бы я хотел поехать, я ответил:
– С детства меня привлекали города с двойным названием: Монте-Карло, Буэнос-Айрес, Баден-Баден… Но туда вы направить не можете. Поэтому пошлите меня в Кзыл-Орду, она есть в списке.
Раздался смех.
– Почему именно в Кзыл-Орду? – с улыбкой спросил председатель.
– Я прочёл в энциклопедии, что там много сушёной рыбы, а я рыбу очень люблю.
Члены комиссии снова рассмеялись.
– Неправда! Я знаю, почему он хочет в Кзыл-Орду! – произнёс Сюньи. – Там женщины носят паранджу – это единственное, чего он с них ещё не снимал.
Раздался хохот – и мне дали направление в Кзыл-Орду. Проходя мимо Даденкова, я ехидно бросил ему:
– А там теплей, чем за Северным Полярным Кругом!
Сразу после распределения состоялся банкет, в новом, только открывшемся ресторане «Поплавок». Присутствовали все педагоги и все студенты со своими дамами. Я пришёл с Зосей. Сюньи, потрясённый её яркой внешностью и роскошным телом, проходя мимо, шепнул: «Она суперсексуальна – тебе надо есть побольше сметаны!»
За день до банкета ребята попросили меня написать прощальное стихотворение и зачитать его за столом. Я согласился, но при условии, что меня посадят напротив директора Даденкова. Мне пообещали, и после первого тоста-напутствия, который произнёс Академик, слово дали мне, и я прочитал стихи, которые почти полностью воспроизвожу здесь:
Потом я обращался в стихах ко всем сидящим за столом преподавателям, с искренними, тёплыми словами благодарности. Не всё уже помню, многое просочилось сквозь песок лет, но вот обращение к заведующему кафедрой строймеханики в памяти ещё осталось:
Друзья мои! Прошу вас не сердиться —
Решил я снова к рифме обратиться.
Я часто рифмой мучил вас,
Позвольте же в последний раз,
И уж поверьте, больше никогда
Своих плохих стихов я вам читать не буду:
Мы все разъедемся, меня ждёт Кзыл-Орда
И слушатели верные верблюды.
И там, под тенью кактусов зелёных,
Я напишу поэму «Скорпионы»,
В которой докажу реалистично,
Что жалить инженеров – не тактично!
Потоки рифм польются без запруды,
И зарыдают бедные верблюды.
Но это после, в Кзыл – Орде далёкой,
А нынче предо мной накрытый стол,
Закуска смотрит на меня с упрёком
И думает: «Кончай, чего завёл
Ты разговор прескучный и предлинный,
А главное, без видимой причины»
Причина есть, и важная причина,
Здесь все сидящие меня поймут:
Сегодня я – не мальчик, я – мужчина,
Сегодня я окончил институт!
Тот институт, который ненавидел,
Который все пять лет мне клеткой был,
Которым Бог меня, казалось мне, обидел,
И, наконец – который полюбил!
Здесь многих, многих, многих я узнал,
Ко многим всей душою привязался,
Не раз экзамены пересдавал,
На первых лекциях частенько не являлся,
Шпаргалкой пользовался иногда
(Товарищи экзаменаторы, да, да!
Теперь уж поздно принимать вам меры:
Теперь мы не студенты – инженеры!)
Итак, друзья, я предлагаю тост
И за него бокал свой опорожню:
Давайте встанем во весь рост
И выпьем за автодорожный,
Который мы сегодня покидаем
И о котором с грустью вспоминаем!
Я предлагаю тост, друзья мои,
За нашего любимого Сюньи,
С весёлою, открытою душой,
Всегда приветлив и всегда простой,
Я за него готов пить до утра,
Георгию Камилычу – Ура!..
А где же Вериженко, наш декан?
Послушайте, да он ещё не пьян!
Он должен пить и счастлив быть сейчас:
Он, наконец, избавился от нас!
Так я попрощался со всеми преподавателями.
Яков Давыдыч, простите,
Очень я вас прошу,
Вы на меня не сердитесь,
Правду сейчас расскажу:
Я ненавидел проекты,
Эпюры, и сигмы, и гаммы,
На лекциях, вместо конспектов
Соседям строчил эпиграммы.
Думал я, что за нелепость
Прогиб и прочность считать…
Но эту вот рюмку, на крепость,
С вами готов испытать!
Ребята аплодировали каждому. Кто-то в ответ жал руку, кто-то обнял меня, кто-то прослезился.
Дошла очередь и до директора. Глядя прямо на него, сидящего напротив, я прочитал:
После этих строк началась овация, аплодировали даже педагоги, а бывшие студенты подскакивали на местах и орали «Браво!». Директор побагровел, но продолжал сидеть. Он досидел до конца моего выступления, потом, ни с кем не прощаясь, поднялся и ушёл. А я, между тем, продолжил:
Я о директоре хотел сказать два слова.
И рифма у меня была готова,
Но в институте мне шептали все подряд,
Что о директоре у нас не говорят!
И потому молчу, друзья, молчу,
Традицию нарушить не хочу!
После банкета мы все бродили по Днепровским склонам, пели песни, обнимались, прощались. Потом мы с Зосей поехали к ней домой (Её родители отдыхали в Кисловодске) и стали прощаться индивидуально. Прощались долго, неоднократно, до утра – потрясающе прощались, наверное, потому, что по совету Сюньи, я съел всю сметану, которая была в холодильнике.
Нам подарили праздничный букет
Из самых лучших, юношеских лет,
И их уже назад не возвратить,
Так наливайте и давайте пить
За нашу дружбу, что родилась в ВУЗе,
Которая пойдёт за нами вслед,
И будет жить в любом конце Союза,
И будет жить через десятки лет.
Пусть эта дружба не боится непогоды,
Пускай она живёт у каждого в груди —
Так выпьем за студенческие годы,
За жизнь, которая открылась впереди!
А теперь, прежде чем мы с вами, на колёсах этого повествования, помчимся в Среднюю Азию, я расскажу о нескольких моих сокурсниках, с которыми подружился за годы учёбы в институте и которые навсегда вошли в мою жизнь.
О Марике Глинкине я уже упоминал. В отличие от меня, он был старательным и дисциплинированным студентом, лекций не пропускал, все задания выполнял в указанные сроки, всё досконально записывал очень красивым, почти каллиграфическим почерком – его конспекты считались лучшими на курсе, в них содержалась «выжимка» самого главного, они были более конкретны и понятны, чем учебники, поэтому перед экзаменами каждый старался заполучить их хотя бы на полдня. Собственно, с этих конспектов и началась наша дружба: Марик открыл мне неограниченный кредит, я получал конспекты по первому требованию, вне очереди, вместе с Мариком, который ещё давал мне и дополнительные разъяснения. Он был худенький, невысокого роста, вечный мальчик, внешне – тихий, спокойный, внутри – незатухающе активный. Длинные, зачёсанные назад жгуче чёрные волосы и чёрные усы делали его похожим на мини-грузина.

– написал я о нём когда-то.
«А вот усач-красавец Глинкин,
Как будто выпал из лезгинки…»
В те годы Марик был трогательно-наивным и по-детски непосредственным, не обидчив и незлопамятен. Мы, официальные шалопаи, я, Коля Высоцкий, Илья Хачик, всегда сидели в последнем ряду, «на Камчатке». Марик сидел в предпоследнем, перед нами. Любимым нашим развлечением было воровать у Марика завтраки – он всегда приносил что-то свеженькое и очень вкусное. Помню, как мы утащили у него жареную курицу, потрясающе пахнущую, ещё тёпленькую. Ели её у него за спиной, садистски почмокивая, постанывая, похрустывая косточками. Занятие вёл какой-то очень строгий педагог, поэтому Марик, всё слыша, ни разу не повернулся к нам, боясь получить замечание (я уже писал, что он был очень дисциплинированным студентом). Зазвенел звонок, мы все трое встали и поклонились Марику:
– Спасибо, кормилец! Курица была прекрасна!
Другой бы возмутился, психанул, обругал нас, но Марик выбрал более «беспощадную» месть: он произнёс, торжествуя:
– А это была не курица, а кролик!
Марика и его жену Майю я полюбил на всю жизнь, наши судьбы шли параллельно до тех пор, пока, к великой моей печали, жизнь не разбросала нас по разным странам.
Илья Хачик, о котором я уже писал, считался у нас эталоном худобы. Нормальный человек состоит из костей, мышц и жира – Илья состоял только из рёбер, которые выпирали на спине, на груди, и даже на животе Он мог бы работать скелетом в мединституте, но его не брали, потому что рядом с ним остальные скелеты казались бы раскормленными боровами. В нём бурлила вулканическая энергия и буйствовал безразмерный аппетит: он мог поглощать пищу по двенадцать раз в день, в любом месте, в любом количестве, не поправляясь ни на грамм, в нём всё сгорало – аппетит подкармливал энергию, энергия подстёгивала аппетит. Грек по национальности, незаменимый в компании, щедрый, гостеприимный, он участвовал в любых авантюрах и розыгрышах. Обожал ходить на базар и торговаться, особенно, с «лицами кавказской национальности»: сразу же сбивал цену наполовину, добавлял по десять копеек, по рублю, соглашался, но тут же передумывал, уходил, возвращался, бил по рукам, снова уходил и, наконец, когда измученный продавец уже готов был доплатить ему, только чтобы избавиться от такого покупателя, Илья жал ему руку, обнимал, клялся в вечной дружбе и, даже, оставлял «чаевые». Он был хорошим другом, всегда откликался на призывы о помощи. Однажды, лет через пять после окончания института, я пожаловался, что у меня в квартире холодно. Илья, который тогда руководил строительным участком, через день прислал мне несколько «списанных» секций батареи парового отопления. На очередном вечере встречи наших выпускников (которые всегда организовывал Илья) я написал об этой «гуманитарной» помощи:
Одному из героев серии моих эксцентричных рассказов, самому худому и подвижному, самому энергичному и неуёмному, я дал имя – Хачик.
«…Зубами я от холода стучал,
Но Хачик батареи мне прислал.
Неважно, что они в пыли —
Меня его забота греет,
И слёзы благодарности текли,
Текли, как эти батареи…»
Миша Рисман провёл всю жизнь во сне: во сне учился, во сне сдавал экзамены, во сне защитил диплом. Он был уверен, что все это ему приснилось, поэтому говорил медленно, тягуче, ходил плавно, не делал резких движений, чтобы не проснуться. Так он и прошёл сквозь жизнь, в полусонном состоянии: окончил институт, продвигался по службе, встречался с друзьями, эмигрировал в Америку… Только два раза его жена Неля разбудила его, чтобы сделать двух детей, и он снова продолжал спать. Когда я слышу в трубке его тихий, постельный голос, я понимаю, что он всё ещё досматривает сон, который снился ему в институте.
Есть люди, которые всю жизнь остаются детьми, есть люди, которые рождаются старичками. Таким был Гарик Лапицкий, уже лысеющий, уже седеющий, с ранними морщинками на лице, тщедушный, с тонкой шеей, со скрипучим старческим голосом.
Весёлый молодой старичок, постоянный участник всех наших тусовок (особенно, если там были девушки), он хотел казаться неотразимым обольстителем и регулярно рассказывал о своих любовных победах.
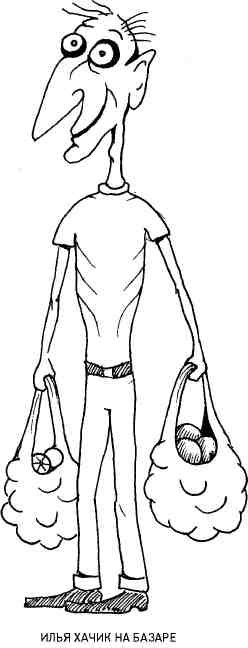
– Позвонил человек, попросил бросить пару палок, я пошёл и бросил три – пусть одна будет ей назавтра!
Не выдержав, мы начинали хохотать: надо было видеть Гарика и представлять его в роли «палкобросателя»!.. Но это не мешало нам любить его, славного и забавного. Бывая в Киеве, я непременно встречаюсь с ним. Он сейчас выглядит лучше, чем в молодости: наконец, дошёл до своего пикового возраста и чувствует себя прекрасно.
Не могу не упомянуть Эрика Оськина, маленького, шустрого, с постоянно смеющимися глазами. Это о нём я написал в одном из журналов «Цап-Царап»:
«…Куда девался Эрик Оськин?
Он выпал сквозь петлю в авоське»
Эрик уже тогда был фанатичным любителем сауны, которую он регулярно, по субботам, посещал вместе с тремя друзьями, с солёной рыбкой и водочкой. С годами это превратилось в одну, но пламенную страсть. Он и его партнёры взрослели, старели, но не пропускали ни одной субботы. Сауна настолько вошла в его жизнь, что он, даже в самые голодные годы на Украине, отказался уехать в сытую Канаду, куда настоятельно звал его младший брат, уже устроенный там и благополучный.(«Как я могу бросить свою команду?») Забегая вперёд, скажу, что и по сей день, получая нищенскую пенсию, на которую прожить невозможно, он, всё же, умудряется подсобрать несколько грошей на бутылочку, на рыбку и спешит в сауну, как на праздник. Я уверен, что когда-нибудь дирекция этого заведения поставит ему памятник при жизни за преданность и верность.
ВПЕРЁД, В НОВУЮ ЖИЗНЬ!
Всё. С самыми близкими институтскими друзьями я вас познакомил, а теперь вперёд, дальше, в самостоятельную жизнь! Вместе с дипломами нам выдали стипендию за два летних месяца плюс подъёмные от тех организаций, которые нас ждали.
У меня получилась очень приличная сумма, я с удовольствием её тратил, но ехать не спешил, хотя там меня ждали к первому сентября. Вместо Кзыл-Орды махнул в Сочи, пробыл там две недели, потом вернулся в Киев и весь сентябрь проводил прощальные вечера с друзьями и подругами. Где-то в начале октября, наконец, мы выехали в Москву. Мы – это я и Аллочка, выпускница Строительного института, с которой в последние месяцы я закрутил очередной роман.
В Москве мы прожили двое суток, дотратили все оставшиеся деньги, и мои, и её. После этого я пошёл к своим родственникам, одолжил у них деньги на билеты, на Курском вокзале посадил Аллу в её поезд Москва – Ашхабад (у неё было туда направление), и спустя два часа тоже сел в поезд и отправился в город с вожделенным двойным названием Кзыл-Орда.
В те годы в Среднюю Азию ездили поездами, потому что самолёты туда летели небольшие, с четырьмя-пятью промежуточными посадками. Поездом было дольше, но надёжней. Кроме того, я всегда любил поезда, а к самолётам относился с недоверием. (Наверное, именно поэтому, чтобы избавить от самолётобоязни, Господь, впоследствии переселил меня в Израиль, где основное средство общения с внешним миром – самолёты!) На вторые сутки за окном расстелилась безразмерная степь, потом – жёлтая полупустыня, за ней – оранжевая пустыня. Я изучал географию страны из окна вагона, поезд пересекал страницы атласа. В вагоне было полно пассажиров, шумно, жарко, пьянно и весело. Постепенно пассажиры выходили, вагон пустел. На четвёртые сутки вышел и я – мы прибыли в Кзыл-Орду. Настроение у меня было ужасное: в вагоне, в справочнике-путеводителе по Средней Азии, я прочитал, что в Кзыл-Орде расположен самый большой в стране лепрозорий – мне это сразу не понравилось! Дело в том, что я очень мнительный и когда при мне говорят о какой-то болезни, я тут же обнаруживаю признаки этого заболевания у себя в организме, вплоть до гинекологии. А тут: лепрозорий, прокажённые – кошмар! Это же ничего нельзя взять в руки, нельзя пить газировку на улице, нельзя поцеловать девушку – всюду будет подстерегать зараза! Я стоял у вагона, ветер мёл пыль, песок хрустел на зубах… Вдоль вагонов шёл путевой обходчик, постукивая по колёсам. Когда он подошёл к моему вагону, я увидел, что его голова периодически дёргается, очевидно, он страдал от нервного тика. Но я это воспринял, как явный симптом проказы, вскочил обратно в вагон, подошёл к проводнику и взмолился:
– Довези меня до Алма-Аты, у меня ещё осталось три рубля – я тебе поллитру куплю.
– Ехай, – разрешил проводник, – всё равно в вагоне уже никого не осталось. А поллитру разопьём вместе.
И я поехал в Алма-Ату – в конце концов, тоже город с двойным названием!
Наутро мы прибыли. Я сдал чемодан в камеру хранения, пересёк перрон, вышел на привокзальную площадь и обалдел от многоцветной красоты этого города: улицы в осенне-золотых тополях; горы, окружающие город, покрыты ещё зелёной травой, а их вершины уже в белых снежных папахах, а над всем этим – густо-синее небо. И, самое главное: масса молодых девичьих лиц! Причём, красивых, экзотичных, ведь здесь смешалось много национальностей: казахи, узбеки, русские, корейцы, и немцы, и французы, которые были когда-то сосланы сюда и здесь прижились. А главное, меня удивило их количество – они шли, одна за другой, как на параде, как на конкурсе красоты. (Потом мне объяснили, что во время войны сюда было эвакуировано много ВУЗов и часть из них осталась в Алма-Ате.)Я, как боевой конь, услышав зов трубы, забил копытом и рванулся за двумя хорошенькими девчушками, проходившими мимо, очевидно, причастными к музыке, потому что у каждой в руке были ноты в футляре.
У меня получилась очень приличная сумма, я с удовольствием её тратил, но ехать не спешил, хотя там меня ждали к первому сентября. Вместо Кзыл-Орды махнул в Сочи, пробыл там две недели, потом вернулся в Киев и весь сентябрь проводил прощальные вечера с друзьями и подругами. Где-то в начале октября, наконец, мы выехали в Москву. Мы – это я и Аллочка, выпускница Строительного института, с которой в последние месяцы я закрутил очередной роман.
В Москве мы прожили двое суток, дотратили все оставшиеся деньги, и мои, и её. После этого я пошёл к своим родственникам, одолжил у них деньги на билеты, на Курском вокзале посадил Аллу в её поезд Москва – Ашхабад (у неё было туда направление), и спустя два часа тоже сел в поезд и отправился в город с вожделенным двойным названием Кзыл-Орда.
В те годы в Среднюю Азию ездили поездами, потому что самолёты туда летели небольшие, с четырьмя-пятью промежуточными посадками. Поездом было дольше, но надёжней. Кроме того, я всегда любил поезда, а к самолётам относился с недоверием. (Наверное, именно поэтому, чтобы избавить от самолётобоязни, Господь, впоследствии переселил меня в Израиль, где основное средство общения с внешним миром – самолёты!) На вторые сутки за окном расстелилась безразмерная степь, потом – жёлтая полупустыня, за ней – оранжевая пустыня. Я изучал географию страны из окна вагона, поезд пересекал страницы атласа. В вагоне было полно пассажиров, шумно, жарко, пьянно и весело. Постепенно пассажиры выходили, вагон пустел. На четвёртые сутки вышел и я – мы прибыли в Кзыл-Орду. Настроение у меня было ужасное: в вагоне, в справочнике-путеводителе по Средней Азии, я прочитал, что в Кзыл-Орде расположен самый большой в стране лепрозорий – мне это сразу не понравилось! Дело в том, что я очень мнительный и когда при мне говорят о какой-то болезни, я тут же обнаруживаю признаки этого заболевания у себя в организме, вплоть до гинекологии. А тут: лепрозорий, прокажённые – кошмар! Это же ничего нельзя взять в руки, нельзя пить газировку на улице, нельзя поцеловать девушку – всюду будет подстерегать зараза! Я стоял у вагона, ветер мёл пыль, песок хрустел на зубах… Вдоль вагонов шёл путевой обходчик, постукивая по колёсам. Когда он подошёл к моему вагону, я увидел, что его голова периодически дёргается, очевидно, он страдал от нервного тика. Но я это воспринял, как явный симптом проказы, вскочил обратно в вагон, подошёл к проводнику и взмолился:
– Довези меня до Алма-Аты, у меня ещё осталось три рубля – я тебе поллитру куплю.
– Ехай, – разрешил проводник, – всё равно в вагоне уже никого не осталось. А поллитру разопьём вместе.
И я поехал в Алма-Ату – в конце концов, тоже город с двойным названием!
Наутро мы прибыли. Я сдал чемодан в камеру хранения, пересёк перрон, вышел на привокзальную площадь и обалдел от многоцветной красоты этого города: улицы в осенне-золотых тополях; горы, окружающие город, покрыты ещё зелёной травой, а их вершины уже в белых снежных папахах, а над всем этим – густо-синее небо. И, самое главное: масса молодых девичьих лиц! Причём, красивых, экзотичных, ведь здесь смешалось много национальностей: казахи, узбеки, русские, корейцы, и немцы, и французы, которые были когда-то сосланы сюда и здесь прижились. А главное, меня удивило их количество – они шли, одна за другой, как на параде, как на конкурсе красоты. (Потом мне объяснили, что во время войны сюда было эвакуировано много ВУЗов и часть из них осталась в Алма-Ате.)Я, как боевой конь, услышав зов трубы, забил копытом и рванулся за двумя хорошенькими девчушками, проходившими мимо, очевидно, причастными к музыке, потому что у каждой в руке были ноты в футляре.
