… Так окончился этот день — день первого чудесного приключения.
В заключение — перед самым возвращением родителей Ики Горошек сказал:
— А это все-таки надо продумать.
— Что там еще продумать? — сонно спросила Ика.
— Как устроить, чтобы все люди были добрыми.
ДОЖДЬ ПЕРЕСТАЛ И К УТРУ ПРЕВРАТИЛСЯ В ТУМАН. Утром туман стал такой густой, что пришлось зажечь в квартире свет. А на улице ничего нельзя было разглядеть в десяти шагах.
Понятно, родители сразу же стали ворчать: ну и климат, что за климат, в этом климате… и так далее, и тому подобное.
Горошку пришлось выслушать это сначала дома у себя, а потом у Ики — Икин отец как раз раскладывал пасьянс, напевая:
— Как тебе нравится этот климат, а?
Ика покачала головой.
— Других забот у тебя нет?
Но Горошек спокойно продолжал:
— При таком климате, как сегодня, можно даже днем пойти к Капитану: ни одна живая душа этого не заметит. Понятно?
— Папочка! — сказала Ика. — Можно нам с Горошком выскочить на минутку погулять во дворе?
Пасьянс у отца выходил, так что он снова запел на тот же самый мотив:
— И умоляю вас: лучше не скачите с третьего этажа. Сойдите, как обычно, по лестнице.
— Шуточки! — буркнула Ика.
Вышли молча. Ведь днем, хотя бы даже таким туманным и темным днем, как нынешний, не очень удавалось поверить во все случившееся, а особенно в то, что Капитан исполнит свое обещание. Ждет ли он их, помнит ли, захочет ли вспомнить?
Дверца была слегка приоткрыта. Но как-то жалко, прозаично, видно было, что просто замок испорчен. По стеклам стекала вода… Перекошенный кузов, лопнувшая рессора… Грустная картина.
Да, это, конечно, был не он, не вчерашний Капитан, их смелый друг и товарищ…
Ребята молча переглянулись. А потом, чтобы лучше все вспомнить, открыли скрипучую дверцу и сели перед погнутой завязанной проволокой баранкой.
Не хотелось разговаривать. Даже шепотом. Даже думать не очень хотелось. За стеклами клубился туман, и, может быть, немного затуманились и ребячьи глаза…
Было очень-очень тихо.
И вот в этой тишине возник чей-то голос. Сперва незаметный, почти неслышный, далекий-далекий. Потом — все яснее и ближе. Знакомый голос. Он что-то напевал. И звучал, приближаясь, все теплее, все веселей!
А напевал он так, как умеет напевать только быстрый, мощный автомобиль в дальнем пути. Аккомпанировали песне шорох шин по асфальту, рев сирены, шум ветра…
Да! Это был Капитан!
Он пел и, напевая, возвращался к ним.
В песенке говорилось о приморских шоссе и горных перевалах, о пустынных дорогах и пальмах, как страусы убегающих вдаль, о запахе бензина и сиянии фар, прорезающих ночь. И наконец совсем рядом прозвучали три последних слова:
— Привет, привет, привет!
После этих слов наступила долгая тишина. Наконец Ика спросила шепотом:
— Это вы, Капитан?
— Это я, — сказал Капитан.
Горошек все еще молчал. Капитан был в прекрасном настроении.
— Я тут немножко попутешествовал, — сказал он. — Навестил старые, знакомые места. Некий снежный альпийский перевал, зеленый залив Бизерты и кусочек пустынной дороги около оазиса Каттара. Приятно это. Очень приятно.
Горошек пришел в себя.
— Извините, пожалуйста, — сказал он. — Мы ведь тут все время были. Вместе с вами. И… Капитан рассмеялся.
— Наверно, — вежливо вставила Ика, — наверно, душа товарища Капитана…
— Ха-ха-ха! — трясся и скрипел от смеха Капитан. — Суеверия! Предрассудки и фигли-мигли! Вы думаете, я спиритизмом занимаюсь? Ха-ха-ха!
— А что же? — спросил Горошек.
— А что же? — повторила Ика, и Капитан вдруг стал очень серьезным, даже погрустнел.
— Ах, мои дорогие! — вздохнул он. — В мои годы путешествовать можно уже только в воспоминаниях…
— А-а-а… — сказали Ика с Горошком.
А потом наперебой:
— А где вы бывали?
— Когда?
— В каких странах?
— В какой пустыне?
— А что это за Бизерта?
И, наконец, как было у них заведено, оба, как по команде, проскандировали:
— Рас-ска-жи-те нам о-бо всем!
— Хо-хо-хо! — снова засмеялся Капитан. — Кто вас так выдрессировал?
— Жизнь! — отпарировала Ика.
Горошек тоже не смутился:
— Расскажите нам обо всем.
— О чем?
— Обо всем.
— Дети, — взмолился Капитан, — помилосердствуйте!
Ика покраснела.
— Помилосердствовать — пожалуйста. Но только, пожалуйста, никаких «детей». Дети в детском саду. Называйте нас лучше по имени.
— Извините, — сказал Капитан. — Больше не буду, мои дорогие. А с чего же… с чего же начать?
— Я обычно начинаю с начала, — дал справку Горошек.
— Ладно, так и быть, начнем с начала.
В НАЧАЛЕ БЫЛА ЛЕНТА, — начал Капитан. — Я рос на ней, долго ли, коротко ли — не знаю. Была это, как вы сами понимаете, лента конвейера, на котором меня монтировали, то есть собирали, и наконец собрали.
Подробно об этом рассказывать не стану, потому что сам знаю только понаслышке. Понимаете ли, мы, автомобили, начинаем что-то соображать и понимать только тогда, когда впервые как следует глотнем бензина. А это бывает потом, когда уже сойдешь с конвейера…
Было это как раз в Германии накануне последней войны. Понятно, нельзя сказать, чтобы это было удачное время для рождения приличной машины. Но ведь никто себе ни места, ни дня рождения сам не выбирает. Гм-гм… Очень давно это было. Ваши родители, наверно, еще тогда школы не кончили, а вы? Вы тогда еще никому и не снились.
Но все-таки вы, наверно, слыхали, что именно тогда, когда я впервые почувствовал вкус бензина и жизни, в Германии был большой урожай на негодяев.
Мне, однако, посчастливилось. Первый человек, который мне встретился, тот, кто впервые накормил меня и оживил, был как раз порядочным человеком. Звали его Эмиль. И на моем родном заводе он был обкатчиком новых машин.
Как сейчас помню нашу первую встречу. Едва он притронулся к моей баранке, я сразу почувствовал, что он знает меня до последнего шарика в подшипниках. Что видит меня, как у нас говорится, насквозь — от покрышек до крыши. Я сразу подумал: «Этот парень сумеет сделать из меня машину!»
Дело в том, что я очень волновался. Трусил. Да, да, трусил. Боялся опозориться. Я ведь был еще такой неопытный, робкий, необкатанный. И, стыдно признаваться, в первую же минуту — и только со страху! — я поперхнулся бензином, и мотор у меня заглох.
Но Эмиль спокойно сказал:
«Смелее, Капитан! Не нервничай!»
И так деликатно нажал педаль, словно ботинок у него был из лебяжьего пуха. Я сразу приободрился. Мотор завелся, и мы поехали.
Вы себе представить не можете, какое наслаждение становиться самим собой, узнавать, на что ты способен! Первые часы жизни, которые я провел с Эмилем, были суровой школой. Я чувствовал в нем друга. Но этот друг хотел, чтобы мы с ним оба узнали все мои возможности, так сказать, до последней гайки! Гора не гора, река не река, лес не лес… Мы гоняли повсюду, словно он хотел убедить меня, что я могу все, даже летать!
А я мог многое. Ну, конечно, летать я не мог.
К концу дня мы оба были ужасно измучены и ужасно довольны собой и друг другом. Возвращались мы по шоссе среди лугов и пронизанных солнцем лесов. Да, в этот день я узнал, что такое счастье. Эмиль, сказал мне немало ласковых, очень ласковых слов. Спел мне даже песенку.
Но когда мы вернулись на фабричный двор, нас ожидали несколько человек. Двое были в мундирах с изображением мертвой головы. Руки Эмиля, державшего баранку, дрогнули. Я понял, что он хочет повернуть обратно. Я был готов. Но ворота за нами уже заперли. А ведь летать я не умел…
Эмиля увели. И я его никогда больше не видел.
Но… но я запомнил эти лица и эти мундиры. И подумал, что хоть гора с горой не сходится, но я с этими молодчиками, быть может, все же увижусь. И отплачу.
Скажу сразу — мне повезло. Удалось эмигрировать. Меня продали во Францию почтенному старому доктору, с которым мы разъезжали в Пиренеях по маленьким селениям и городкам. Доктор был человек одинокий, и единственным существом, с которым он охотно беседовал, был я.
Я полюбил старого доктора, он — меня. Я старался его не подводить и, кажется, ни разу не подвел.
Но, дорогие мои, уже шла война. Такая война, от которой нельзя было спрятаться даже на краю света. И пришлось мне снова увидеть людей в серо-зеленых мундирах, с мертвыми головами на фуражках.
Доктора моего они не тронули — он успел скрыться. Но зато они забрали с собой меня. Понимаете? Меня.
С первой же минуты я решил, что это не пойдет. Не удастся им сделать меня своим сообщником! Сразу на первом же километре — я расплавил себе подшипники.
Так это началось. Началась моя собственная война. Показал я им, что могут сделать вещи, «неживые предметы»!
Они ездили на мне по городам и дорогам. Но удовольствия им это не доставляло. Я портился на каждом шагу. То проводка, то сцепление, то коробка скоростей. Вы знаете, что такое саботаж? Слышали? Ну, вот этим и занимался. Саботировал.
Хотели они, например, приехать тайком, застать кого-то врасплох ночью. А я стрелял глушителем, как пушка, или включал сирену, завывая не хуже пожарной машины.
Пробовали кого-нибудь догнать? На первом же повороте — пшик! спускало колесо, и пшик из их погони!
А когда кто-нибудь из них решал поехать в субботу погулять за город, я портился так, что целый день приходилось ему лежать под моим шасси, а я поливал его маслом и грязью.
Знаете, как они меня прозвали? «Проклятый Дьявол». Правда, хорошо? Ни в чертей, ни в ангелов я не верю, но прозвищем этим горжусь. Люблю вспоминать, как и когда я его получил.
Было это под Марселем. Марсель — чудесный белый город над синим морем. Ах, как любил я там постоять ночью на волнах и поразмышлять, например, о том, есть ли на других планетах автомобили…
Впрочем, я отвлекся. В тот день, о котором я хочу рассказать, я участвовал в погоне. В погоне за руководителем французских партизан. «Мертвоголовые» дорого дали бы за то, чтобы его поймать. Недаром за рулем сидел самый важный из моих хозяев. Это меня порадовало — ведь у меня были свои планы…
Сначала я был очень послушен. Разогнался, как только мог. Партизан ехал на разбитом старом «Рено», на таком же инвалиде, каким я стал сейчас… Неудивительно, стало быть, что уже спустя несколько километров я стал наступать ему на шины.
Я выжидал удобной минуты. Я знал, что стрелять «они» не будут: «они» говорили, что хотят взять его живым. Мы мчались по приморскому шоссе: сто метров уклона, вираж, двести метров подъема, снова крутой поворот, опять уклон, поворот, уклон…
До «Рено» оставалось несколько метров, и «мертвоголовые» уже хохотали от злобной радости. И тут я им устроил пряный сюрприз. Внезапно, без предупреждения, на крутом уклоне, на скорости больше ста, у меня вдруг сделалась… судорога тормозов. Меня так занесло, что я сам с трудом удержал равновесие. Шины стерлись об асфальт почти до камер. Но то, что я задумал, удалось! Удалось. «Рено» с партизаном преспокойно укатил. А мои пассажиры превратились в кашу. Водитель расшиб голову, его сосед разбил носом стекло, а тех, что сидели сзади, так тряхнуло, что один из них сломал себе руку об голову другого!
«Рено» умчался, я, не считая разбитого стекла, был целехонек, а моих «хозяев» увезли в санитарной машине. Вот тогда-то они и прозвали меня Проклятым Дьяволом!
Но по-настоящему час расплаты с фашистами для меня пришел только тогда, когда нашу часть перебросили в Африку.
Там я впервые увидел настоящее сражение. Там я до конца понял, что такое война. И говорю вам — запомните это, ребята: ни под солнцем, ни под звездами нет ничего страшнее войны.
Те, с мертвыми головами, понятно, сами в бой не рвались. Держались подальше от линии огня. Меня это, по правде сказать, огорчало, это мешало мне исполнить мой замысел. На некоторое время я притих — стал ходить нормально, без сюрпризов, вел себя как приличная, исправная машина.
Но вот наконец наступила ночь, когда земля содрогнулась и запылала, и мои «хозяева» кинулись спасаться бегством…
На шоссе творилось что-то ужасное: грузовики, танки, санитарные машины, штабные автомобили, вездеходы — все перемешалось, как на складе железного лома. Ежеминутные авиационные налеты, непрерывный артиллерийский обстрел. Крики людей, рев моторов. Ад, сущий ад!
Я знал, что в любой момент могу взлететь на воздух вместе с ними. Это мне не улыбалось. Конечно, ради хорошего дела можно и погибнуть. Но гораздо лучше жить и победить!
И вот в конце мне удалось вырваться из толчеи на боковую, не слишком забитую дорогу. Тут я рванулся с места, как гоночная машина высшего класса. Дорогу я знал. Помнил ее, пожалуй, получше, чем они. У большого холма была развилка. Налево шла дорога отступления, — вернее, бегства, а направо — шоссе, которое поворачивало как раз к тем, от кого удирали мои хозяева. В грохоте ночной битвы нелегко было, правда, разобраться, где право, где лево, но я чувствовал, где под моими шинами дрожит земля, и отлично знал, откуда приближается к ним возмездие.
На вершину холма я взлетел как птица и, не дав водителю опомниться, сам — чуть ли не на двух колесах! — сделал правый поворот. Фары я на этот момент включил, чтобы в первую минуту могло показаться, что мы еще не проехали развилки.
А когда наконец «мертвоголовые» сообразили, что едут не туда было уже поздно. По неровной, разбитой дороге я мчался вниз, навстречу наступающей армии, которая гнала фашистов.
В эти минуты я снова стал Проклятым Дьяволом, и ничто не могло меня остановить! Для четверых негодяев с мертвыми головами на фуражках я был в этот миг тюрьмой на колесах. Дверцы они могли бы открыть только гранатами. Затормозить? На этот раз я вел себя так, как будто у меня никогда в жизни не было тормозов. Ни ножных, ни ручных, ни моральных… Вообще никаких!
И так я привез их в самый центр наступающей колонны танков.
Тут я затормозил и сам вежливо открыл дверцы. Сделал я это, удостоверившись, что нас уже окружили наступавшие солдаты!
Ох, мои дорогие! Это была одна из прекраснейших минут в моей жизни! Ведь я помог взять в плен четырех негодяев, помог прекратить их черные дела! И сам я смог наконец начать драться за правое дело!
С этого дня я делал все, что было в моих силах. В ремонтные мастерские заглядывал редко. Служил верой и правдой.
Капитан замолчал. Надолго. На дворе было тихо. Лишь издалека долетал шум города — словно дальний-дальний отзвук движения военных колонн, несущихся по пустыне…
Горошек и Ика тоже молчали.
Наконец Капитан снова заговорил.
— Да, — сказал он, — где я только ни побывал! Обо всем не расскажешь…
Сначала я работал в полевом госпитале и со своим новым водителем подружился почти так же, как с Эмилем.
Это был молоденький парнишка, веселый и смешливый, горячо влюбленный в свою невесту. Звали его Гамаль — он был египтянином.
У него был только один недостаток. Любил слишком быструю езду. Устраивал гонки даже тогда, когда в этом не было никакой необходимости.
Ну, с этим я справлялся легко. Как только я чувствовал, что Гамаль затевает забаву, я сам регулировал скорость. Он мог нажимать газ до отказа сколько угодно — я шел не быстрее, чем полагалось по правилам и чем позволял здравый смысл.
Почему? А потому, что ни одна приличная машина, у которой есть хоть капля масла в коробке передач, не хочет, чтобы ей вмяли крыло или расквасили радиатор по той единственной причине, что у шофера не хватает шариков в голове.
В конце концов Гамаль образумился и прекратил свои выходки.
Но однажды… Однажды я сам устроил гонки. Да еще с самолетом!
Стояли мы тогда в оазисе Каттара, расположенном в двухстах километрах к юго-западу от Александрии.
Знаете ли вы, что такое оазис?
Оазис, ребята, это райский уголок, какие порой попадаются в жестокой и грозной пустыне. Посмотрите-ка!
И, едва Капитан произнес «посмотрите-ка», его переднее стекло, за которым лежала неподвижная темно-серая стена тумана, вдруг стало светлеть. Оно засветилось, как экран включенного телевизора.
— Что же это такое? — шепотом спросила Ика.
— Это моя память и ваше воображение, — сказал Капитан. — Это оазис Каттара.
— Ой, как красиво, — шепнул Горошек.
Да, действительно это было красиво. Под ясным, сияющим, солнечным небом — белые домики без окон со сводчатыми крышами… Высокие, стройные пальмы… Перед одним из домиков — араб в черном бурнусе, рядом — два верблюда… Вот из домика вышла девушка с кувшином на голове и легкой походкой направилась к колодцу.
А перед третьим, самым большим домиком стоял сам Капитан. Был он чистый и блестящий, скромный, но элегантный.
— Это я, — сказал Капитан. — А вот Гамаль.
Из домика вышел молодой мужчина с брезентовым мешком в руке, улыбнулся кому-то, сел за руль, и Капитан помчался.
Картины начали сменять друг друга, как на экране. Показалась пальмовая роща, лужок, поросший блеклой травой, на котором паслись верблюды. И вдруг за высоким песчаным холмом открылось серожелтое, как львиная шкура, море песка.
— Это Сахара, — сказал Капитан.
Чудесный это был вид!… Чудесный, но страшный.
Темная дорога вилась среди песчаных дюн, обнаженных и лоснившихся под солнцем. Даже небо, такое ясное, изменило свой цвет перед лицом неподвижности, безмолвия, пустоты… Оно само становилось серо-желтым, тяжелым, пустынным…
— Пустыня Сахара? — шепнул Горошек.
— Да, — подтвердил Капитан.
Образ пустыни понемногу стерся, потемнел и уплыл во мглу.
— Так вот, в тот день, — продолжал рассказывать Капитан, — мы с Гамалем должны были отвезти почту из оазиса в Александрию, а в Александрии получить вакцину и лекарства для эпидемиологической станции, находившейся в оазисе.
В обратный путь мы двинулись под вечер. И едва только мы вновь выехали и покатили среди песков, я начал тревожиться. Небо было еще совсем чистое, но с высоких дюн порой взвивались в воздух струйки песка.
Я всем кузовом почувствовал, что от волнения у меня размягчаются шины и пересыхает карбюратор. Я понял: на нас надвигается буря. Солнце меркло, дюны понемногу принимали цвет темной стали.
Гамаль вез лекарства. Ему было приказано ехать осторожно и медленно. Он не спешил. Что я мог поделать?
Когда же до оазиса оставалось километров пятьдесят, я заметил под самым солнцем на западе самолет. По его силуэту и по звуку мотора я распознал тип машины, которую в то время использовали чаще всего для медицинской службы. Вроде летающей «скорой помощи»…
Мы как раз въехали на самый тяжелый участок пути. Гамаль вел меня медленно, беспокоясь о сохранности вакцины. И вдруг в голосе мотора самолета я совершенно ясно услышал то, что вы называете призывом о помощи.
Ветер поднимал уже целые потоки песка, захлестывавшие нас, как волны. Солнце скрылось за стеной песчаного дождя.
Что мне было делать? Я понимал, что самолет вскоре вынужден будет совершить посадку. Через пять, самое большее через десять минут. Понимал и то, что при такой посадке авария неминуема. Значит, нам надо находиться как можно ближе к месту посадки, чтобы Гамаль мог помочь людям, предупредить, если сумеет, пожар в самолете.
А Гамаль все еще не замечал самолета!
Я колебался только мгновение. И помчался вдогонку за самолетом, что было сил в моторе. Как сказали бы люди: на свой страх и риск.
Шоссе было разбито танками. Я подпрыгивал и трясся как сумасшедший. Ящики с лекарствами подозрительно трещали. Разъяренный Гамаль нажал на тормоз — бесполезно! Несмотря на боль в амортизаторах, на безумную тряску, несмотря на то, что песок уже забирался мне под радиатор, я гнал за самолетом, который — это было уже очевидно — начал падать.
К счастью, тут и Гамаль заметил самолет. И понял меня. Перестал тормозить и выжал газ до предела. Гнал, одной рукой придерживая драгоценную вакцину, лежавшую рядом с ним на сиденье.
И вдруг я почувствовал острую боль. Лопнула рессора. Камень был причиной или выбоина? Не знаю и никогда не узнаю. Мы мчались дальше. Самолет уже падал на землю, сильно накренившись. Под ним была песчаная дюна.
На вершину этой дюны мы выскочили в ту самую минуту, когда самолет ударился о землю возле самой дороги с такой силой, что несколько раз подпрыгнул. Правое крыло его сломалось, как спичка. Из кабины повалил дым.
Отделявшую нас от места катастрофы сотню метров я пролетел за три секунды — и всеми четырьмя колесами зарылся в песчаную насыпь.
Гамаль немедленно выскочил из машины с огнетушителем в руках. В эту самую минуту в дверях кабины самолета показался какой-то человек. Он тащил за собой другого — тот, второй, видимо, был без сознания…
Гамаль направил струю пены внутрь кабины, столб дыма на минуту исчез. Вдвоем они перенесли раненого ко мне на заднее сиденье, и мы немедленно двинулись.
И вовремя! Мы отъехали не больше двухсот метров, как сквозь рев и свист ветра прогремел глухой удар, блеснуло пламя Это взорвался бензобак смертельно раненого самолета.
Да, самолет погиб. Но люди и я уцелели!
До оазиса оставалось каких-нибудь два десятка километров. Не хочется вспоминать о том, как я тащился туда. Тащился целый час, сквозь бурю и тьму, борясь с болью, с песком, с усталостью. Временами мне чудилось, что вместо смазки и масла во мне лишь песок, что вместо бензина меня напоили водой… Да, порой мне казалось, что это последние двадцать километров в моей жизни! Но, несмотря ни на что, я упорно полз вперед. Что ж, если бы я сдался, я бы не стоил даже того, чтобы меня назвали железным ломом!… Ведь на моем заднем сиденье стонал тяжело раненый человек. Он и еще двое ждали от меня спасения. Ну — и нечего скрывать! — сам я тоже очень хотел спастись.
Люди мне помогали. Я им — они мне. Не раз и не два, когда мне уже не хватало сил и шины беспомощно вязли в песке, они подпирали меня собственными плечами.
И в конце концов плечом к плечу, помогая друг другу, мы всетаки добрались до оазиса!
Немного совестно в этом признаваться, но, когда мы подъехали к первым пальмам Каттары, Гамаль поцеловал меня в баранку!
И зря он это сделал, честное слово! Я так растрогался, что остановился окончательно! Правда, мы были уже дома. Раненый пилот, врач, Гамаль и я. Все были спасены.
Гамаль получил орден, а я — отличную новую рессору.
Между нами говоря, я предпочитаю хорошую рессору самому высокому ордену! — со смехом закончил Капитан. — Да, — сказал он, — пусть меня лучше ремонтируют, чем награждают! А вы как считаете?
Ика с Горошком переглянулись.
— Мы? — неуверенно протянула Ика. — А нас еще никогда не ремонтировали и не награждали!…
Горошек энергично затряс головой.
— А зубной врач?
— Что — зубной врач?
— Тебе зубы чинили, — сказал Горошек, — или как это — лечили?
— А-а… тогда я предпочитаю, — уверенно сказала Ика, — чтобы меня награждали, а не чинили!
— Ты права, — поддержал ее Горошек.
И тут из тумана, где-то совсем рядом, прозвучал встревоженный голос:
— Горошек! Ика! Где вы?
— Мы здесь, папочка! — крикнула Ика, выскакивая из машины.
Горошек едва успел захлопнуть за собой дверцу.
Перед ними появилась фигура отца Ики.
— Что вы тут, собственно говоря, делали? — спросил он. — Может быть, путешествовали?
— Немножко, — буркнула Ика.
Отец рассмеялся:
— И куда же вы ездили? В Африку?
С отцом Ики можно было разговаривать Горошек тоже рассмеялся.
— Именно, — сказал он. А Ика:
— Мы были в оазисе…
— В оазисе Каттара, — объяснил Горошек. — Примерно в двухстах километрах на юго-запад от Александрии. Отец покачал головой.
— Каттара? Боюсь, вы ошибаетесь. В такую погоду скорее можно докатиться до катара верхних дыхательных путей!
— Нет! Каттара!
— Каттара?… — удивился отец. — А разве есть такой?
— Есть! — заявил Горошек.
Уже в лифте отец сказал Ике с деланным сочувствием:
— Бедная моя деточка! Знаешь, мама почему-то уверена, что речь идет именно о катаре. Она уже приготовила аспирин. И липовый цвет.
И весело подмигнул Горошку.
— Что делать, — сказала Ика, — если у тебя мама доктор…
— Спокойной ночи, — поклонился Горошек. — Он был уже у своей двери.
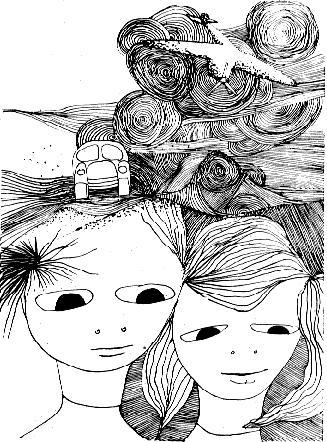
— Спокойной ночи. Завтра загляни, — сказали хором отец и Ика.
— Загляну, — еще раз поклонился Горошек. — Надо это продумать.
— Что? — спросил отец. — Аспирин?
Но на этот раз он не получил ответа, потому что Икина мама желала что-то сообщить об осенней эпидемии гриппа. А самое смешное было то, что и отцу тоже пришлось принять аспирин.
На всякий случай.
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ВТОРОЕ
В заключение — перед самым возвращением родителей Ики Горошек сказал:
— А это все-таки надо продумать.
— Что там еще продумать? — сонно спросила Ика.
— Как устроить, чтобы все люди были добрыми.
ДОЖДЬ ПЕРЕСТАЛ И К УТРУ ПРЕВРАТИЛСЯ В ТУМАН. Утром туман стал такой густой, что пришлось зажечь в квартире свет. А на улице ничего нельзя было разглядеть в десяти шагах.
Понятно, родители сразу же стали ворчать: ну и климат, что за климат, в этом климате… и так далее, и тому подобное.
Горошку пришлось выслушать это сначала дома у себя, а потом у Ики — Икин отец как раз раскладывал пасьянс, напевая:
Пел он это на мотив известной песенки: «Выпил Куба у Якуба», а Ика решала задачи. Когда она кончила, Горошек толкнул ее в бок:
Что за климат,
Что за климат,
Что за страшный климат!
— Как тебе нравится этот климат, а?
Ика покачала головой.
— Других забот у тебя нет?
Но Горошек спокойно продолжал:
— При таком климате, как сегодня, можно даже днем пойти к Капитану: ни одна живая душа этого не заметит. Понятно?
— Папочка! — сказала Ика. — Можно нам с Горошком выскочить на минутку погулять во дворе?
Пасьянс у отца выходил, так что он снова запел на тот же самый мотив:
А потом сказал очень испуганным голосом:
Так и быть, во двор скачите,
Но на улицу —
Ни-ни!
— И умоляю вас: лучше не скачите с третьего этажа. Сойдите, как обычно, по лестнице.
— Шуточки! — буркнула Ика.
Вышли молча. Ведь днем, хотя бы даже таким туманным и темным днем, как нынешний, не очень удавалось поверить во все случившееся, а особенно в то, что Капитан исполнит свое обещание. Ждет ли он их, помнит ли, захочет ли вспомнить?
Дверца была слегка приоткрыта. Но как-то жалко, прозаично, видно было, что просто замок испорчен. По стеклам стекала вода… Перекошенный кузов, лопнувшая рессора… Грустная картина.
Да, это, конечно, был не он, не вчерашний Капитан, их смелый друг и товарищ…
Ребята молча переглянулись. А потом, чтобы лучше все вспомнить, открыли скрипучую дверцу и сели перед погнутой завязанной проволокой баранкой.
Не хотелось разговаривать. Даже шепотом. Даже думать не очень хотелось. За стеклами клубился туман, и, может быть, немного затуманились и ребячьи глаза…
Было очень-очень тихо.
И вот в этой тишине возник чей-то голос. Сперва незаметный, почти неслышный, далекий-далекий. Потом — все яснее и ближе. Знакомый голос. Он что-то напевал. И звучал, приближаясь, все теплее, все веселей!
А напевал он так, как умеет напевать только быстрый, мощный автомобиль в дальнем пути. Аккомпанировали песне шорох шин по асфальту, рев сирены, шум ветра…
Да! Это был Капитан!
Он пел и, напевая, возвращался к ним.
В песенке говорилось о приморских шоссе и горных перевалах, о пустынных дорогах и пальмах, как страусы убегающих вдаль, о запахе бензина и сиянии фар, прорезающих ночь. И наконец совсем рядом прозвучали три последних слова:
— Привет, привет, привет!
После этих слов наступила долгая тишина. Наконец Ика спросила шепотом:
— Это вы, Капитан?
— Это я, — сказал Капитан.
Горошек все еще молчал. Капитан был в прекрасном настроении.
— Я тут немножко попутешествовал, — сказал он. — Навестил старые, знакомые места. Некий снежный альпийский перевал, зеленый залив Бизерты и кусочек пустынной дороги около оазиса Каттара. Приятно это. Очень приятно.
Горошек пришел в себя.
— Извините, пожалуйста, — сказал он. — Мы ведь тут все время были. Вместе с вами. И… Капитан рассмеялся.
— Наверно, — вежливо вставила Ика, — наверно, душа товарища Капитана…
— Ха-ха-ха! — трясся и скрипел от смеха Капитан. — Суеверия! Предрассудки и фигли-мигли! Вы думаете, я спиритизмом занимаюсь? Ха-ха-ха!
— А что же? — спросил Горошек.
— А что же? — повторила Ика, и Капитан вдруг стал очень серьезным, даже погрустнел.
— Ах, мои дорогие! — вздохнул он. — В мои годы путешествовать можно уже только в воспоминаниях…
— А-а-а… — сказали Ика с Горошком.
А потом наперебой:
— А где вы бывали?
— Когда?
— В каких странах?
— В какой пустыне?
— А что это за Бизерта?
И, наконец, как было у них заведено, оба, как по команде, проскандировали:
— Рас-ска-жи-те нам о-бо всем!
— Хо-хо-хо! — снова засмеялся Капитан. — Кто вас так выдрессировал?
— Жизнь! — отпарировала Ика.
Горошек тоже не смутился:
— Расскажите нам обо всем.
— О чем?
— Обо всем.
— Дети, — взмолился Капитан, — помилосердствуйте!
Ика покраснела.
— Помилосердствовать — пожалуйста. Но только, пожалуйста, никаких «детей». Дети в детском саду. Называйте нас лучше по имени.
— Извините, — сказал Капитан. — Больше не буду, мои дорогие. А с чего же… с чего же начать?
— Я обычно начинаю с начала, — дал справку Горошек.
— Ладно, так и быть, начнем с начала.
В НАЧАЛЕ БЫЛА ЛЕНТА, — начал Капитан. — Я рос на ней, долго ли, коротко ли — не знаю. Была это, как вы сами понимаете, лента конвейера, на котором меня монтировали, то есть собирали, и наконец собрали.
Подробно об этом рассказывать не стану, потому что сам знаю только понаслышке. Понимаете ли, мы, автомобили, начинаем что-то соображать и понимать только тогда, когда впервые как следует глотнем бензина. А это бывает потом, когда уже сойдешь с конвейера…
Было это как раз в Германии накануне последней войны. Понятно, нельзя сказать, чтобы это было удачное время для рождения приличной машины. Но ведь никто себе ни места, ни дня рождения сам не выбирает. Гм-гм… Очень давно это было. Ваши родители, наверно, еще тогда школы не кончили, а вы? Вы тогда еще никому и не снились.
Но все-таки вы, наверно, слыхали, что именно тогда, когда я впервые почувствовал вкус бензина и жизни, в Германии был большой урожай на негодяев.
Мне, однако, посчастливилось. Первый человек, который мне встретился, тот, кто впервые накормил меня и оживил, был как раз порядочным человеком. Звали его Эмиль. И на моем родном заводе он был обкатчиком новых машин.
Как сейчас помню нашу первую встречу. Едва он притронулся к моей баранке, я сразу почувствовал, что он знает меня до последнего шарика в подшипниках. Что видит меня, как у нас говорится, насквозь — от покрышек до крыши. Я сразу подумал: «Этот парень сумеет сделать из меня машину!»
Дело в том, что я очень волновался. Трусил. Да, да, трусил. Боялся опозориться. Я ведь был еще такой неопытный, робкий, необкатанный. И, стыдно признаваться, в первую же минуту — и только со страху! — я поперхнулся бензином, и мотор у меня заглох.
Но Эмиль спокойно сказал:
«Смелее, Капитан! Не нервничай!»
И так деликатно нажал педаль, словно ботинок у него был из лебяжьего пуха. Я сразу приободрился. Мотор завелся, и мы поехали.
Вы себе представить не можете, какое наслаждение становиться самим собой, узнавать, на что ты способен! Первые часы жизни, которые я провел с Эмилем, были суровой школой. Я чувствовал в нем друга. Но этот друг хотел, чтобы мы с ним оба узнали все мои возможности, так сказать, до последней гайки! Гора не гора, река не река, лес не лес… Мы гоняли повсюду, словно он хотел убедить меня, что я могу все, даже летать!
А я мог многое. Ну, конечно, летать я не мог.
К концу дня мы оба были ужасно измучены и ужасно довольны собой и друг другом. Возвращались мы по шоссе среди лугов и пронизанных солнцем лесов. Да, в этот день я узнал, что такое счастье. Эмиль, сказал мне немало ласковых, очень ласковых слов. Спел мне даже песенку.
Но когда мы вернулись на фабричный двор, нас ожидали несколько человек. Двое были в мундирах с изображением мертвой головы. Руки Эмиля, державшего баранку, дрогнули. Я понял, что он хочет повернуть обратно. Я был готов. Но ворота за нами уже заперли. А ведь летать я не умел…
Эмиля увели. И я его никогда больше не видел.
Но… но я запомнил эти лица и эти мундиры. И подумал, что хоть гора с горой не сходится, но я с этими молодчиками, быть может, все же увижусь. И отплачу.
Скажу сразу — мне повезло. Удалось эмигрировать. Меня продали во Францию почтенному старому доктору, с которым мы разъезжали в Пиренеях по маленьким селениям и городкам. Доктор был человек одинокий, и единственным существом, с которым он охотно беседовал, был я.
Я полюбил старого доктора, он — меня. Я старался его не подводить и, кажется, ни разу не подвел.
Но, дорогие мои, уже шла война. Такая война, от которой нельзя было спрятаться даже на краю света. И пришлось мне снова увидеть людей в серо-зеленых мундирах, с мертвыми головами на фуражках.
Доктора моего они не тронули — он успел скрыться. Но зато они забрали с собой меня. Понимаете? Меня.
С первой же минуты я решил, что это не пойдет. Не удастся им сделать меня своим сообщником! Сразу на первом же километре — я расплавил себе подшипники.
Так это началось. Началась моя собственная война. Показал я им, что могут сделать вещи, «неживые предметы»!
Они ездили на мне по городам и дорогам. Но удовольствия им это не доставляло. Я портился на каждом шагу. То проводка, то сцепление, то коробка скоростей. Вы знаете, что такое саботаж? Слышали? Ну, вот этим и занимался. Саботировал.
Хотели они, например, приехать тайком, застать кого-то врасплох ночью. А я стрелял глушителем, как пушка, или включал сирену, завывая не хуже пожарной машины.
Пробовали кого-нибудь догнать? На первом же повороте — пшик! спускало колесо, и пшик из их погони!
А когда кто-нибудь из них решал поехать в субботу погулять за город, я портился так, что целый день приходилось ему лежать под моим шасси, а я поливал его маслом и грязью.
Знаете, как они меня прозвали? «Проклятый Дьявол». Правда, хорошо? Ни в чертей, ни в ангелов я не верю, но прозвищем этим горжусь. Люблю вспоминать, как и когда я его получил.
Было это под Марселем. Марсель — чудесный белый город над синим морем. Ах, как любил я там постоять ночью на волнах и поразмышлять, например, о том, есть ли на других планетах автомобили…
Впрочем, я отвлекся. В тот день, о котором я хочу рассказать, я участвовал в погоне. В погоне за руководителем французских партизан. «Мертвоголовые» дорого дали бы за то, чтобы его поймать. Недаром за рулем сидел самый важный из моих хозяев. Это меня порадовало — ведь у меня были свои планы…
Сначала я был очень послушен. Разогнался, как только мог. Партизан ехал на разбитом старом «Рено», на таком же инвалиде, каким я стал сейчас… Неудивительно, стало быть, что уже спустя несколько километров я стал наступать ему на шины.
Я выжидал удобной минуты. Я знал, что стрелять «они» не будут: «они» говорили, что хотят взять его живым. Мы мчались по приморскому шоссе: сто метров уклона, вираж, двести метров подъема, снова крутой поворот, опять уклон, поворот, уклон…
До «Рено» оставалось несколько метров, и «мертвоголовые» уже хохотали от злобной радости. И тут я им устроил пряный сюрприз. Внезапно, без предупреждения, на крутом уклоне, на скорости больше ста, у меня вдруг сделалась… судорога тормозов. Меня так занесло, что я сам с трудом удержал равновесие. Шины стерлись об асфальт почти до камер. Но то, что я задумал, удалось! Удалось. «Рено» с партизаном преспокойно укатил. А мои пассажиры превратились в кашу. Водитель расшиб голову, его сосед разбил носом стекло, а тех, что сидели сзади, так тряхнуло, что один из них сломал себе руку об голову другого!
«Рено» умчался, я, не считая разбитого стекла, был целехонек, а моих «хозяев» увезли в санитарной машине. Вот тогда-то они и прозвали меня Проклятым Дьяволом!
Но по-настоящему час расплаты с фашистами для меня пришел только тогда, когда нашу часть перебросили в Африку.
Там я впервые увидел настоящее сражение. Там я до конца понял, что такое война. И говорю вам — запомните это, ребята: ни под солнцем, ни под звездами нет ничего страшнее войны.
Те, с мертвыми головами, понятно, сами в бой не рвались. Держались подальше от линии огня. Меня это, по правде сказать, огорчало, это мешало мне исполнить мой замысел. На некоторое время я притих — стал ходить нормально, без сюрпризов, вел себя как приличная, исправная машина.
Но вот наконец наступила ночь, когда земля содрогнулась и запылала, и мои «хозяева» кинулись спасаться бегством…
На шоссе творилось что-то ужасное: грузовики, танки, санитарные машины, штабные автомобили, вездеходы — все перемешалось, как на складе железного лома. Ежеминутные авиационные налеты, непрерывный артиллерийский обстрел. Крики людей, рев моторов. Ад, сущий ад!
Я знал, что в любой момент могу взлететь на воздух вместе с ними. Это мне не улыбалось. Конечно, ради хорошего дела можно и погибнуть. Но гораздо лучше жить и победить!
И вот в конце мне удалось вырваться из толчеи на боковую, не слишком забитую дорогу. Тут я рванулся с места, как гоночная машина высшего класса. Дорогу я знал. Помнил ее, пожалуй, получше, чем они. У большого холма была развилка. Налево шла дорога отступления, — вернее, бегства, а направо — шоссе, которое поворачивало как раз к тем, от кого удирали мои хозяева. В грохоте ночной битвы нелегко было, правда, разобраться, где право, где лево, но я чувствовал, где под моими шинами дрожит земля, и отлично знал, откуда приближается к ним возмездие.
На вершину холма я взлетел как птица и, не дав водителю опомниться, сам — чуть ли не на двух колесах! — сделал правый поворот. Фары я на этот момент включил, чтобы в первую минуту могло показаться, что мы еще не проехали развилки.
А когда наконец «мертвоголовые» сообразили, что едут не туда было уже поздно. По неровной, разбитой дороге я мчался вниз, навстречу наступающей армии, которая гнала фашистов.
В эти минуты я снова стал Проклятым Дьяволом, и ничто не могло меня остановить! Для четверых негодяев с мертвыми головами на фуражках я был в этот миг тюрьмой на колесах. Дверцы они могли бы открыть только гранатами. Затормозить? На этот раз я вел себя так, как будто у меня никогда в жизни не было тормозов. Ни ножных, ни ручных, ни моральных… Вообще никаких!
И так я привез их в самый центр наступающей колонны танков.
Тут я затормозил и сам вежливо открыл дверцы. Сделал я это, удостоверившись, что нас уже окружили наступавшие солдаты!
Ох, мои дорогие! Это была одна из прекраснейших минут в моей жизни! Ведь я помог взять в плен четырех негодяев, помог прекратить их черные дела! И сам я смог наконец начать драться за правое дело!
С этого дня я делал все, что было в моих силах. В ремонтные мастерские заглядывал редко. Служил верой и правдой.
Капитан замолчал. Надолго. На дворе было тихо. Лишь издалека долетал шум города — словно дальний-дальний отзвук движения военных колонн, несущихся по пустыне…
Горошек и Ика тоже молчали.
Наконец Капитан снова заговорил.
— Да, — сказал он, — где я только ни побывал! Обо всем не расскажешь…
Сначала я работал в полевом госпитале и со своим новым водителем подружился почти так же, как с Эмилем.
Это был молоденький парнишка, веселый и смешливый, горячо влюбленный в свою невесту. Звали его Гамаль — он был египтянином.
У него был только один недостаток. Любил слишком быструю езду. Устраивал гонки даже тогда, когда в этом не было никакой необходимости.
Ну, с этим я справлялся легко. Как только я чувствовал, что Гамаль затевает забаву, я сам регулировал скорость. Он мог нажимать газ до отказа сколько угодно — я шел не быстрее, чем полагалось по правилам и чем позволял здравый смысл.
Почему? А потому, что ни одна приличная машина, у которой есть хоть капля масла в коробке передач, не хочет, чтобы ей вмяли крыло или расквасили радиатор по той единственной причине, что у шофера не хватает шариков в голове.
В конце концов Гамаль образумился и прекратил свои выходки.
Но однажды… Однажды я сам устроил гонки. Да еще с самолетом!
Стояли мы тогда в оазисе Каттара, расположенном в двухстах километрах к юго-западу от Александрии.
Знаете ли вы, что такое оазис?
Оазис, ребята, это райский уголок, какие порой попадаются в жестокой и грозной пустыне. Посмотрите-ка!
И, едва Капитан произнес «посмотрите-ка», его переднее стекло, за которым лежала неподвижная темно-серая стена тумана, вдруг стало светлеть. Оно засветилось, как экран включенного телевизора.
— Что же это такое? — шепотом спросила Ика.
— Это моя память и ваше воображение, — сказал Капитан. — Это оазис Каттара.
— Ой, как красиво, — шепнул Горошек.
Да, действительно это было красиво. Под ясным, сияющим, солнечным небом — белые домики без окон со сводчатыми крышами… Высокие, стройные пальмы… Перед одним из домиков — араб в черном бурнусе, рядом — два верблюда… Вот из домика вышла девушка с кувшином на голове и легкой походкой направилась к колодцу.
А перед третьим, самым большим домиком стоял сам Капитан. Был он чистый и блестящий, скромный, но элегантный.
— Это я, — сказал Капитан. — А вот Гамаль.
Из домика вышел молодой мужчина с брезентовым мешком в руке, улыбнулся кому-то, сел за руль, и Капитан помчался.
Картины начали сменять друг друга, как на экране. Показалась пальмовая роща, лужок, поросший блеклой травой, на котором паслись верблюды. И вдруг за высоким песчаным холмом открылось серожелтое, как львиная шкура, море песка.
— Это Сахара, — сказал Капитан.
Чудесный это был вид!… Чудесный, но страшный.
Темная дорога вилась среди песчаных дюн, обнаженных и лоснившихся под солнцем. Даже небо, такое ясное, изменило свой цвет перед лицом неподвижности, безмолвия, пустоты… Оно само становилось серо-желтым, тяжелым, пустынным…
— Пустыня Сахара? — шепнул Горошек.
— Да, — подтвердил Капитан.
Образ пустыни понемногу стерся, потемнел и уплыл во мглу.
— Так вот, в тот день, — продолжал рассказывать Капитан, — мы с Гамалем должны были отвезти почту из оазиса в Александрию, а в Александрии получить вакцину и лекарства для эпидемиологической станции, находившейся в оазисе.
В обратный путь мы двинулись под вечер. И едва только мы вновь выехали и покатили среди песков, я начал тревожиться. Небо было еще совсем чистое, но с высоких дюн порой взвивались в воздух струйки песка.
Я всем кузовом почувствовал, что от волнения у меня размягчаются шины и пересыхает карбюратор. Я понял: на нас надвигается буря. Солнце меркло, дюны понемногу принимали цвет темной стали.
Гамаль вез лекарства. Ему было приказано ехать осторожно и медленно. Он не спешил. Что я мог поделать?
Когда же до оазиса оставалось километров пятьдесят, я заметил под самым солнцем на западе самолет. По его силуэту и по звуку мотора я распознал тип машины, которую в то время использовали чаще всего для медицинской службы. Вроде летающей «скорой помощи»…
Мы как раз въехали на самый тяжелый участок пути. Гамаль вел меня медленно, беспокоясь о сохранности вакцины. И вдруг в голосе мотора самолета я совершенно ясно услышал то, что вы называете призывом о помощи.
Ветер поднимал уже целые потоки песка, захлестывавшие нас, как волны. Солнце скрылось за стеной песчаного дождя.
Что мне было делать? Я понимал, что самолет вскоре вынужден будет совершить посадку. Через пять, самое большее через десять минут. Понимал и то, что при такой посадке авария неминуема. Значит, нам надо находиться как можно ближе к месту посадки, чтобы Гамаль мог помочь людям, предупредить, если сумеет, пожар в самолете.
А Гамаль все еще не замечал самолета!
Я колебался только мгновение. И помчался вдогонку за самолетом, что было сил в моторе. Как сказали бы люди: на свой страх и риск.
Шоссе было разбито танками. Я подпрыгивал и трясся как сумасшедший. Ящики с лекарствами подозрительно трещали. Разъяренный Гамаль нажал на тормоз — бесполезно! Несмотря на боль в амортизаторах, на безумную тряску, несмотря на то, что песок уже забирался мне под радиатор, я гнал за самолетом, который — это было уже очевидно — начал падать.
К счастью, тут и Гамаль заметил самолет. И понял меня. Перестал тормозить и выжал газ до предела. Гнал, одной рукой придерживая драгоценную вакцину, лежавшую рядом с ним на сиденье.
И вдруг я почувствовал острую боль. Лопнула рессора. Камень был причиной или выбоина? Не знаю и никогда не узнаю. Мы мчались дальше. Самолет уже падал на землю, сильно накренившись. Под ним была песчаная дюна.
На вершину этой дюны мы выскочили в ту самую минуту, когда самолет ударился о землю возле самой дороги с такой силой, что несколько раз подпрыгнул. Правое крыло его сломалось, как спичка. Из кабины повалил дым.
Отделявшую нас от места катастрофы сотню метров я пролетел за три секунды — и всеми четырьмя колесами зарылся в песчаную насыпь.
Гамаль немедленно выскочил из машины с огнетушителем в руках. В эту самую минуту в дверях кабины самолета показался какой-то человек. Он тащил за собой другого — тот, второй, видимо, был без сознания…
Гамаль направил струю пены внутрь кабины, столб дыма на минуту исчез. Вдвоем они перенесли раненого ко мне на заднее сиденье, и мы немедленно двинулись.
И вовремя! Мы отъехали не больше двухсот метров, как сквозь рев и свист ветра прогремел глухой удар, блеснуло пламя Это взорвался бензобак смертельно раненого самолета.
Да, самолет погиб. Но люди и я уцелели!
До оазиса оставалось каких-нибудь два десятка километров. Не хочется вспоминать о том, как я тащился туда. Тащился целый час, сквозь бурю и тьму, борясь с болью, с песком, с усталостью. Временами мне чудилось, что вместо смазки и масла во мне лишь песок, что вместо бензина меня напоили водой… Да, порой мне казалось, что это последние двадцать километров в моей жизни! Но, несмотря ни на что, я упорно полз вперед. Что ж, если бы я сдался, я бы не стоил даже того, чтобы меня назвали железным ломом!… Ведь на моем заднем сиденье стонал тяжело раненый человек. Он и еще двое ждали от меня спасения. Ну — и нечего скрывать! — сам я тоже очень хотел спастись.
Люди мне помогали. Я им — они мне. Не раз и не два, когда мне уже не хватало сил и шины беспомощно вязли в песке, они подпирали меня собственными плечами.
И в конце концов плечом к плечу, помогая друг другу, мы всетаки добрались до оазиса!
Немного совестно в этом признаваться, но, когда мы подъехали к первым пальмам Каттары, Гамаль поцеловал меня в баранку!
И зря он это сделал, честное слово! Я так растрогался, что остановился окончательно! Правда, мы были уже дома. Раненый пилот, врач, Гамаль и я. Все были спасены.
Гамаль получил орден, а я — отличную новую рессору.
Между нами говоря, я предпочитаю хорошую рессору самому высокому ордену! — со смехом закончил Капитан. — Да, — сказал он, — пусть меня лучше ремонтируют, чем награждают! А вы как считаете?
Ика с Горошком переглянулись.
— Мы? — неуверенно протянула Ика. — А нас еще никогда не ремонтировали и не награждали!…
Горошек энергично затряс головой.
— А зубной врач?
— Что — зубной врач?
— Тебе зубы чинили, — сказал Горошек, — или как это — лечили?
— А-а… тогда я предпочитаю, — уверенно сказала Ика, — чтобы меня награждали, а не чинили!
— Ты права, — поддержал ее Горошек.
И тут из тумана, где-то совсем рядом, прозвучал встревоженный голос:
— Горошек! Ика! Где вы?
— Мы здесь, папочка! — крикнула Ика, выскакивая из машины.
Горошек едва успел захлопнуть за собой дверцу.
Перед ними появилась фигура отца Ики.
— Что вы тут, собственно говоря, делали? — спросил он. — Может быть, путешествовали?
— Немножко, — буркнула Ика.
Отец рассмеялся:
— И куда же вы ездили? В Африку?
С отцом Ики можно было разговаривать Горошек тоже рассмеялся.
— Именно, — сказал он. А Ика:
— Мы были в оазисе…
— В оазисе Каттара, — объяснил Горошек. — Примерно в двухстах километрах на юго-запад от Александрии. Отец покачал головой.
— Каттара? Боюсь, вы ошибаетесь. В такую погоду скорее можно докатиться до катара верхних дыхательных путей!
— Нет! Каттара!
— Каттара?… — удивился отец. — А разве есть такой?
— Есть! — заявил Горошек.
Уже в лифте отец сказал Ике с деланным сочувствием:
— Бедная моя деточка! Знаешь, мама почему-то уверена, что речь идет именно о катаре. Она уже приготовила аспирин. И липовый цвет.
И весело подмигнул Горошку.
— Что делать, — сказала Ика, — если у тебя мама доктор…
— Спокойной ночи, — поклонился Горошек. — Он был уже у своей двери.
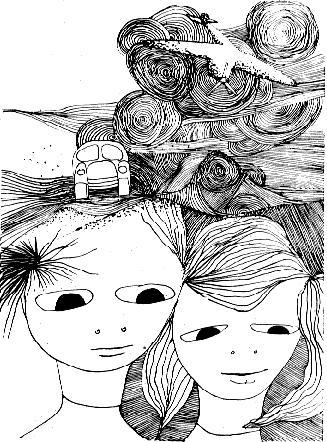
— Спокойной ночи. Завтра загляни, — сказали хором отец и Ика.
— Загляну, — еще раз поклонился Горошек. — Надо это продумать.
— Что? — спросил отец. — Аспирин?
Но на этот раз он не получил ответа, потому что Икина мама желала что-то сообщить об осенней эпидемии гриппа. А самое смешное было то, что и отцу тоже пришлось принять аспирин.
На всякий случай.
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ВТОРОЕ
ВО ВТОРНИК ТОЖЕ БЫЛ ТУМАН. В среду — небольшой дождь. В четверг диктор сообщил по радио, что «к Польше с юго-запада приближается антициклон». А мама Ики сообщила, что на субботу и воскресенье взрослые поедут в Казимеж на Висле.
А в пятницу действительно наступила чудесная погода. Может быть, даже начались бы разговоры на тему: почему это только взрослые имеют право на отдых? — если бы Горошек не напомнил Ике, что в отсутствие родителей у них будет больше времени для бесед с Капитаном.
А в пятницу действительно наступила чудесная погода. Может быть, даже начались бы разговоры на тему: почему это только взрослые имеют право на отдых? — если бы Горошек не напомнил Ике, что в отсутствие родителей у них будет больше времени для бесед с Капитаном.
