Страница:
– А кузнец? – Сидевший в углу рванул бубенчик у ворота, словно ему стало трудно дышать.
– Кузнец-то? – ощерил мелкие зубы рассказчик. – Кузнец, должно быть, в лесу остался. Он ведь, как ты, вино мое тёмное выпил, а я, как и сей раз, – в рот-то не взял.
Дёмка с волком неслись по тропинке, протоптанной ворами в обход болота. Спрямляя путь, Дёмка продирался сквозь ветви и перепрыгивал через поваленные стволы. Он спешил. Он смутно чувствовал, что нож с финифтяной рукоятью мог подтвердить зародившуюся когда-то догадку. В том, что в могильной яме он поднял собственный нож, сомневаться не приходилось. Не у каждого князя найдётся клинок, сваренный из трёх полос: по бокам железо, средняя полоса стальная. Сколько бы ни стирались железные боковины, середина всегда проступит режущим остриём. Но главной приметой, что нож принадлежал Дёмке, служили финифтяные узоры на рукояти, сплетавшиеся в заглавное «Д», начальную букву имени Дементий. Отец с сестрой изготовили нож, когда Дёмке исполнилось двенадцать лет. Жаль, недолго пришлось радоваться подарку: пропал. «В лесу ты нож обронил», – говорила Иванна. «Лупан украл, он давно зарился на редкий клинок», – был уверен сам Дёмка. Он хотел призвать Лупана к ответу, но вскоре не до того стало, да и Лупан исчез.
Подлесок начал редеть. Низкорослые берёзы уступили место рвавшимся вверх соснам. Открылся притулившийся меж двух стволов ветхий шалаш. Рядом что-то белело. Апря резко остановился, присев от напряжения на задние лапы. Шерсть на спине поднялась дыбом. Дёмка на Апрю внимания не обратил, рванулся вперёд. Но до шалаша не добежал, тоже остановился. Ноги сами собой приросли к земле. В ушах пошёл гул.
Перед входом в шалаш, запрокинувшись навзничь, лежал мужичонка в разорванной по вороту белой рубахе, в перепачканных углем лаптях. Глаза мужичонки мёртво и пусто смотрели в небо. На лице и на шее под встрёпанной бородой синели неровные пятна. Дёмке пришлось однажды видеть такие.
Медленно, чуть не ползком, приблизился волк, поднял морду, завыл. Дёмка заглянул в шалаш. Внутри было пусто, только у входа валялась оброненная золотая бляшка. Дёмка обошёл вокруг шалаша – никого. Убийца покинул место, где совершил преступление. Дёмка отсёк от старого дерева пласт коры. Он двигался, словно во сне, но голова его работала ясно. Мысли звено за звеном собирались в единую цепь. Получалось страшное. Чтобы завладеть всей добычей, один из могильных воров избавился от другого. Убит мужичонка той же рукой, что умертвила отца. В могильной яме убийца оставил украденный ранее нож. А так как нож был украден Лупаном, то из этого следовало неопровержимо, что убийцей отца был Лупан. Дёмка оторвал взгляд от коры, на которой ножом выдавливал буквы, поднял голову. Он догонит убийцу, в лесу ли тот или успел выйти из леса. Он найдёт его, если даже придётся искать всю жизнь. Если понадобится пересечь все земли, переплыть все моря, он сделает это.
– Отправляйся домой, – сказал он Апре. – Твоё дело – оберегать сестру.
Глава V. КНЯЖИЙ ЗОВ
Глава VI. БЕЛЫЙ КАМЕНЬ ИЗВЕСТНЯК
– Кузнец-то? – ощерил мелкие зубы рассказчик. – Кузнец, должно быть, в лесу остался. Он ведь, как ты, вино мое тёмное выпил, а я, как и сей раз, – в рот-то не взял.
Дёмка с волком неслись по тропинке, протоптанной ворами в обход болота. Спрямляя путь, Дёмка продирался сквозь ветви и перепрыгивал через поваленные стволы. Он спешил. Он смутно чувствовал, что нож с финифтяной рукоятью мог подтвердить зародившуюся когда-то догадку. В том, что в могильной яме он поднял собственный нож, сомневаться не приходилось. Не у каждого князя найдётся клинок, сваренный из трёх полос: по бокам железо, средняя полоса стальная. Сколько бы ни стирались железные боковины, середина всегда проступит режущим остриём. Но главной приметой, что нож принадлежал Дёмке, служили финифтяные узоры на рукояти, сплетавшиеся в заглавное «Д», начальную букву имени Дементий. Отец с сестрой изготовили нож, когда Дёмке исполнилось двенадцать лет. Жаль, недолго пришлось радоваться подарку: пропал. «В лесу ты нож обронил», – говорила Иванна. «Лупан украл, он давно зарился на редкий клинок», – был уверен сам Дёмка. Он хотел призвать Лупана к ответу, но вскоре не до того стало, да и Лупан исчез.
Подлесок начал редеть. Низкорослые берёзы уступили место рвавшимся вверх соснам. Открылся притулившийся меж двух стволов ветхий шалаш. Рядом что-то белело. Апря резко остановился, присев от напряжения на задние лапы. Шерсть на спине поднялась дыбом. Дёмка на Апрю внимания не обратил, рванулся вперёд. Но до шалаша не добежал, тоже остановился. Ноги сами собой приросли к земле. В ушах пошёл гул.
Перед входом в шалаш, запрокинувшись навзничь, лежал мужичонка в разорванной по вороту белой рубахе, в перепачканных углем лаптях. Глаза мужичонки мёртво и пусто смотрели в небо. На лице и на шее под встрёпанной бородой синели неровные пятна. Дёмке пришлось однажды видеть такие.
Медленно, чуть не ползком, приблизился волк, поднял морду, завыл. Дёмка заглянул в шалаш. Внутри было пусто, только у входа валялась оброненная золотая бляшка. Дёмка обошёл вокруг шалаша – никого. Убийца покинул место, где совершил преступление. Дёмка отсёк от старого дерева пласт коры. Он двигался, словно во сне, но голова его работала ясно. Мысли звено за звеном собирались в единую цепь. Получалось страшное. Чтобы завладеть всей добычей, один из могильных воров избавился от другого. Убит мужичонка той же рукой, что умертвила отца. В могильной яме убийца оставил украденный ранее нож. А так как нож был украден Лупаном, то из этого следовало неопровержимо, что убийцей отца был Лупан. Дёмка оторвал взгляд от коры, на которой ножом выдавливал буквы, поднял голову. Он догонит убийцу, в лесу ли тот или успел выйти из леса. Он найдёт его, если даже придётся искать всю жизнь. Если понадобится пересечь все земли, переплыть все моря, он сделает это.
– Отправляйся домой, – сказал он Апре. – Твоё дело – оберегать сестру.
Глава V. КНЯЖИЙ ЗОВ
Окружённый сыновьями и родичами Андрей Юрьевич, в синем с красной каймой корзне, накинутом поверх узорчатого кафтана и заколотом на плече полыхающим яхонтом,
[9]стоял на открытой площадке высокой угловой башни. Внизу по обе стороны расходились дубовые плахи стен, вознесённых владимирскими градниками на гребни насыпных валов. Без года полвека назад заложил Владимир Мономах город-крепость и назвал своим именем. Полвека и для людей не срок, для города – вовсе малость, однако разросся дедов Владимир. На закат поднялись строения нового княжьего подворья, с теремами и белокаменной церковью; на восход, где шустрая речка Лыбедь сворачивала к могучей своей сестре полноводной Клязьме, потянулось околоградье-посад.
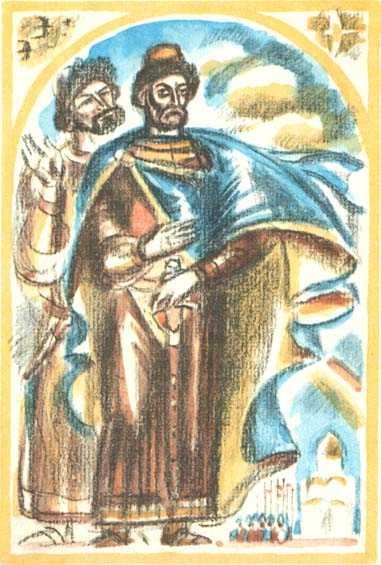 Синие тени от облаков, проплывая над избами и землянками, задевали островерхие крыши, не спеша сползали в овраг и, выбравшись, тихо скользили по золотистым коврам полей, раскатанным до самого леса. Со стороны иссиня-зелёной клязьминской поймы тянуло лесными запахами. Река уходила в тёмные глуби мохнатых лесов, уводя за собой взгляд. До боли в груди, до обжигавших горячих слёз князь любил эту землю, прикрытую бронёй горделивых молчальников-сосен, шумливых нарядных берёз, одетых в лишайник нахмуренных елей. Он знал, что стоявшие рядом чувствуют так же, как он. И словно в подтверждение, Яким Кучков негромко проговорил:
Синие тени от облаков, проплывая над избами и землянками, задевали островерхие крыши, не спеша сползали в овраг и, выбравшись, тихо скользили по золотистым коврам полей, раскатанным до самого леса. Со стороны иссиня-зелёной клязьминской поймы тянуло лесными запахами. Река уходила в тёмные глуби мохнатых лесов, уводя за собой взгляд. До боли в груди, до обжигавших горячих слёз князь любил эту землю, прикрытую бронёй горделивых молчальников-сосен, шумливых нарядных берёз, одетых в лишайник нахмуренных елей. Он знал, что стоявшие рядом чувствуют так же, как он. И словно в подтверждение, Яким Кучков негромко проговорил:
– Под Вышгородом в эту пору столбами кружит душная пыль. Степь до самого Киева ровнее скатерти расстилается. Глазу не за что уцепиться, один сизый ковыль. А здесь – холмы округлые, леса плавные, быстрые реки извилисты.
– Должно быть, птица, паря по поднебесью, линии обвела, – подхватил Пётр, заскучавший от долгого молчания.
Все разом заговорили, сравнивая Южную Русь с Залесьем. Леса для всех были родиной, степи – чужбиной, и сравнения выпадали для Киевщины обидные.
– Реки у нас серебряные, по лугам изумруды рассыпаны, поля в золотой оковке. А там, чуть лето наступит, злаки свернутся, серо кругом от высохшего бурьяна.
– Главное, суетно Киев живёт – пиры да веселье. Мизинный народ разорили поборами, недаром целыми семьями срываются с места и подаются сюда. В Залесье уйти – уберечься.
– Земли здесь много, лесов с диким зверем достаточно, воды с рыбой обильно. На Киевщине не так.
– Одно только и есть общее, – рассмеялся Пётр, тряхнув выбившимися из-под шапки кудрями. На суконном околышке зазвенели нашитые бляшки. Взмахом руки в переливчатом поруче молодой боярин обратил все взоры к неширокой подвижной Лыбеди. Серебристая река, определявшая внизу под склонами границу северных стен, была тёзкой речки под Киевом.
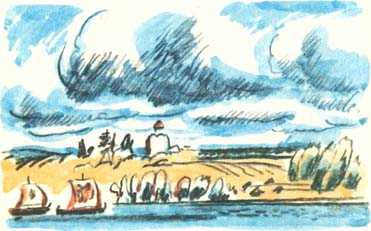
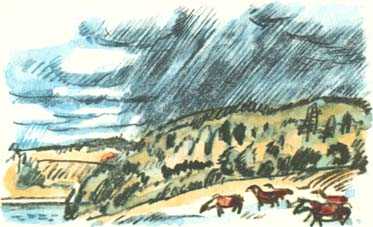 Убегая в леса от боярских поборов, от половецкого разорения, приносили люди на новые земли щепотку родной землицы и знакомые с детства, родные названия.
Убегая в леса от боярских поборов, от половецкого разорения, приносили люди на новые земли щепотку родной землицы и знакомые с детства, родные названия.
– Боярин Пётр в другой раз киевскую Лыбедь к месту упомянул. – Андрей Юрьевич развернул плечи в сторону Петра. Голову с надменно задранным подбородком князь всегда держал неподвижно, поворачивался всем корпусом. – Однако забыл боярин добавить, что Лыбедь под Киевом то ли помнит дела наши ратные, то ли на дне потопила. На быстрой воде не удержатся кровавые письмена. Иное дело – летопись из камней. Каменные строки волны не смоют, половодье не унесёт. Отныне слагаю я меч святого Бориса. Притупился в гибельных он усобьях. Залесские земли укреплять хочу не войной – миром. Видится мне стольный город разросшимся, ладно устроенным, изукрашенным златоверхими церквами. Не пламя пожарищ, не тучи стрел, а белые стены и разноцветные кровли отразит в быстрых водах новая Лыбедь. Конь силой гордится, хозяин – крепким подворьем. Стены возводить будем.
Грубое широкоскулое лицо, отталкивающее при вспышках гнева, сделалось привлекательным, едва заговорил князь о мире. В одушевившихся чертах проступили лучшие качества изменчивого характера: правдолюбие, доброжелательность, воля. Ни словом князь не обмолвился о заветном желании собрать вокруг нового стольного города русские земли, как в прежние времена сумел собрать земли Киев. Дерзкой была эта мысль.
Князя Юрия Долгоруким прозвали за то, что из дальнего Суздаля к Киеву руки тянул. Олег Святославович разжигал кровью усобицы. Его в Гореславича перекрестили. Меткими прозвищами народ наделял князей. И мечталось Андрею Юрьевичу, что ему дадут прозвище, как Ярославу Мудрому дали, по великим делам его.
Он обвёл загоревшимся взглядом своих сподвижников и повторил коротко, властно:
– Возводить стены будем.
Гусельники и гудошники, распевая песнь об удали князя Андрея, не забывали похвалить его деловые качества: «Как далече-далеко во чистом поле, ещё того подале – во раздолье князь Андрей свои полки составил ладно, позаботился о конях и оружье». Персидский посол отзывался о князе как о «мудром оплоте престола». «Сын Киевского властителя столько же храбр, сколько и умён, столько же расчётлив в своих намерениях, сколько и решителен в исполнении», – писал в своих донесениях французский посланник. Подобно деду, Владимиру Мономаху, Андрей Юрьевич держал все дела в разумном порядке. Решение принимал не сразу, приняв – не менял, заранее обдумывая, как приступить к делу. Произнесённое вслух слово о стенах означало, что многое к тому было уже подготовлено.
Князь Юрий Владимирович закладывал крепости: Переславль у Клюшина озера, Звенигород на Нерли, Москву на Москва-реке, Юрьев-Польский посреди открытого поля. Наблюдать за постройкой предоставлялось сыну. Лучше других Андрей Юрьевич знал, что убранство и прочность строений зависят от градников. Градники хоромы поставят, крепость-детинец [10]возведут, гридницу изукрасят резьбой. Но чтобы строение, как мудрая книга, мысль содержало и о великом с людьми беседовало, одними камнеделами и плотниками не обойтись. Разработать первоначальный план, определить облик здания и привести в дружественное согласие размеры отдельных частей мог только зодчий, познавший все хитрости строительного мастерства. В народе говорили – хитрец.
 Где, в какой земле неведомой, проживал хитрец, способный сложить из камня мечту о единстве и мире?
Где, в какой земле неведомой, проживал хитрец, способный сложить из камня мечту о единстве и мире?
Андрей Юрьевич кликнул клич: «Приходить во Владимир всем рукоделам, кто может срубы рубить, стены ставить, камни теслом тесать, наиважнее всего устроителям всяких зодческих планов и хитростей». Гонцы понесли княжий клич во все ближние и дальние земли, во все окрестные государства.
Призвав казначея, Андрей Юрьевич распорядился:
– Тому, кто пожелает хоромы расширить или новую избу срубить, выдавай ссуды, как при отце делалось, да не скупись, сделай милость, беднякам со скидкой давай.
– Слушаюсь, князь Андрей Юрьевич, – согласно кивнул казначей. – Невелика ныне казна, в дороге порастрясли сундуки, народ в городах одаривая, да на святое дело не жалко.
– Градники собрались, как велел?
– В Присенной горнице дожидаются.
В просторную горницу, расположенную возле сеней, Кузьмище Киянин вошёл в разгар беседы. Староста плотницкой артели, сухонький, плешивый старик с жилистыми руками, наставительно говорил:
– Крепость строить – войну беспокоить, избу рубить – мир крепить.
Сказанное Кузьме понравилось, он записал эти слова.
– В Вышгороде, где ты проживал, князь-отец наш, – продолжал степенно старик, нимало не смущаясь беседой с князем, – лет за сто до тебя замечательные своим рукодельством плотники проживали, руби-топор, Миронег и Ждан-Никола по имени.
– Знаю, старик, в летописи читал.
– Главное, за что они в летопись-то попали? За то, что на многие годы строили, руби-топор. В плотницком деле поспешка во вред. Чтобы внукам и правнукам строение передать, для этого по всем законам рубить надобно.
– Неужто до следующего года ждать? – Андрею Юрьевичу не терпелось начать работы по расширению крепостных стен.
– В конце весны, князь-отец наш, и начнём, а ещё того лучше – в начале лета. К зиме землекопы прокопают рвы, соединят верховья оврагов. Мы тем временем брёвна заготовим. Зима – время рубки, руби-топор, лето – время строить. Знаю я один боровой лес. Место сухое, высокое. Стволы подберём потолще да поровней. Волокно на срубе будет глядеться, что твоё зеркало.
На лице князя выразилось нетерпение. «Сейчас вспылит, – подумал Кузьма. – Старика плотника взашей погонит». Но князь не вспылил, и плотник как ни в чём не бывало продолжал свою неспешную речь, то и дело вставляя «руби-топор».
– На нижние венцы лиственницу подготовим, руби-топор. Лиственница и ель сырость не пропускают, крепко стоят. Изнутри сосну приспособим. А чтобы ты не гневался, князь-отец наш, на моё несогласие работы по осени начинать, потешу тебя одной тайностью. Стены мы так устроим, что, коли осада случится и враг задумает подвести подкоп, пусть хоть ночью копает, когда темно, пусть хоть бубнами заглушает работный гул, всё одно работа его тайная в крепости явной скажется. Сразу узнаешь, что враг орудует под землёй.
– Как же так, если не видно, не слышно?
– На деле покажу, князь-отец наш, пустое слово не вымолвлю, руби-топор. Да и тебе недосуг со мной, мизинным человеком, длить разговор. Боярин к тебе пожаловал.
В дверях показался Яким, выжидательно посмотрел на князя.
– С делом?
– Важнейшим.
Плотник вышел. Кузьма последовал за ним.
– Как звать тебя, мастер?
– Федотом крестили, прозвище дали Руби Топор.
– Скажи, Федот, сделай милость: велика ли твоя артель, как обязанности распределяешь?
– Сколько пальцев на руках и ногах, такова и артель. Каждый палец равно на месте и одинако дорог. А для чего ты слова мои простые на берёсту записываешь?
– Для того, что немалое место в летописании займёт рассказ о градниках, с чьей помощью рос и мужал Владимир.
В Присенной горнице разговор тем временем шёл другой.
– Дурная весть подоспела, князь-государь Андрей Юрьевич, – начал Яким, словно трудную ношу сбросил. – Варисий докуку привёз. В самый тот день, когда мы оставили Вышгород, он, напротив того, возвернулся и по нашим следам сюда поспешил.
Князь сдвинул брови. Варисий, торговый гость, был отправлен в Царьград с кожей и куньим мехом. Вобрат его ждали с тонкими сукнами, нарядными тканями и особо ценимыми князем иконами строгого византийского письма.
– Варисию надлежит находиться при лодках с товарами, а лодкам, по всем расчётам, сейчас по Дунаю идти.
– Иван Берладник расчёты спутал. Товары, в Царьград плывшие, доставлены в город Берлад.
– Опомнись, Яким, князь Иван в оковах сидит, в земляной яме. Вряд ли великий князь ослушника выпустил.
– Верно, что сидит Иван Берладник в оковах, но и то верно, что берладники – голь перекатная – его именем грабят торговых гостей и награбленное раздают такой же, как сами, голытьбе. Варисий говорит: сбились в сотни, сотских назначили. Прикажи – кликну Варисия, он в сенях сидит, дожидается.
Андрей Юрьевич не ответил, задумался.
Было время, любил он князя Ивана, как брата, сочувствовал его бедам. Старшие родичи обездолили князя, лишили удела. Всего-то и был городок Звенигород близ Галича на Днестре. Коварный и хитрый Владимирка Галицкий, объединяя земли, отнял Звенигород. Доставшийся взамен неказистый Берлад с клочком земли между реками Прутом и Сиретом ни положения не мог принести, ни казны. Зато имелась у князя Ивана Берладника казна особая: было золото – доброе сердце, серебро – вольный нрав и молодецкая удаль. Начали в Берлад стекаться мизинные люди, боярами обездоленные или детскими по миру пущенные. Иван всех привечал. В ответ берладники за своего князя готовы были жизни отдать. Вместе носились по всей Руси. Где вспыхнет усобица, там и Иван Берладник впереди своей вольной конницы. О ком думал: «С ним истина», тому и спешил на подмогу. Меч и копьё имел неустрашимые. Служил Иван Святославу Новгород-Северскому – не поладил, ушёл к Ростиславу Смоленскому – и того покинул, союзничал с Юрием Владимировичем, когда тот прозывался ещё князем Суздальским, – так же ушёл. Как норовистый конь, Иван не терпел узды. Чуть не по нём, громким посвистом созывал своих молодцев и под грохот бубнов и пение труб покидал неугодного князя. Птица перелетает с места на место – человеку пристало избрать один путь. Вот и захлопнулась клетка. Великий князь Юрий повязал Ивана Берладника, бросил в яму. Недолгое время продержал в Суздале, потом перевёз в Киев. Лишившись предводителя, берладники приутихли, не видно стало, не слышно. Теперь, значит, снова зашевелились.
– Как думаешь, Яким: откуда у берладников смелость взялась мои ладьи грабить? – спросил Андрей Юрьевич.
– Ума не приложу. Прикажи Варисия крикнуть, он в сенях сидит, твоего прощения дожидается. Из первых уст всё узнаешь.
– Не надо. Довольно того, что от тебя узнал. Торговому гостю скажи, что вины на нём не держу. В другой раз снарядим при товарах охрану. Да, сделай милость, распорядись, чтобы камнеделам и плотникам повсеместно подмогу оказывали. И как посоветуешь: не послать ли сыновей за камнем на Клязьму и Москва-реку? Пусть привыкают. Возводить города – дело княжье.

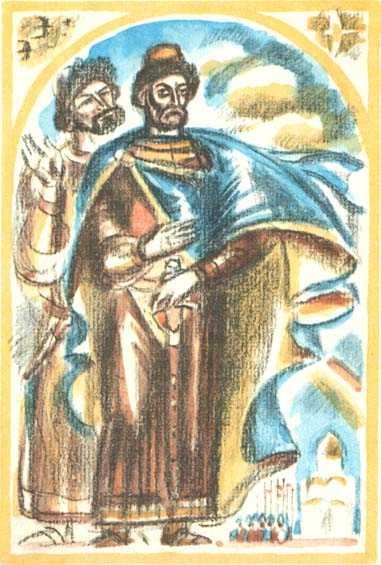
– Под Вышгородом в эту пору столбами кружит душная пыль. Степь до самого Киева ровнее скатерти расстилается. Глазу не за что уцепиться, один сизый ковыль. А здесь – холмы округлые, леса плавные, быстрые реки извилисты.
– Должно быть, птица, паря по поднебесью, линии обвела, – подхватил Пётр, заскучавший от долгого молчания.
Все разом заговорили, сравнивая Южную Русь с Залесьем. Леса для всех были родиной, степи – чужбиной, и сравнения выпадали для Киевщины обидные.
– Реки у нас серебряные, по лугам изумруды рассыпаны, поля в золотой оковке. А там, чуть лето наступит, злаки свернутся, серо кругом от высохшего бурьяна.
– Главное, суетно Киев живёт – пиры да веселье. Мизинный народ разорили поборами, недаром целыми семьями срываются с места и подаются сюда. В Залесье уйти – уберечься.
– Земли здесь много, лесов с диким зверем достаточно, воды с рыбой обильно. На Киевщине не так.
– Одно только и есть общее, – рассмеялся Пётр, тряхнув выбившимися из-под шапки кудрями. На суконном околышке зазвенели нашитые бляшки. Взмахом руки в переливчатом поруче молодой боярин обратил все взоры к неширокой подвижной Лыбеди. Серебристая река, определявшая внизу под склонами границу северных стен, была тёзкой речки под Киевом.
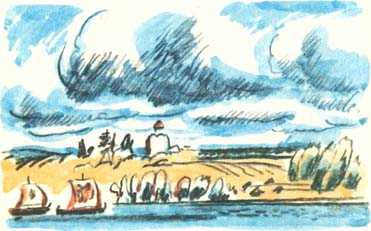
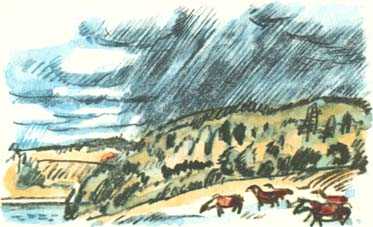
– Боярин Пётр в другой раз киевскую Лыбедь к месту упомянул. – Андрей Юрьевич развернул плечи в сторону Петра. Голову с надменно задранным подбородком князь всегда держал неподвижно, поворачивался всем корпусом. – Однако забыл боярин добавить, что Лыбедь под Киевом то ли помнит дела наши ратные, то ли на дне потопила. На быстрой воде не удержатся кровавые письмена. Иное дело – летопись из камней. Каменные строки волны не смоют, половодье не унесёт. Отныне слагаю я меч святого Бориса. Притупился в гибельных он усобьях. Залесские земли укреплять хочу не войной – миром. Видится мне стольный город разросшимся, ладно устроенным, изукрашенным златоверхими церквами. Не пламя пожарищ, не тучи стрел, а белые стены и разноцветные кровли отразит в быстрых водах новая Лыбедь. Конь силой гордится, хозяин – крепким подворьем. Стены возводить будем.
Грубое широкоскулое лицо, отталкивающее при вспышках гнева, сделалось привлекательным, едва заговорил князь о мире. В одушевившихся чертах проступили лучшие качества изменчивого характера: правдолюбие, доброжелательность, воля. Ни словом князь не обмолвился о заветном желании собрать вокруг нового стольного города русские земли, как в прежние времена сумел собрать земли Киев. Дерзкой была эта мысль.
Князя Юрия Долгоруким прозвали за то, что из дальнего Суздаля к Киеву руки тянул. Олег Святославович разжигал кровью усобицы. Его в Гореславича перекрестили. Меткими прозвищами народ наделял князей. И мечталось Андрею Юрьевичу, что ему дадут прозвище, как Ярославу Мудрому дали, по великим делам его.
Он обвёл загоревшимся взглядом своих сподвижников и повторил коротко, властно:
– Возводить стены будем.
Гусельники и гудошники, распевая песнь об удали князя Андрея, не забывали похвалить его деловые качества: «Как далече-далеко во чистом поле, ещё того подале – во раздолье князь Андрей свои полки составил ладно, позаботился о конях и оружье». Персидский посол отзывался о князе как о «мудром оплоте престола». «Сын Киевского властителя столько же храбр, сколько и умён, столько же расчётлив в своих намерениях, сколько и решителен в исполнении», – писал в своих донесениях французский посланник. Подобно деду, Владимиру Мономаху, Андрей Юрьевич держал все дела в разумном порядке. Решение принимал не сразу, приняв – не менял, заранее обдумывая, как приступить к делу. Произнесённое вслух слово о стенах означало, что многое к тому было уже подготовлено.
Князь Юрий Владимирович закладывал крепости: Переславль у Клюшина озера, Звенигород на Нерли, Москву на Москва-реке, Юрьев-Польский посреди открытого поля. Наблюдать за постройкой предоставлялось сыну. Лучше других Андрей Юрьевич знал, что убранство и прочность строений зависят от градников. Градники хоромы поставят, крепость-детинец [10]возведут, гридницу изукрасят резьбой. Но чтобы строение, как мудрая книга, мысль содержало и о великом с людьми беседовало, одними камнеделами и плотниками не обойтись. Разработать первоначальный план, определить облик здания и привести в дружественное согласие размеры отдельных частей мог только зодчий, познавший все хитрости строительного мастерства. В народе говорили – хитрец.

Андрей Юрьевич кликнул клич: «Приходить во Владимир всем рукоделам, кто может срубы рубить, стены ставить, камни теслом тесать, наиважнее всего устроителям всяких зодческих планов и хитростей». Гонцы понесли княжий клич во все ближние и дальние земли, во все окрестные государства.
Призвав казначея, Андрей Юрьевич распорядился:
– Тому, кто пожелает хоромы расширить или новую избу срубить, выдавай ссуды, как при отце делалось, да не скупись, сделай милость, беднякам со скидкой давай.
– Слушаюсь, князь Андрей Юрьевич, – согласно кивнул казначей. – Невелика ныне казна, в дороге порастрясли сундуки, народ в городах одаривая, да на святое дело не жалко.
– Градники собрались, как велел?
– В Присенной горнице дожидаются.
В просторную горницу, расположенную возле сеней, Кузьмище Киянин вошёл в разгар беседы. Староста плотницкой артели, сухонький, плешивый старик с жилистыми руками, наставительно говорил:
– Крепость строить – войну беспокоить, избу рубить – мир крепить.
Сказанное Кузьме понравилось, он записал эти слова.
– В Вышгороде, где ты проживал, князь-отец наш, – продолжал степенно старик, нимало не смущаясь беседой с князем, – лет за сто до тебя замечательные своим рукодельством плотники проживали, руби-топор, Миронег и Ждан-Никола по имени.
– Знаю, старик, в летописи читал.
– Главное, за что они в летопись-то попали? За то, что на многие годы строили, руби-топор. В плотницком деле поспешка во вред. Чтобы внукам и правнукам строение передать, для этого по всем законам рубить надобно.
– Неужто до следующего года ждать? – Андрею Юрьевичу не терпелось начать работы по расширению крепостных стен.
– В конце весны, князь-отец наш, и начнём, а ещё того лучше – в начале лета. К зиме землекопы прокопают рвы, соединят верховья оврагов. Мы тем временем брёвна заготовим. Зима – время рубки, руби-топор, лето – время строить. Знаю я один боровой лес. Место сухое, высокое. Стволы подберём потолще да поровней. Волокно на срубе будет глядеться, что твоё зеркало.
На лице князя выразилось нетерпение. «Сейчас вспылит, – подумал Кузьма. – Старика плотника взашей погонит». Но князь не вспылил, и плотник как ни в чём не бывало продолжал свою неспешную речь, то и дело вставляя «руби-топор».
– На нижние венцы лиственницу подготовим, руби-топор. Лиственница и ель сырость не пропускают, крепко стоят. Изнутри сосну приспособим. А чтобы ты не гневался, князь-отец наш, на моё несогласие работы по осени начинать, потешу тебя одной тайностью. Стены мы так устроим, что, коли осада случится и враг задумает подвести подкоп, пусть хоть ночью копает, когда темно, пусть хоть бубнами заглушает работный гул, всё одно работа его тайная в крепости явной скажется. Сразу узнаешь, что враг орудует под землёй.
– Как же так, если не видно, не слышно?
– На деле покажу, князь-отец наш, пустое слово не вымолвлю, руби-топор. Да и тебе недосуг со мной, мизинным человеком, длить разговор. Боярин к тебе пожаловал.
В дверях показался Яким, выжидательно посмотрел на князя.
– С делом?
– Важнейшим.
Плотник вышел. Кузьма последовал за ним.
– Как звать тебя, мастер?
– Федотом крестили, прозвище дали Руби Топор.
– Скажи, Федот, сделай милость: велика ли твоя артель, как обязанности распределяешь?
– Сколько пальцев на руках и ногах, такова и артель. Каждый палец равно на месте и одинако дорог. А для чего ты слова мои простые на берёсту записываешь?
– Для того, что немалое место в летописании займёт рассказ о градниках, с чьей помощью рос и мужал Владимир.
В Присенной горнице разговор тем временем шёл другой.
– Дурная весть подоспела, князь-государь Андрей Юрьевич, – начал Яким, словно трудную ношу сбросил. – Варисий докуку привёз. В самый тот день, когда мы оставили Вышгород, он, напротив того, возвернулся и по нашим следам сюда поспешил.
Князь сдвинул брови. Варисий, торговый гость, был отправлен в Царьград с кожей и куньим мехом. Вобрат его ждали с тонкими сукнами, нарядными тканями и особо ценимыми князем иконами строгого византийского письма.
– Варисию надлежит находиться при лодках с товарами, а лодкам, по всем расчётам, сейчас по Дунаю идти.
– Иван Берладник расчёты спутал. Товары, в Царьград плывшие, доставлены в город Берлад.
– Опомнись, Яким, князь Иван в оковах сидит, в земляной яме. Вряд ли великий князь ослушника выпустил.
– Верно, что сидит Иван Берладник в оковах, но и то верно, что берладники – голь перекатная – его именем грабят торговых гостей и награбленное раздают такой же, как сами, голытьбе. Варисий говорит: сбились в сотни, сотских назначили. Прикажи – кликну Варисия, он в сенях сидит, дожидается.
Андрей Юрьевич не ответил, задумался.
Было время, любил он князя Ивана, как брата, сочувствовал его бедам. Старшие родичи обездолили князя, лишили удела. Всего-то и был городок Звенигород близ Галича на Днестре. Коварный и хитрый Владимирка Галицкий, объединяя земли, отнял Звенигород. Доставшийся взамен неказистый Берлад с клочком земли между реками Прутом и Сиретом ни положения не мог принести, ни казны. Зато имелась у князя Ивана Берладника казна особая: было золото – доброе сердце, серебро – вольный нрав и молодецкая удаль. Начали в Берлад стекаться мизинные люди, боярами обездоленные или детскими по миру пущенные. Иван всех привечал. В ответ берладники за своего князя готовы были жизни отдать. Вместе носились по всей Руси. Где вспыхнет усобица, там и Иван Берладник впереди своей вольной конницы. О ком думал: «С ним истина», тому и спешил на подмогу. Меч и копьё имел неустрашимые. Служил Иван Святославу Новгород-Северскому – не поладил, ушёл к Ростиславу Смоленскому – и того покинул, союзничал с Юрием Владимировичем, когда тот прозывался ещё князем Суздальским, – так же ушёл. Как норовистый конь, Иван не терпел узды. Чуть не по нём, громким посвистом созывал своих молодцев и под грохот бубнов и пение труб покидал неугодного князя. Птица перелетает с места на место – человеку пристало избрать один путь. Вот и захлопнулась клетка. Великий князь Юрий повязал Ивана Берладника, бросил в яму. Недолгое время продержал в Суздале, потом перевёз в Киев. Лишившись предводителя, берладники приутихли, не видно стало, не слышно. Теперь, значит, снова зашевелились.
– Как думаешь, Яким: откуда у берладников смелость взялась мои ладьи грабить? – спросил Андрей Юрьевич.
– Ума не приложу. Прикажи Варисия крикнуть, он в сенях сидит, твоего прощения дожидается. Из первых уст всё узнаешь.
– Не надо. Довольно того, что от тебя узнал. Торговому гостю скажи, что вины на нём не держу. В другой раз снарядим при товарах охрану. Да, сделай милость, распорядись, чтобы камнеделам и плотникам повсеместно подмогу оказывали. И как посоветуешь: не послать ли сыновей за камнем на Клязьму и Москва-реку? Пусть привыкают. Возводить города – дело княжье.

Глава VI. БЕЛЫЙ КАМЕНЬ ИЗВЕСТНЯК
След вывел Дёмку к большому плоскому камню, торчавшему среди леса наподобие скамьи. Трава и вереск вокруг полегли на самую землю. «Долго топтался», – подумал Дёмка. Он подошёл к камню, провёл рукой по мелким царапинам, едва различимым на гладкой поверхности. «Кувшины и кубки, должно быть, сминал, чтобы сподручней было в мешке нести».
Камень с царапинами указал, что направление выбрано верное. В другой раз, куда держать путь, Дёмка разведал в кузнице, черневшей с края селения. Избы расположились по обе стороны проезжей дороги. Кузница встала поодаль.
– Значит, ты сын Гордея! – Кузнец встретил Дёмку, как дорогого гостя. – Кто же о Гордее не слышал? Среди мастеров мастером был. Сам кузнечишь или мал ещё молот держать? Оставайся у меня заместо брата, а хочешь – подручного.
– От товарища я отстал, – решил соврать Дёмка. Он не мог объявить правду. – По важному делу отправились, да разминулись в лесу. Не проходил ли мимо? Собой не старый, борода клочковатая, глаза близко к носу бегают.
– Щербатый, без переднего зуба?
Дёмка поспешно кивнул головой.
– Проходил, как есть проходил. Ночевал в кузне.
– Давно?
– Две ночи минуло. Пришёл под вечер. «Пустишь на ночёвку?» – «Не выгонять же», – говорю. Проходимцем показался мне твой товарищ, не обессудь. Он глазами вокруг обшарил, приметил, что горн топится. «Дозволь, – говорит, – хозяин, горн не гасить, иззяб я. За доброту и огонь заплачу», – и сунул мне в руку пять золотых бляшек. Я тиснённый узор рассмотрел и принял, не удержался. «Пожара, – говорю, – опасаюсь». – «Не малолеток, к огню привычен». Утром прихожу – горн горячий, щербатого и след простыл и тигля одного не хватает. Зачем он ему понадобился? Или вместо горшка прихватил?
«Известно зачем, – подумал Дёмка. – Ночью золото переплавил и с тиглем унёс».
– Говорил, в какую сторону повернёт?
– Не обмолвился. Прямоезжая дорога у нас одна, на реку Москву выводит. А лучше всего оставайся. Опередил он тебя намного, вряд ли догонишь.
– Ничего, догоню.
Кузнец положил в мешок лепёшки, сало, овечий сыр.
– Возьми, в пути пригодится.
– Спасибо.
– Да прошу, сделай милость, верни своему приятелю его добро. Никогда за постой платы не брал, а тут словно бес попутал, – кузнец протянул в горсти золотые бляшки.
Достаточно было взгляда, чтобы увидеть: точно такую Дёмка поднял в лесном шалаше.
– А как не встречу? Сам говоришь – опередил он намного.
– Делай тогда что хочешь. Хочешь – в реке потопи, хочешь – невесте будущей на потеху оставь. Работа искусная.
Дёмка коснулся рукой земли, выпрямившись сказал:
– Пусть пошлёт тебе удачу бог кузнецов Сварог.
Священники запрещали упоминать старых богов. Кузнец огляделся по сторонам, но тут же рассмеялся над собственной опаской и, как равному, поклонился Дёмке большим поклоном.
– Спасибо на добром слове, будет нужда – приходи.
Утоптанная, исхоженная, иссечённая колёсами дорога тянулась через заросший кустарником лес. Чёрные ели или березняк подступали к самым обочинам. Неожиданно стволы раздвигались. Открывалось озеро с рыбачьими лодками, замершими над собственным отражением. За распаханными прогалинами появлялось селение: избы, окружённые частоколом, землянки и клети, вспучившиеся наподобие нарытых кротом холмов.
Дёмка спрашивал у жителей: «Не проходил невысокий такой, клочьями борода, щербатый?» Кто отвечал: «Много мимоходящих топчут дорогу, всех не упомнишь», кто говорил: «Проходил, своими глазами видел». – «Давно ли было? Отстал я». – «День с ночью и полдня минуло».
В большом селении, постучавшись по избам, Дёмка услышал: «Ночевал, в Берлад сманивал». – «В Берлад?» – «А сам не туда разве? Вместе, говоришь, шли». – «Вместе… туда…» – «Поспешай, коли догнать решился».
Дёмка сокращал расстояние, как только мог. Спать ложился, где заставала густая темень, вставал до света.
– В полдень пил у колодца воду, – сказала старуха в другом селении. – Солнце, глянь, ныне под землю катится, а тогда в самой небесной серёдке стояло.
«Всё, – сказал сам себе Дёмка. – Завтра догоню». Он не знал, как поступит, догнав Лупана, но сердце снова забилось часто, как тогда, у разрытой ямы, где он поднял свой нож.
За околицей показался мужик. Он шёл, опираясь на суковатую палку, и волочил набитый мешок.
– Ты что, сосед? – закричала старуха, забыв про Дёмку. – Уходил на шести ногах – на трёх возвращаешься?
– Продал коняшку, все четыре ноги как есть продал. Попался по дороге плюгавый такой, быстроглазый, цену сходную предложил. Не удержался я – продал.
– Щербатый? Золотыми бляшками расплатился? – бросился к мужику Дёмка.
– Что за расспросчик нашёлся, из боярских прихвостней? – озлел вдруг мужик и, оттолкнув Дёмку, скрылся за избами.
– Пропал ты, парень, – сказала старуха. – Конный пешему не товарищ. Теперь не догонишь, как ни спеши.
– Догоню.
«Догоню, – твердил Дёмка, отмеряя дорогу. – В Киеве ли, в Берладе – всё равно догоню».
«Догонишь-догонишь», – шептали берёзы. «Догонишь», – ухали ели. Ветер шевелил косматые лапы, летел дальше и длинно свистел: «Догонишь-догонишь-догонишь…»
Луна успела сменить обличье, из лепёшки перевернуться на серп, когда голодный и оборванный Дёмка вышел к Москва-реке.
В пойме Москва-реки и её правого притока речки Пахры добывали известняк. В уступах высоких, размытых волнами берегов расположились каменоломни, и от отцов к сыновьям повелось селениям Мячкову, Тучкову и Домодедову находиться при камне.
– Все мы тут с камнем повязаны, – сказал хозяин приземистой крепкой избы, куда толкнулся усталый Дёмка. Солнце с лучами-месяцами, вырезанное над входом, поманило войти.
– Ешь, да грейся, да сказывай, куда путь-дорогу держишь, как зовут-величают. Меня Гораздом назвали, жену – Вивеей. Дочку определили мы Дарьей быть – Дарёнка значит.
Качавшая люльку Вивея выглянула из-за печки и весело закивала головой. В люльке попискивала Дарёна.
Горазд поставил перед Дёмкой миску с дымящейся чечевичной похлёбкой, сел и приготовился слушать. Был он кряжистый и основательный, как стоявшие у стены стулья-долблёнки из цельных пней. Широкими плечами и бородой Горазд напомнил Дёмке отца.
– Дёмка, Дементий я, иду из Владимира.
– Ишь, а наши, напротив, собрались во Владимир. Дождусь, когда Дарёнка из люльки выползет, и тоже во Владимир подамся, силы в камне пытать. Князь Андрей мастеров созывает, слышал?
– Не слышал, раньше, должно быть, ушёл.
– Что же без отца-матери и налегке?
Сам не зная, как получилось, Дёмка рассказал про кузницу за посадским оврагом, и про отцову смерть, и как стала ему вместо отца и матери сестра Иванна. Одно утаил: зачем и куда путь держит. Закончил так:
– В южные земли иду, а что налегке – не успел собраться.
Горазд внимательно оглядел Дёмку, словно прикинул, чего тот стоит, вопросов больше задавать не стал.
– Приставлю-ка я тебя, Дёмка-Дементий, к камню, обучу, чему сам от отца своего научился.
– За доброту спасибо, только мне поспешать надо.
– Лето на осень поворотило, недолго до холодов. Наживёшь сапоги, тулуп, съестные припасы – тогда поспешай.
Горазд хитрил. Большеротый мальчонка с открытым взглядом и упрямым изломом бровей пришёлся ему по сердцу. И еду, и одежду, чтобы сменить подбитую ветром рубаху и запросившие каши порванные сапоги, – всё бы он Дёмке дал. Запасная одёжка лежала в подклети. В погребах-бочках, врытых в землю и заваленных камнями от крыс, хранились сало и сыр. Оставлял он Дёмку из-за другого: не след недоростка-мальчонку отпускать в одиночку в дальнее странствие. Пропадёт на дорогах один.
– Слышал про Москву? Мы у нее под боком. Мал город, да дорог, ключом всем дорогам приходится, в серёдке стоит. Хоть из Смоленска в Рязань идти, хоть из Владимира на Чернигов и Киев подайся – Москву не минуешь. Потянется на юг торговый обоз – с попутчиками тебя и отправлю, против воли не задержу.
– Сказывают, непокорный боярин Кучка там жил, да великий князь Юрий обезглавил его за дерзость. У нас Москву Кучковом называют. – Дёмка задумался, помолчал, через малое время добавил: – Правда твоя, без сапог мне не дойти.
Камень с царапинами указал, что направление выбрано верное. В другой раз, куда держать путь, Дёмка разведал в кузнице, черневшей с края селения. Избы расположились по обе стороны проезжей дороги. Кузница встала поодаль.
– Значит, ты сын Гордея! – Кузнец встретил Дёмку, как дорогого гостя. – Кто же о Гордее не слышал? Среди мастеров мастером был. Сам кузнечишь или мал ещё молот держать? Оставайся у меня заместо брата, а хочешь – подручного.
– От товарища я отстал, – решил соврать Дёмка. Он не мог объявить правду. – По важному делу отправились, да разминулись в лесу. Не проходил ли мимо? Собой не старый, борода клочковатая, глаза близко к носу бегают.
– Щербатый, без переднего зуба?
Дёмка поспешно кивнул головой.
– Проходил, как есть проходил. Ночевал в кузне.
– Давно?
– Две ночи минуло. Пришёл под вечер. «Пустишь на ночёвку?» – «Не выгонять же», – говорю. Проходимцем показался мне твой товарищ, не обессудь. Он глазами вокруг обшарил, приметил, что горн топится. «Дозволь, – говорит, – хозяин, горн не гасить, иззяб я. За доброту и огонь заплачу», – и сунул мне в руку пять золотых бляшек. Я тиснённый узор рассмотрел и принял, не удержался. «Пожара, – говорю, – опасаюсь». – «Не малолеток, к огню привычен». Утром прихожу – горн горячий, щербатого и след простыл и тигля одного не хватает. Зачем он ему понадобился? Или вместо горшка прихватил?
«Известно зачем, – подумал Дёмка. – Ночью золото переплавил и с тиглем унёс».
– Говорил, в какую сторону повернёт?
– Не обмолвился. Прямоезжая дорога у нас одна, на реку Москву выводит. А лучше всего оставайся. Опередил он тебя намного, вряд ли догонишь.
– Ничего, догоню.
Кузнец положил в мешок лепёшки, сало, овечий сыр.
– Возьми, в пути пригодится.
– Спасибо.
– Да прошу, сделай милость, верни своему приятелю его добро. Никогда за постой платы не брал, а тут словно бес попутал, – кузнец протянул в горсти золотые бляшки.
Достаточно было взгляда, чтобы увидеть: точно такую Дёмка поднял в лесном шалаше.
– А как не встречу? Сам говоришь – опередил он намного.
– Делай тогда что хочешь. Хочешь – в реке потопи, хочешь – невесте будущей на потеху оставь. Работа искусная.
Дёмка коснулся рукой земли, выпрямившись сказал:
– Пусть пошлёт тебе удачу бог кузнецов Сварог.
Священники запрещали упоминать старых богов. Кузнец огляделся по сторонам, но тут же рассмеялся над собственной опаской и, как равному, поклонился Дёмке большим поклоном.
– Спасибо на добром слове, будет нужда – приходи.
Утоптанная, исхоженная, иссечённая колёсами дорога тянулась через заросший кустарником лес. Чёрные ели или березняк подступали к самым обочинам. Неожиданно стволы раздвигались. Открывалось озеро с рыбачьими лодками, замершими над собственным отражением. За распаханными прогалинами появлялось селение: избы, окружённые частоколом, землянки и клети, вспучившиеся наподобие нарытых кротом холмов.
Дёмка спрашивал у жителей: «Не проходил невысокий такой, клочьями борода, щербатый?» Кто отвечал: «Много мимоходящих топчут дорогу, всех не упомнишь», кто говорил: «Проходил, своими глазами видел». – «Давно ли было? Отстал я». – «День с ночью и полдня минуло».
В большом селении, постучавшись по избам, Дёмка услышал: «Ночевал, в Берлад сманивал». – «В Берлад?» – «А сам не туда разве? Вместе, говоришь, шли». – «Вместе… туда…» – «Поспешай, коли догнать решился».
Дёмка сокращал расстояние, как только мог. Спать ложился, где заставала густая темень, вставал до света.
– В полдень пил у колодца воду, – сказала старуха в другом селении. – Солнце, глянь, ныне под землю катится, а тогда в самой небесной серёдке стояло.
«Всё, – сказал сам себе Дёмка. – Завтра догоню». Он не знал, как поступит, догнав Лупана, но сердце снова забилось часто, как тогда, у разрытой ямы, где он поднял свой нож.
За околицей показался мужик. Он шёл, опираясь на суковатую палку, и волочил набитый мешок.
– Ты что, сосед? – закричала старуха, забыв про Дёмку. – Уходил на шести ногах – на трёх возвращаешься?
– Продал коняшку, все четыре ноги как есть продал. Попался по дороге плюгавый такой, быстроглазый, цену сходную предложил. Не удержался я – продал.
– Щербатый? Золотыми бляшками расплатился? – бросился к мужику Дёмка.
– Что за расспросчик нашёлся, из боярских прихвостней? – озлел вдруг мужик и, оттолкнув Дёмку, скрылся за избами.
– Пропал ты, парень, – сказала старуха. – Конный пешему не товарищ. Теперь не догонишь, как ни спеши.
– Догоню.
«Догоню, – твердил Дёмка, отмеряя дорогу. – В Киеве ли, в Берладе – всё равно догоню».
«Догонишь-догонишь», – шептали берёзы. «Догонишь», – ухали ели. Ветер шевелил косматые лапы, летел дальше и длинно свистел: «Догонишь-догонишь-догонишь…»
Луна успела сменить обличье, из лепёшки перевернуться на серп, когда голодный и оборванный Дёмка вышел к Москва-реке.
В пойме Москва-реки и её правого притока речки Пахры добывали известняк. В уступах высоких, размытых волнами берегов расположились каменоломни, и от отцов к сыновьям повелось селениям Мячкову, Тучкову и Домодедову находиться при камне.
– Все мы тут с камнем повязаны, – сказал хозяин приземистой крепкой избы, куда толкнулся усталый Дёмка. Солнце с лучами-месяцами, вырезанное над входом, поманило войти.
– Ешь, да грейся, да сказывай, куда путь-дорогу держишь, как зовут-величают. Меня Гораздом назвали, жену – Вивеей. Дочку определили мы Дарьей быть – Дарёнка значит.
Качавшая люльку Вивея выглянула из-за печки и весело закивала головой. В люльке попискивала Дарёна.
Горазд поставил перед Дёмкой миску с дымящейся чечевичной похлёбкой, сел и приготовился слушать. Был он кряжистый и основательный, как стоявшие у стены стулья-долблёнки из цельных пней. Широкими плечами и бородой Горазд напомнил Дёмке отца.
– Дёмка, Дементий я, иду из Владимира.
– Ишь, а наши, напротив, собрались во Владимир. Дождусь, когда Дарёнка из люльки выползет, и тоже во Владимир подамся, силы в камне пытать. Князь Андрей мастеров созывает, слышал?
– Не слышал, раньше, должно быть, ушёл.
– Что же без отца-матери и налегке?
Сам не зная, как получилось, Дёмка рассказал про кузницу за посадским оврагом, и про отцову смерть, и как стала ему вместо отца и матери сестра Иванна. Одно утаил: зачем и куда путь держит. Закончил так:
– В южные земли иду, а что налегке – не успел собраться.
Горазд внимательно оглядел Дёмку, словно прикинул, чего тот стоит, вопросов больше задавать не стал.
– Приставлю-ка я тебя, Дёмка-Дементий, к камню, обучу, чему сам от отца своего научился.
– За доброту спасибо, только мне поспешать надо.
– Лето на осень поворотило, недолго до холодов. Наживёшь сапоги, тулуп, съестные припасы – тогда поспешай.
Горазд хитрил. Большеротый мальчонка с открытым взглядом и упрямым изломом бровей пришёлся ему по сердцу. И еду, и одежду, чтобы сменить подбитую ветром рубаху и запросившие каши порванные сапоги, – всё бы он Дёмке дал. Запасная одёжка лежала в подклети. В погребах-бочках, врытых в землю и заваленных камнями от крыс, хранились сало и сыр. Оставлял он Дёмку из-за другого: не след недоростка-мальчонку отпускать в одиночку в дальнее странствие. Пропадёт на дорогах один.
– Слышал про Москву? Мы у нее под боком. Мал город, да дорог, ключом всем дорогам приходится, в серёдке стоит. Хоть из Смоленска в Рязань идти, хоть из Владимира на Чернигов и Киев подайся – Москву не минуешь. Потянется на юг торговый обоз – с попутчиками тебя и отправлю, против воли не задержу.
– Сказывают, непокорный боярин Кучка там жил, да великий князь Юрий обезглавил его за дерзость. У нас Москву Кучковом называют. – Дёмка задумался, помолчал, через малое время добавил: – Правда твоя, без сапог мне не дойти.
