Страница:
«Наверное, слабый огонь, — подумал я, — подложу-ка еще поленьев. А если хлебы с боков подгорят, соскребу горелое и съем хоть то, что останется». Побежал я за щепоткой соли, а когда через минуту вернулся, хлебцы мои уже огнем горели. Я выгреб палкой лишь несколько почерневших углей.
Штефа вдруг рассмеялся.
— Сейчас это кажется смешным. А тогда? Я сидел голодный у костра, а по щекам у меня слезы текли градом.
«Очень тебе это было нужно? — мучили меня разные мысли. — Разве поверят, если об этом написать домой? Сейчас, наверное, в Лужицах воскресенье — о календаре в этой глуши я и понятия не имел, — ребята одеты по-праздничному, все веселятся, девчата танцуют с парнями, глаза у них так и сияют. Вспоминает ли кто-нибудь из них о Штефе? Мучает ли мою зазнобу совесть за то, что прогнала меня за океан? Дома, наверное, думают: «Штефа там живет припеваючи, скоро обзаведется в Аргентине семьей и вернется миллионером». Эх, знали бы они…»
Штефа вдруг встал, подошел к окну, за которым уже было совсем темно, и запрокинул голову, глядя на звезды.
«За можем ми руже квитла…» — неожиданно запел он. В его голосе звучала боль и тоска.
— Поют у нас еще эту песенку? — спросил он, медленно оборачиваясь. — Сколько раз я пел ее, когда оставался в этой глуши совершенно один, и всегда мне вспоминался лужицкий вокзал с ребятами, оркестр и топот танцующих на платформе. Боже, боже, увижу ли я это еще хоть раз на старости лет?
Тягостные воспоминания снова вернули Штефу в окружавшую Аньятужью пампу, заросшую тернистым виналом и колючками.
— Известное дело, гринго за все платит втридорога, — сказал он минуту спустя. — Я пришел к каменщикам, среди них было много итальянцев. Они мне сказали, что я буду исполнять обязанности medio oficial. Я в то время знал из кастижьё едва десять слов и поэтому подумал: «Меня здесь уважают за то, что я тоже из Европы, буду, наверное, работать где-нибудь в канцелярии, у какого-либо чиновника, официала». Но я просчитался. Официалом у этих испанцев называется помощник, поденщик. А мне предстояло быть даже не поденщиком, а чем-то средним между начинающим рабочим и подмастерьем. Я был у них подносчиком. Однако я утешал себя тем, что так вечно продолжаться не будет, и старался изо всех сил.
Наступило рождество. И снова на меня напала хандра. Знаете, кто сам не пережил хотя бы одного такого рождества, тот не может себе этого представить. В тот вечер я сидел один на ржавой жестянке у огня и предавался воспоминаниям. Было еще очень душно, пот ручьями катился по моим щекам, и я плакал, как ребенок. Дома в это время зажигают свечки, поют коляды, радуются подаркам. Потом пойдут ко всенощной, снег заскрипит под сапогами, над головой будут сверкать большие наши звезды. С кем-то в этот раз пойдет ко всенощной моя любовь? Неужели она меня уже позабыла? Как-то раз мне стало совсем невмоготу от моего одиночества. Я подумал: «Дальше так жить нельзя. Надо что-то придумать, хотя бы в канун рождества». «Ты, — говорю сам себе вслух, — пойдешь к соседям, это всего два километра; немного попоешь с ними, и сразу станет легче». Схватил я скрипку и побежал, продираясь сквозь колючие кусты и деревья, чтобы как можно скорей добраться к людям. Снова мне представились елки с зажженными свечами, и вдруг ни с того ни с сего я запел: «Несем вам новины, послоухейте…» В это время откуда-то из темноты с бешеным лаем выскочила собака и вцепилась мне в штанину. Я замолк и остановился. «Ну вот, даже и коляду в этой дикой глуши спеть нельзя».
Вечер был испорчен. Вы думаете, что эти бедняги имеют хоть малейшее представление о колядах? Они смотрели на меня, как на привидение. Я пытался им рассказать, что у нас на севере, в другом полушарии, сейчас рождество, что там поют, собравшись у елки, и по колено бродят в глубоком белом снегу. Но все было бесполезно. Откуда им знать о зеленой елочке, когда они всю жизнь ничего другого не видят, кроме колючек? Или о снеге? В этакой жаре! Примерно через час я попрощался и ушел. Может, тоска, а может, и еще что-нибудь, только заблудился я и все время кружил среди этих колючек. Лишь к утру добрался до своей лачуги. Так я встретил здесь первое свое рождество.
Лица Штефы давно уже не было видно. Но, судя по тому, как он сделал несколько глотков подряд, было ясно, что при воспоминании об этом слезы выступили у «его на глазах, хотя прошло уже столько лет. Помолчав немного, он незаметно вытер глаза и продолжал хриплым голосом:
— Навалились и другие заботы. Из дому я привез с собою две или три рубашки. Рукава довольно скоро продрались на локтях, чинить их было нечем, и тогда я оборвал рукава по самые локти. Через некоторое время обрывки превратились в лохмотья, и я укоротил их до самых плеч. Больше обрывать было уже нечего. А когда рубахи стали расползаться на спине, мне стало ясно, что им пришел конец. С виду я походил на огородное пугало.
Вы представляете себе, каково человеку в такой глуши, если у него нет ножниц? Первые два-три месяца я еще кое-как ухитрялся обходиться без них. Ногти обрезал ножом, но вот с волосами дело было куда хуже. Я был похож на попа. Через полгода волосы у меня отросли до шеи. «Дальше так не пойдет, Штефа», — сказал я себе однажды и стал обрезать волосы ножом. Терпеть не было никаких сил, настолько тупой был нож. Тогда я схватил лучину и попробовал опалить космы огнем. Огонь обжигал кожу, было больно, волосы обгорали, трещали, как шкварки, и я не видел, где они длиннее, где короче. Я задыхался от невыносимой вони. В результате волосы слиплись, запутались, и я стал таким, что с меня хоть великомученика пиши. Вдруг в голову мне пришла спасительная мысль: «Для кого ты бережешь бритву? Побрей голову и по крайней мере два месяца будешь жить спокойно».
Бритва оказалась тупой, как мотыга, а ремня, чтобы направить ее, не было. Я начал брить голову со лба. «Обреешься наголо, — уговаривал я себя, — и все будет в порядке». Я выл от боли, но бросать было уже нельзя. Не станешь же ты людей смешить своим видом! Бритва снимала волосы вместе с кожей, кровь текла ручьями.
Окончив бритье, я окунул голову в лоханку с водой, чтобы хоть немножко остудить раны. Они горели черт знает как. Прошло несколько дней, прежде чем голова немножко зажила; она превратилась в сплошную болячку.
А работа моя шла чем дальше, тем хуже. Каменщики были ленивы до умопомрачения. Они думали, что я буду за них делать все. «Ларго, сюда», «Ларго, туда», «Ларго, подай», «Ларго, убери». Они называли меня «Ларго», потому что я был среди них самым длинным. Наконец у меня лопнуло терпение. «Так ты и будешь всю жизнь козлом отпущения? Нет, нет, ребята, дудки!»
В один прекрасный день я забрал весь свой заработок. Денег оказалось не так уж много, едва хватило на билет. Куда же еще ехать, как не в Чако! Сколько уже там наших, ты среди них тоже не пропадешь. По крайней мере не будешь жить, как бессловесная скотина. Собрал я свои монатки и отправился пешком на станцию. На этот раз идти было куда легче. Те же самые пять легуа теперь показались короче: ведь чемодан был наполовину пуст. В поезде я встретил нескольких русинов из Мукачева, время в дороге пролетело незаметно.
— И вот я приехал в Саэнс-Пенью. Боже мой, сколько лет прошло с тех пор! — вздохнул Штефа и промочил горло глотком вина. — О pavimento, о залитой бетоном улице никто в те времена и понятия не имел, не то что сегодня! Пока я добирался от станции до «Моравии», вымазался в грязи по колено. Остановился я под окном и раздумываю: входить или не входить? После долгого перерыва я снова слышал настоящую чешскую и словацкую речь. «Кружку пива», «Два пива», — раздается за окном. Между столами бегает трактирщик, пожилой, в очках. «И мне одну, Франта», — нетерпеливо кричит ему кто-то из-за стола. Я набрался смелости, прижал к себе покрепче волынку и скрипку, вошел, поздоровался и сел за свободный стол в углу. «И мне, пожалуйста, кружку пива, будьте добры», — сказал я почтительно хозяину, когда он, наконец, обратил на меня внимание. Он посмотрел на меня, на чужака, как-то странно и угрюмо. «Как черт», — подумал я и сижу себе помалкиваю. Парни шлепают картами по столу и орут, как дьяволы. «Я тебе покажу! — зло усмехнулся какой-то толстяк за противоположным столом, с довольным видом сгребая карты. — Не беда, если у тебя вырвут клок, ты все-таки по двенадцать центнеров с гектара собрал! Плати, приятель, деньги с собой в могилу все равно не заберешь!»
Я только успевал оглядываться по сторонам. Отвык я от людей там, в глуши, а здесь мне вдруг показалось, что сижу не то в Годонине, не то в Бржецлави. Я боялся лишь одного — найду ли здесь работу. Я осмелел и подошел к столу. «Извините, пожалуйста, что помешал. Я — Пршиказский, Штефа Пршиказский из Лужиц. Не найдется ли у вас для меня работы?» Парни даже внимания на меня не обратили и продолжали лупить картами об стол. Я стою как столб, в лице ни кровинки. Постоял так да и побрел обратно к своему пиву, раздумывая: «Вот видишь, хоть ты и среди своих, а все равно никто на тебя не обращает внимания. Может быть, волосы тому причиной», — думал я и ерошил отрастающие среди струпьев волосы. Потом вдруг подсаживается ко мне здоровенный детина, на голову выше меня, и говорит: «Ты что здесь сидишь над пустой кружкой, как великомученик? Франта, подай-ка сюда пару пива!».
Я поведал ему, откуда прибыл, и сказал, что с удовольствием бы занялся чем-нибудь.
«Не бойся, без работы не останешься, — дружелюбно засмеялся он. — Здесь всегда найдется, что делать. Даже сможешь выбирать». Он вдруг посмотрел в сторону дверей, где стояли прислоненные к стене моя волынка и скрипка, и спрашивает: «Ты это приволок с собой? Подави-ка своего козла, [30]хоть повеселей здесь станет!»
Сердце мое от радости забилось. Наконец-то я могу сыграть тем, кто сумеет оценить, что может рассказать волынка. Побежал я к дверям, сунул мехи под мышку и начал: «Ай, чо е то за дедина недалеко Годонина…» А сам думаю: «Может быть, им это понравится», — и опасливо оглядываюсь по сторонам: «Наверное, давно уже здесь такого не слышали…»
«Перестань мычать! — рявкает кто-то у пивной стойки. — Блеет здесь, как козел, и думает, что кому-то это нравится. Перестань, говорю тебе, а то запущу кружкой».
Если бы он стукнул меня кружкой, больней бы не сделал «Какие-то странные здесь, в этом Чако, люди», — подумал я и положил волынку на стул. Верите ли, с тех пор я к ней здесь, в Аргентине, больше не прикоснулся, а с того времени вот уже почти двадцать лет прошло! Так больно меня это задело. Но работу я нашел легко. Было как раз время уборки, лишних сборщиков хлопка не находилось, и я, таким образом, до конца сезона неплохо заработал. Когда у меня набралось около восьмисот песо, я решил попробовать заняться разведением хлопка. Нас, безземельных, оказалось немного. Собрались мы и решили, что отправимся куда-нибудь на север, где земля пока что никому не принадлежит, и обоснуемся там. Знаете, как в свое время закладывали такие поселения? Найдешь себе участок земли, — окружишь его бороздой, потом направляешься к местным властям с заявлением: то-то и то-то принадлежит мне. Платишь кое-какие налоги и после этого можешь корчевать пни и выжигать лес. Только это было очень давно.
Когда пришли мы, эти дела уже делались не так-то просто. Власти понимали, что такое хлопок, но, поскольку господам самим не хотелось валить лес и ходить за плугом, они сообразили, что из новичков вроде нас можно будет без труда выжать несколько лишних песо. Мы взяли в кредит плуги, погрузили их на качапе — это такая громоздкая телега на высоких колесах — и поехали на север. Наконец нашли чудесный уголок, где лес был не слишком густ, а почва, казалось, самой природой предназначена для хлопка и батата. Засучили мы рукава и рано поутру, еще до рассвета, принялись за дело. Двое других выбрали себе места южнее меня. Стою я над этой землей, а сердце мое так и колотится от радости! Наконец-то буду я на собственной земле! Теперь я уже не должен с утра до вечера быть на побегушках у других. От радости я запел и принялся за работу. «Сто гектаров себе, сто родителям и сто моему патрону, который пообещал мне порядочную сумму, если я найду хорошее место». Я не знал, за что сперва браться. Вон прекрасный участок. У самого леса, наверняка там и вода есть. Возьму-ка и его! И часть озера! И вон ту вырубку! Не пропадать же такому прекрасному ринкону! Когда мы кончили объезд, было уже темно. Мы едва стояли на ногах. Потом два дня пришлось обносить участки проволокой.
Покончив с этим, я стал копать колодец. Когда выкопал уже метра на два, вдруг откуда ни возьмись надо мной появился жандарм. «Фуера», — говорит. А я и понятия не имел, что такое «фуера». Я улыбнулся ему: «Буэнос диас, приятель, как дела?» — «Фуера!» — заорал он и направил на меня пистолет. Тут уж я сообразил, что это не приветствие. Позвал я остальных, и тут мы узнали, что земля уже кому-то принадлежит и что нам нужно немедленно сматываться. Как позже выяснилось, это был трюк. Хотели на нас подзаработать. Мы заплатили, и все уладилось.
Я работал как вол, чтобы выжать из земли побольше. Дело подвигалось медленно, скажу я вам. Много ли наработаешь двумя руками, когда все приходится делать самому! Но из дому мне написали. «Раз в Аргентине столько земли, мы продадим здесь свой участок и приедем к тебе». Я обрадовался, подумал: «Тысяч семь песо они за свое добро там получат. А главное, прибавится рук, и я не буду так одинок». Взял я в кредит плуг, борону, сулку, пару лошадей, мулов, кур и всякую мелочь, без которой поначалу в хозяйстве не обойтись. Увидев письмо, где говорилось, что старики привезут семь тысяч, мне охотно дали все это в долг. «Только не очень спешите, ведь светопреставление еще не завтра». — «Еще бы, — говорю, — если бы это случилось завтра, вы бы лишились своих безбожных процентов, не так ли? Чем позже я вам заплачу, тем для вас лучше, а?» Впрочем, другого выбора у меня не было.
Вдруг мать написала, что отцу не хочется уезжать из Лужиц. «Зачем, — говорит, — на старости лет начинать все сначала в какой-то глуши». У него всего хватает, даже словацкого винца он может выпить сколько хочет и когда захочет. Наконец отец все же решился. Продали на родине все: поле, домик, виноградник. Это было в тридцать втором году. В Европе тогда было плохо, за землю платили мало. Вместо семи тысяч они получили две с половиной. Когда отец приехал в Аргентину, в кармане у него было двадцать восемь песо! Дело было плохо. Вдобавок ко всему в тот год гусеницы сожрали почти весь урожай. А на следующий год на хлопчатник напала саранча. Мы сгоняли ее с поля всеми средствами, вплоть до того, что гоняли по нему лошадей, но ничего не помогло. Едва одна стая саранчи поднималась, как на ее место садилась другая. Долги росли, а надежды на то, что я скоро рассчитаюсь с ними, не было; тем более, что из дому уже никто ничего не мог нам прислать. Отец был страшно зол на меня. «Написал бы прямо: здесь, мол, такая глухомань, что уж коли застрянешь, так ни за что на свете не выберешься». Кроме того, он стал посылать панические письма матери, которая с двумя сестрами должна была приехать вслед за ним.
«Дорогая женушка, — писал он. — Не приезжай сюда, а лучше вышли мне те деньги, что отложены у тебя на дорогу, чтобы я мог вернуться. Здешний ад не про добрых людей. Тут комар куснет в шею, а жало его из-под кадыка наружу вылезет. Только что мимо меня проползла змея длиною в семь метров. Я так кричал, что прибежали пеоны из соседнего корраля и закололи ее вилами. Если бы ты знала, какая в этих местах жара. Просто сил нет! Ночью я сплю в корыте с водой, чтобы не зажариться в постели. Что ты станешь тут делать со своими пуховыми перинами? Или вот еще пример: когда курица тут сидит на яйцах, то они успевают испечься под нею. Вот какая у нас тут жизнь! Ради бога, даже и не думай приезжать сюда, в эту преисподнюю…»
Но было поздно. Мать с сестрами уже находилась в пути. Я приехал за ними на сулке в Саэнс-Пенью. Можете себе представить, сколько было слез и объятий. Потом началось
Мать вдруг вытаскивает из чемодана жестянку в обертке. Смотрю и думаю: чем это она собралась меня удивить?
«Здесь, в Аргентине, «Сидола» наверняка не достать. Я, сынок, привезла тебе «Сидол» — медные ручки на дверях чистить», — говорит мать. Меня словно ошпарили, и я не знал, что мне делать. «Говорю тебе: дверные ручки им чистят. Ну, отныне тебе об этом думать не придется, я все сама сделаю. И готовить ты тоже не будешь. Теперь у тебя начнется другая жизнь, совсем не такая, о которой ты мне писал…» — «Ладно, ладно, мама, — едва выдавил я из себя, — ручки чистить не придется, у меня в доме нет ни одной двери. Только кладовка закрывается». Но мать как будто и не слышала этого и продолжала рыться в другом чемодане.
«Ты еще не забыл эти занавески? Я приготовила их к твоей свадьбе, дорогой мой мальчик, — говорит она. — Я тебе еще их повешу на окна, чтобы дом у тебя был как картинка…» Я не хотел огорчать ее. «Спасибо, мама», — говорю, а сам с грустью думаю о той минуте, когда она переступит порог моего ранчо. Как-то переживет она все это? Сами понимаете, у меня не было времени, чтобы возиться со штукатуркой или там с побелкой. Ранчо я сложил из необожженного кирпича и глины. Хорошо еще, что крыша была покрыта гофрированным железом, так как я еще по Аньятужье знал, что может натворить в доме один ливень. А о занавесках… где уж мне было о них думать!
Не приведись вам видеть того, что творилось, когда мы, наконец, приехали домой. Ноги у матери подкосились, она рвала на себе волосы. До следующего дня я не мог ее, бедняжку, успокоить, так она рыдала.
«Ты, — причитала она, — живешь в таком загоне, и все из-за девки, которая уже давно вышла замуж, изменщица». Для меня это был удар в самое сердце. Где-то в глубине души я все еще верил, что вернусь и что мы будем вместе. А теперь?
На счастье, темнота скрывала глаза Штефы. В эту минуту они, наверное, блестели от слез, которые трудно себе представить на лице, обтянутом кожей, напоминающей кору лиственницы. Он долго-долго молчал, пока не успокоился окончательно.
— К этому времени я уже задолжал больше шестнадцати тысяч песо, — сказал он под конец. — Вместе с матерью приехали обе мои сестры. Одна нашла место в трактире «Моравия», вторая, та, что окончила гимназию, в конце концов пристроилась у одного земляка-фотографа. На следующий год урожай был неплохой. Я отдал три тысячи долга, но, сами знаете, проценты растут быстрее, чем отдается долг. Мы гнули спину, работая главным образом на чужих. И так продолжалось до самой войны. В сороковом году я посеял хлопок на ста гектарах. У нас организовался кооператив, и мы получили за хлопок все же побольше, чем платили до этого, когда были вынуждены весь урожай отвозить кредитору. В сорок шестом цены на хлопок резко поднялись, и мне удалось, наконец, расплатиться с самыми неотложными долгами. А в прошлом году мы выручили от продажи хлопка двадцать тысяч, и я выплатил остаток долга да прикупил кое-какую скотину и инвентарь. На будущий год собираюсь посеять сто пятьдесят гектаров. Есть у меня семь плугов, культиваторы и немного скота. Загляните ко мне на чакру, это недалеко. Все будут рады вспомнить родину, — сказал Штефа и зажег спичку, чтобы взглянуть на часы. — Заболтался я сегодня, не обижайтесь, пожалуйста, мне уже пора…
Он встал. Мы зажгли свет. Его костлявые, натруженные руки беспокойно мяли шапку, а глаза горели странным блеском. Было видно, что он еще чего-то не досказал, но старается сдержаться. Раза два или три он переступил с ноги на ногу, переложил шапку в правую руку и провел рукавом по спинке стула.
— А не собираетесь ли вы вернуться на родину? — попытались мы помочь ему выйти из затруднительного положения.
Словно электрический ток прошел по Штефе.
— Я как раз сейчас об этом и думал, — сказал он торопливо. — Знаете, это, конечно, несбыточная мечта. Почтид вадцать лет я живу здесь, на следующий год будет ровно двадцать. Я давно женат. У меня хорошие дети, и свою давнишнюю любовь я уже позабыл. И все же я бы с радостью собрался, продал бы все, что нажил за эти годы, и уехал. Больше всего меня волнует: не изменились ли наши словацкие обычаи? Не стыдятся ли сейчас молодые выйти в воскресенье на деревенскую площадь в национальном костюме, потанцевать, повеселиться и не прячут ли они эти замечательные костюмы в сундуках? Столько же поется песен, как и в ту пору, когда я был в деревне заводилой? Поверьте мне, я готов отдать все, что есть на чакре, чтобы сохранить эти наши обычаи. Тому, кто здорово танцует, отдал бы сапоги. Кто хорошо поет — получай красные штаны. А больше всего досталось бы тому, кто может быть заводилой…
Штефа уже сидел на козлах сулки, а глаза его все еще блестели. Он наклонился вперед, похлопал лошадь, помахал на прощанье рукой и скрылся в темноте.
«За можем ми руже квитла, я ю тргат небудем», — слышалось во тьме ночи. Постепенно слова затихли вдали. Пес повертелся у ног и выбежал за калитку. Звезды робко мерцали в бархате ночи, почти так же, как и там, далеко, на севере. Только не было среди них Полярной…
С ДИКОГО ЗАПАДА
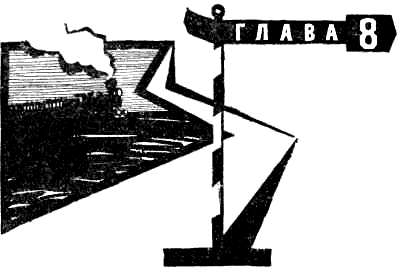
Чуку на языке индейского племени кечуа, до настоящего времени обитающего в нагорьях Боливии и Перу, означает «место для охоты». Так кечуа называли огромные земли, которые от их поднебесных гор уходят, понижаясь, куда-то далеко на восток. Испанские завоеватели назвали впоследствии исковерканным именем Чако всю обширную область, которая представляла наибольшее препятствие на их пути от устья Ла-Платы к легендарной горе Потоси, где якобы серебро текло рекой.
Испанский историк Педро Лосано говорит об «обширном крае», исследованном испанцами и названном «Чако-Гуалампа». Так как с точки зрения первых конкистадоров этот край был действительно огромным, они дали ему название «Гран-Чако». Позднейшие географы разделили это колоссальное место для охоты на три обособленные части: южное Чако — «аустрал», среднее — «сентрал» и северное — «бореал». Вся территория площадью около 700 тысяч квадратных километров раскинулась от реки Парагвай на востоке до предгорий Кордильер и от Мату-Гросу на севере до реки Рио-Саладо, которая в Санта-Фе сливается с Параной. Чако бореал, которое сравнительно недавно было ареной военных действий между Парагваем и Боливией, отделено от среднего Чако течением реки Пилькомайо, а границу между средним и южным Чако образует река Бермехо, параллельная Пилькомайо. А так как по реке Пилькомайо в настоящее время проходит государственная граница между Парагваем и Аргентиной, то две части огромного «места для охоты» оказались под властью Аргентины. Судьбу северной территории решил после окончания войны мир, подписанный 21 июля 1939 года. Большая часть спорной территории отошла к Парагваю.
Первыми европейцами, проникшими в Чако, были испанские завоеватели во главе с Себастьяном Каботом; по Паране они добрались вплоть до реки Каракаранья. Но при попытке войти в Бермехо они столкнулись с многочисленными индейскими племенами и были вынуждены отступить. С той поры, от 1527 года, Чако стало ареной непрерывных оборонительных боев индейцев и карательных экспедиций захватчиков. Последнюю такую экспедицию предпринял в 1876 году аргентинский губернатор Урибуру, направившись в селение Сан-Бернардо, которое уничтожили индейцы. Эта экспедиция долго продиралась сквозь нескончаемые леса, пока из-за огромных трудностей не была вынуждена вернуться. Но на обратном пути она наткнулась на лагеря индейских вождей Сикетроике и Нойгдике. Завязалась жаркая битва, и хотя на стороне индейцев был численный перевес, все же они были разгромлены силой современного оружия. После этой экспедиции возник целый пояс небольших оборонительных крепостей и, таким образом, была дописана последняя глава богатой событиями истории южного Чако.
Несмотря на все это, еще в начале нашего века Чако было окружено заманчивой таинственностью. Однако индейский мир «теней душ» рассеялся, поблекла и безвозвратно ушла в прошлое слава первопоселенцев. Она сквозит еще в рассказах старых чаконцев, которых остается все меньше и меньше. Эти люди познали в Чако отношения, которые ничуть не уступали нравам дикого Запада на другом конце того же молодого континента.
И вот поезд вдруг останавливается, пассажиры терпеливо ждут или присаживаются вместе с машинистом и кочегаром к ароматному асадо. Поговорят, попьют матэ и едут дальше.
Штефа вдруг рассмеялся.
— Сейчас это кажется смешным. А тогда? Я сидел голодный у костра, а по щекам у меня слезы текли градом.
«Очень тебе это было нужно? — мучили меня разные мысли. — Разве поверят, если об этом написать домой? Сейчас, наверное, в Лужицах воскресенье — о календаре в этой глуши я и понятия не имел, — ребята одеты по-праздничному, все веселятся, девчата танцуют с парнями, глаза у них так и сияют. Вспоминает ли кто-нибудь из них о Штефе? Мучает ли мою зазнобу совесть за то, что прогнала меня за океан? Дома, наверное, думают: «Штефа там живет припеваючи, скоро обзаведется в Аргентине семьей и вернется миллионером». Эх, знали бы они…»
Штефа вдруг встал, подошел к окну, за которым уже было совсем темно, и запрокинул голову, глядя на звезды.
«За можем ми руже квитла…» — неожиданно запел он. В его голосе звучала боль и тоска.
— Поют у нас еще эту песенку? — спросил он, медленно оборачиваясь. — Сколько раз я пел ее, когда оставался в этой глуши совершенно один, и всегда мне вспоминался лужицкий вокзал с ребятами, оркестр и топот танцующих на платформе. Боже, боже, увижу ли я это еще хоть раз на старости лет?
Тягостные воспоминания снова вернули Штефу в окружавшую Аньятужью пампу, заросшую тернистым виналом и колючками.
— Известное дело, гринго за все платит втридорога, — сказал он минуту спустя. — Я пришел к каменщикам, среди них было много итальянцев. Они мне сказали, что я буду исполнять обязанности medio oficial. Я в то время знал из кастижьё едва десять слов и поэтому подумал: «Меня здесь уважают за то, что я тоже из Европы, буду, наверное, работать где-нибудь в канцелярии, у какого-либо чиновника, официала». Но я просчитался. Официалом у этих испанцев называется помощник, поденщик. А мне предстояло быть даже не поденщиком, а чем-то средним между начинающим рабочим и подмастерьем. Я был у них подносчиком. Однако я утешал себя тем, что так вечно продолжаться не будет, и старался изо всех сил.
Наступило рождество. И снова на меня напала хандра. Знаете, кто сам не пережил хотя бы одного такого рождества, тот не может себе этого представить. В тот вечер я сидел один на ржавой жестянке у огня и предавался воспоминаниям. Было еще очень душно, пот ручьями катился по моим щекам, и я плакал, как ребенок. Дома в это время зажигают свечки, поют коляды, радуются подаркам. Потом пойдут ко всенощной, снег заскрипит под сапогами, над головой будут сверкать большие наши звезды. С кем-то в этот раз пойдет ко всенощной моя любовь? Неужели она меня уже позабыла? Как-то раз мне стало совсем невмоготу от моего одиночества. Я подумал: «Дальше так жить нельзя. Надо что-то придумать, хотя бы в канун рождества». «Ты, — говорю сам себе вслух, — пойдешь к соседям, это всего два километра; немного попоешь с ними, и сразу станет легче». Схватил я скрипку и побежал, продираясь сквозь колючие кусты и деревья, чтобы как можно скорей добраться к людям. Снова мне представились елки с зажженными свечами, и вдруг ни с того ни с сего я запел: «Несем вам новины, послоухейте…» В это время откуда-то из темноты с бешеным лаем выскочила собака и вцепилась мне в штанину. Я замолк и остановился. «Ну вот, даже и коляду в этой дикой глуши спеть нельзя».
Вечер был испорчен. Вы думаете, что эти бедняги имеют хоть малейшее представление о колядах? Они смотрели на меня, как на привидение. Я пытался им рассказать, что у нас на севере, в другом полушарии, сейчас рождество, что там поют, собравшись у елки, и по колено бродят в глубоком белом снегу. Но все было бесполезно. Откуда им знать о зеленой елочке, когда они всю жизнь ничего другого не видят, кроме колючек? Или о снеге? В этакой жаре! Примерно через час я попрощался и ушел. Может, тоска, а может, и еще что-нибудь, только заблудился я и все время кружил среди этих колючек. Лишь к утру добрался до своей лачуги. Так я встретил здесь первое свое рождество.
Лица Штефы давно уже не было видно. Но, судя по тому, как он сделал несколько глотков подряд, было ясно, что при воспоминании об этом слезы выступили у «его на глазах, хотя прошло уже столько лет. Помолчав немного, он незаметно вытер глаза и продолжал хриплым голосом:
— Навалились и другие заботы. Из дому я привез с собою две или три рубашки. Рукава довольно скоро продрались на локтях, чинить их было нечем, и тогда я оборвал рукава по самые локти. Через некоторое время обрывки превратились в лохмотья, и я укоротил их до самых плеч. Больше обрывать было уже нечего. А когда рубахи стали расползаться на спине, мне стало ясно, что им пришел конец. С виду я походил на огородное пугало.
Вы представляете себе, каково человеку в такой глуши, если у него нет ножниц? Первые два-три месяца я еще кое-как ухитрялся обходиться без них. Ногти обрезал ножом, но вот с волосами дело было куда хуже. Я был похож на попа. Через полгода волосы у меня отросли до шеи. «Дальше так не пойдет, Штефа», — сказал я себе однажды и стал обрезать волосы ножом. Терпеть не было никаких сил, настолько тупой был нож. Тогда я схватил лучину и попробовал опалить космы огнем. Огонь обжигал кожу, было больно, волосы обгорали, трещали, как шкварки, и я не видел, где они длиннее, где короче. Я задыхался от невыносимой вони. В результате волосы слиплись, запутались, и я стал таким, что с меня хоть великомученика пиши. Вдруг в голову мне пришла спасительная мысль: «Для кого ты бережешь бритву? Побрей голову и по крайней мере два месяца будешь жить спокойно».
Бритва оказалась тупой, как мотыга, а ремня, чтобы направить ее, не было. Я начал брить голову со лба. «Обреешься наголо, — уговаривал я себя, — и все будет в порядке». Я выл от боли, но бросать было уже нельзя. Не станешь же ты людей смешить своим видом! Бритва снимала волосы вместе с кожей, кровь текла ручьями.
Окончив бритье, я окунул голову в лоханку с водой, чтобы хоть немножко остудить раны. Они горели черт знает как. Прошло несколько дней, прежде чем голова немножко зажила; она превратилась в сплошную болячку.
А работа моя шла чем дальше, тем хуже. Каменщики были ленивы до умопомрачения. Они думали, что я буду за них делать все. «Ларго, сюда», «Ларго, туда», «Ларго, подай», «Ларго, убери». Они называли меня «Ларго», потому что я был среди них самым длинным. Наконец у меня лопнуло терпение. «Так ты и будешь всю жизнь козлом отпущения? Нет, нет, ребята, дудки!»
В один прекрасный день я забрал весь свой заработок. Денег оказалось не так уж много, едва хватило на билет. Куда же еще ехать, как не в Чако! Сколько уже там наших, ты среди них тоже не пропадешь. По крайней мере не будешь жить, как бессловесная скотина. Собрал я свои монатки и отправился пешком на станцию. На этот раз идти было куда легче. Те же самые пять легуа теперь показались короче: ведь чемодан был наполовину пуст. В поезде я встретил нескольких русинов из Мукачева, время в дороге пролетело незаметно.
— И вот я приехал в Саэнс-Пенью. Боже мой, сколько лет прошло с тех пор! — вздохнул Штефа и промочил горло глотком вина. — О pavimento, о залитой бетоном улице никто в те времена и понятия не имел, не то что сегодня! Пока я добирался от станции до «Моравии», вымазался в грязи по колено. Остановился я под окном и раздумываю: входить или не входить? После долгого перерыва я снова слышал настоящую чешскую и словацкую речь. «Кружку пива», «Два пива», — раздается за окном. Между столами бегает трактирщик, пожилой, в очках. «И мне одну, Франта», — нетерпеливо кричит ему кто-то из-за стола. Я набрался смелости, прижал к себе покрепче волынку и скрипку, вошел, поздоровался и сел за свободный стол в углу. «И мне, пожалуйста, кружку пива, будьте добры», — сказал я почтительно хозяину, когда он, наконец, обратил на меня внимание. Он посмотрел на меня, на чужака, как-то странно и угрюмо. «Как черт», — подумал я и сижу себе помалкиваю. Парни шлепают картами по столу и орут, как дьяволы. «Я тебе покажу! — зло усмехнулся какой-то толстяк за противоположным столом, с довольным видом сгребая карты. — Не беда, если у тебя вырвут клок, ты все-таки по двенадцать центнеров с гектара собрал! Плати, приятель, деньги с собой в могилу все равно не заберешь!»
Я только успевал оглядываться по сторонам. Отвык я от людей там, в глуши, а здесь мне вдруг показалось, что сижу не то в Годонине, не то в Бржецлави. Я боялся лишь одного — найду ли здесь работу. Я осмелел и подошел к столу. «Извините, пожалуйста, что помешал. Я — Пршиказский, Штефа Пршиказский из Лужиц. Не найдется ли у вас для меня работы?» Парни даже внимания на меня не обратили и продолжали лупить картами об стол. Я стою как столб, в лице ни кровинки. Постоял так да и побрел обратно к своему пиву, раздумывая: «Вот видишь, хоть ты и среди своих, а все равно никто на тебя не обращает внимания. Может быть, волосы тому причиной», — думал я и ерошил отрастающие среди струпьев волосы. Потом вдруг подсаживается ко мне здоровенный детина, на голову выше меня, и говорит: «Ты что здесь сидишь над пустой кружкой, как великомученик? Франта, подай-ка сюда пару пива!».
Я поведал ему, откуда прибыл, и сказал, что с удовольствием бы занялся чем-нибудь.
«Не бойся, без работы не останешься, — дружелюбно засмеялся он. — Здесь всегда найдется, что делать. Даже сможешь выбирать». Он вдруг посмотрел в сторону дверей, где стояли прислоненные к стене моя волынка и скрипка, и спрашивает: «Ты это приволок с собой? Подави-ка своего козла, [30]хоть повеселей здесь станет!»
Сердце мое от радости забилось. Наконец-то я могу сыграть тем, кто сумеет оценить, что может рассказать волынка. Побежал я к дверям, сунул мехи под мышку и начал: «Ай, чо е то за дедина недалеко Годонина…» А сам думаю: «Может быть, им это понравится», — и опасливо оглядываюсь по сторонам: «Наверное, давно уже здесь такого не слышали…»
«Перестань мычать! — рявкает кто-то у пивной стойки. — Блеет здесь, как козел, и думает, что кому-то это нравится. Перестань, говорю тебе, а то запущу кружкой».
Если бы он стукнул меня кружкой, больней бы не сделал «Какие-то странные здесь, в этом Чако, люди», — подумал я и положил волынку на стул. Верите ли, с тех пор я к ней здесь, в Аргентине, больше не прикоснулся, а с того времени вот уже почти двадцать лет прошло! Так больно меня это задело. Но работу я нашел легко. Было как раз время уборки, лишних сборщиков хлопка не находилось, и я, таким образом, до конца сезона неплохо заработал. Когда у меня набралось около восьмисот песо, я решил попробовать заняться разведением хлопка. Нас, безземельных, оказалось немного. Собрались мы и решили, что отправимся куда-нибудь на север, где земля пока что никому не принадлежит, и обоснуемся там. Знаете, как в свое время закладывали такие поселения? Найдешь себе участок земли, — окружишь его бороздой, потом направляешься к местным властям с заявлением: то-то и то-то принадлежит мне. Платишь кое-какие налоги и после этого можешь корчевать пни и выжигать лес. Только это было очень давно.
Когда пришли мы, эти дела уже делались не так-то просто. Власти понимали, что такое хлопок, но, поскольку господам самим не хотелось валить лес и ходить за плугом, они сообразили, что из новичков вроде нас можно будет без труда выжать несколько лишних песо. Мы взяли в кредит плуги, погрузили их на качапе — это такая громоздкая телега на высоких колесах — и поехали на север. Наконец нашли чудесный уголок, где лес был не слишком густ, а почва, казалось, самой природой предназначена для хлопка и батата. Засучили мы рукава и рано поутру, еще до рассвета, принялись за дело. Двое других выбрали себе места южнее меня. Стою я над этой землей, а сердце мое так и колотится от радости! Наконец-то буду я на собственной земле! Теперь я уже не должен с утра до вечера быть на побегушках у других. От радости я запел и принялся за работу. «Сто гектаров себе, сто родителям и сто моему патрону, который пообещал мне порядочную сумму, если я найду хорошее место». Я не знал, за что сперва браться. Вон прекрасный участок. У самого леса, наверняка там и вода есть. Возьму-ка и его! И часть озера! И вон ту вырубку! Не пропадать же такому прекрасному ринкону! Когда мы кончили объезд, было уже темно. Мы едва стояли на ногах. Потом два дня пришлось обносить участки проволокой.
Покончив с этим, я стал копать колодец. Когда выкопал уже метра на два, вдруг откуда ни возьмись надо мной появился жандарм. «Фуера», — говорит. А я и понятия не имел, что такое «фуера». Я улыбнулся ему: «Буэнос диас, приятель, как дела?» — «Фуера!» — заорал он и направил на меня пистолет. Тут уж я сообразил, что это не приветствие. Позвал я остальных, и тут мы узнали, что земля уже кому-то принадлежит и что нам нужно немедленно сматываться. Как позже выяснилось, это был трюк. Хотели на нас подзаработать. Мы заплатили, и все уладилось.
Я работал как вол, чтобы выжать из земли побольше. Дело подвигалось медленно, скажу я вам. Много ли наработаешь двумя руками, когда все приходится делать самому! Но из дому мне написали. «Раз в Аргентине столько земли, мы продадим здесь свой участок и приедем к тебе». Я обрадовался, подумал: «Тысяч семь песо они за свое добро там получат. А главное, прибавится рук, и я не буду так одинок». Взял я в кредит плуг, борону, сулку, пару лошадей, мулов, кур и всякую мелочь, без которой поначалу в хозяйстве не обойтись. Увидев письмо, где говорилось, что старики привезут семь тысяч, мне охотно дали все это в долг. «Только не очень спешите, ведь светопреставление еще не завтра». — «Еще бы, — говорю, — если бы это случилось завтра, вы бы лишились своих безбожных процентов, не так ли? Чем позже я вам заплачу, тем для вас лучше, а?» Впрочем, другого выбора у меня не было.
Вдруг мать написала, что отцу не хочется уезжать из Лужиц. «Зачем, — говорит, — на старости лет начинать все сначала в какой-то глуши». У него всего хватает, даже словацкого винца он может выпить сколько хочет и когда захочет. Наконец отец все же решился. Продали на родине все: поле, домик, виноградник. Это было в тридцать втором году. В Европе тогда было плохо, за землю платили мало. Вместо семи тысяч они получили две с половиной. Когда отец приехал в Аргентину, в кармане у него было двадцать восемь песо! Дело было плохо. Вдобавок ко всему в тот год гусеницы сожрали почти весь урожай. А на следующий год на хлопчатник напала саранча. Мы сгоняли ее с поля всеми средствами, вплоть до того, что гоняли по нему лошадей, но ничего не помогло. Едва одна стая саранчи поднималась, как на ее место садилась другая. Долги росли, а надежды на то, что я скоро рассчитаюсь с ними, не было; тем более, что из дому уже никто ничего не мог нам прислать. Отец был страшно зол на меня. «Написал бы прямо: здесь, мол, такая глухомань, что уж коли застрянешь, так ни за что на свете не выберешься». Кроме того, он стал посылать панические письма матери, которая с двумя сестрами должна была приехать вслед за ним.
«Дорогая женушка, — писал он. — Не приезжай сюда, а лучше вышли мне те деньги, что отложены у тебя на дорогу, чтобы я мог вернуться. Здешний ад не про добрых людей. Тут комар куснет в шею, а жало его из-под кадыка наружу вылезет. Только что мимо меня проползла змея длиною в семь метров. Я так кричал, что прибежали пеоны из соседнего корраля и закололи ее вилами. Если бы ты знала, какая в этих местах жара. Просто сил нет! Ночью я сплю в корыте с водой, чтобы не зажариться в постели. Что ты станешь тут делать со своими пуховыми перинами? Или вот еще пример: когда курица тут сидит на яйцах, то они успевают испечься под нею. Вот какая у нас тут жизнь! Ради бога, даже и не думай приезжать сюда, в эту преисподнюю…»
Но было поздно. Мать с сестрами уже находилась в пути. Я приехал за ними на сулке в Саэнс-Пенью. Можете себе представить, сколько было слез и объятий. Потом началось
Мать вдруг вытаскивает из чемодана жестянку в обертке. Смотрю и думаю: чем это она собралась меня удивить?
«Здесь, в Аргентине, «Сидола» наверняка не достать. Я, сынок, привезла тебе «Сидол» — медные ручки на дверях чистить», — говорит мать. Меня словно ошпарили, и я не знал, что мне делать. «Говорю тебе: дверные ручки им чистят. Ну, отныне тебе об этом думать не придется, я все сама сделаю. И готовить ты тоже не будешь. Теперь у тебя начнется другая жизнь, совсем не такая, о которой ты мне писал…» — «Ладно, ладно, мама, — едва выдавил я из себя, — ручки чистить не придется, у меня в доме нет ни одной двери. Только кладовка закрывается». Но мать как будто и не слышала этого и продолжала рыться в другом чемодане.
«Ты еще не забыл эти занавески? Я приготовила их к твоей свадьбе, дорогой мой мальчик, — говорит она. — Я тебе еще их повешу на окна, чтобы дом у тебя был как картинка…» Я не хотел огорчать ее. «Спасибо, мама», — говорю, а сам с грустью думаю о той минуте, когда она переступит порог моего ранчо. Как-то переживет она все это? Сами понимаете, у меня не было времени, чтобы возиться со штукатуркой или там с побелкой. Ранчо я сложил из необожженного кирпича и глины. Хорошо еще, что крыша была покрыта гофрированным железом, так как я еще по Аньятужье знал, что может натворить в доме один ливень. А о занавесках… где уж мне было о них думать!
Не приведись вам видеть того, что творилось, когда мы, наконец, приехали домой. Ноги у матери подкосились, она рвала на себе волосы. До следующего дня я не мог ее, бедняжку, успокоить, так она рыдала.
«Ты, — причитала она, — живешь в таком загоне, и все из-за девки, которая уже давно вышла замуж, изменщица». Для меня это был удар в самое сердце. Где-то в глубине души я все еще верил, что вернусь и что мы будем вместе. А теперь?
На счастье, темнота скрывала глаза Штефы. В эту минуту они, наверное, блестели от слез, которые трудно себе представить на лице, обтянутом кожей, напоминающей кору лиственницы. Он долго-долго молчал, пока не успокоился окончательно.
— К этому времени я уже задолжал больше шестнадцати тысяч песо, — сказал он под конец. — Вместе с матерью приехали обе мои сестры. Одна нашла место в трактире «Моравия», вторая, та, что окончила гимназию, в конце концов пристроилась у одного земляка-фотографа. На следующий год урожай был неплохой. Я отдал три тысячи долга, но, сами знаете, проценты растут быстрее, чем отдается долг. Мы гнули спину, работая главным образом на чужих. И так продолжалось до самой войны. В сороковом году я посеял хлопок на ста гектарах. У нас организовался кооператив, и мы получили за хлопок все же побольше, чем платили до этого, когда были вынуждены весь урожай отвозить кредитору. В сорок шестом цены на хлопок резко поднялись, и мне удалось, наконец, расплатиться с самыми неотложными долгами. А в прошлом году мы выручили от продажи хлопка двадцать тысяч, и я выплатил остаток долга да прикупил кое-какую скотину и инвентарь. На будущий год собираюсь посеять сто пятьдесят гектаров. Есть у меня семь плугов, культиваторы и немного скота. Загляните ко мне на чакру, это недалеко. Все будут рады вспомнить родину, — сказал Штефа и зажег спичку, чтобы взглянуть на часы. — Заболтался я сегодня, не обижайтесь, пожалуйста, мне уже пора…
Он встал. Мы зажгли свет. Его костлявые, натруженные руки беспокойно мяли шапку, а глаза горели странным блеском. Было видно, что он еще чего-то не досказал, но старается сдержаться. Раза два или три он переступил с ноги на ногу, переложил шапку в правую руку и провел рукавом по спинке стула.
— А не собираетесь ли вы вернуться на родину? — попытались мы помочь ему выйти из затруднительного положения.
Словно электрический ток прошел по Штефе.
— Я как раз сейчас об этом и думал, — сказал он торопливо. — Знаете, это, конечно, несбыточная мечта. Почтид вадцать лет я живу здесь, на следующий год будет ровно двадцать. Я давно женат. У меня хорошие дети, и свою давнишнюю любовь я уже позабыл. И все же я бы с радостью собрался, продал бы все, что нажил за эти годы, и уехал. Больше всего меня волнует: не изменились ли наши словацкие обычаи? Не стыдятся ли сейчас молодые выйти в воскресенье на деревенскую площадь в национальном костюме, потанцевать, повеселиться и не прячут ли они эти замечательные костюмы в сундуках? Столько же поется песен, как и в ту пору, когда я был в деревне заводилой? Поверьте мне, я готов отдать все, что есть на чакре, чтобы сохранить эти наши обычаи. Тому, кто здорово танцует, отдал бы сапоги. Кто хорошо поет — получай красные штаны. А больше всего досталось бы тому, кто может быть заводилой…
Штефа уже сидел на козлах сулки, а глаза его все еще блестели. Он наклонился вперед, похлопал лошадь, помахал на прощанье рукой и скрылся в темноте.
«За можем ми руже квитла, я ю тргат небудем», — слышалось во тьме ночи. Постепенно слова затихли вдали. Пес повертелся у ног и выбежал за калитку. Звезды робко мерцали в бархате ночи, почти так же, как и там, далеко, на севере. Только не было среди них Полярной…
С ДИКОГО ЗАПАДА
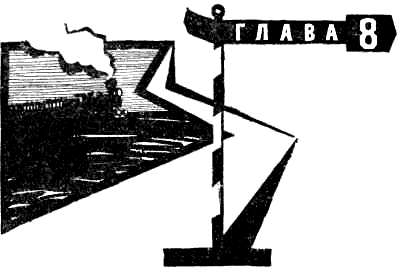
Чуку на языке индейского племени кечуа, до настоящего времени обитающего в нагорьях Боливии и Перу, означает «место для охоты». Так кечуа называли огромные земли, которые от их поднебесных гор уходят, понижаясь, куда-то далеко на восток. Испанские завоеватели назвали впоследствии исковерканным именем Чако всю обширную область, которая представляла наибольшее препятствие на их пути от устья Ла-Платы к легендарной горе Потоси, где якобы серебро текло рекой.
Испанский историк Педро Лосано говорит об «обширном крае», исследованном испанцами и названном «Чако-Гуалампа». Так как с точки зрения первых конкистадоров этот край был действительно огромным, они дали ему название «Гран-Чако». Позднейшие географы разделили это колоссальное место для охоты на три обособленные части: южное Чако — «аустрал», среднее — «сентрал» и северное — «бореал». Вся территория площадью около 700 тысяч квадратных километров раскинулась от реки Парагвай на востоке до предгорий Кордильер и от Мату-Гросу на севере до реки Рио-Саладо, которая в Санта-Фе сливается с Параной. Чако бореал, которое сравнительно недавно было ареной военных действий между Парагваем и Боливией, отделено от среднего Чако течением реки Пилькомайо, а границу между средним и южным Чако образует река Бермехо, параллельная Пилькомайо. А так как по реке Пилькомайо в настоящее время проходит государственная граница между Парагваем и Аргентиной, то две части огромного «места для охоты» оказались под властью Аргентины. Судьбу северной территории решил после окончания войны мир, подписанный 21 июля 1939 года. Большая часть спорной территории отошла к Парагваю.
Первыми европейцами, проникшими в Чако, были испанские завоеватели во главе с Себастьяном Каботом; по Паране они добрались вплоть до реки Каракаранья. Но при попытке войти в Бермехо они столкнулись с многочисленными индейскими племенами и были вынуждены отступить. С той поры, от 1527 года, Чако стало ареной непрерывных оборонительных боев индейцев и карательных экспедиций захватчиков. Последнюю такую экспедицию предпринял в 1876 году аргентинский губернатор Урибуру, направившись в селение Сан-Бернардо, которое уничтожили индейцы. Эта экспедиция долго продиралась сквозь нескончаемые леса, пока из-за огромных трудностей не была вынуждена вернуться. Но на обратном пути она наткнулась на лагеря индейских вождей Сикетроике и Нойгдике. Завязалась жаркая битва, и хотя на стороне индейцев был численный перевес, все же они были разгромлены силой современного оружия. После этой экспедиции возник целый пояс небольших оборонительных крепостей и, таким образом, была дописана последняя глава богатой событиями истории южного Чако.
Несмотря на все это, еще в начале нашего века Чако было окружено заманчивой таинственностью. Однако индейский мир «теней душ» рассеялся, поблекла и безвозвратно ушла в прошлое слава первопоселенцев. Она сквозит еще в рассказах старых чаконцев, которых остается все меньше и меньше. Эти люди познали в Чако отношения, которые ничуть не уступали нравам дикого Запада на другом конце того же молодого континента.
…и ничего, тоже ездили
Проблема расписания движения, видимо, вообще не беспокоила машинистов, которые сорок лет назад водили поезда через Чако, от Ресистенсии вверх до Сальты. Спешить было некуда. Такого машиниста знали по всей железнодорожной линии, в каждом ранчо, в самом глухом пуэблесито. Машинист был важной персоной. Он по своему желанию мог останавливаться там, где никогда не было и даже через сто лет не будет станции. Криожьё сумели по достоинству оценить такое обстоятельство. Где-нибудь закалывали корову, бросали раскаленные угли под парижью — железную решетку, и готовили асадо. В жилах машиниста течет та же самая криожская кровь, которой не обойтись без асадо, пахнущего дымом и пампой. Машиниста не может поколебать то обстоятельство, что он стоит у рычагов и кранов, что перед ним — топка раскаленного котла и что он тянет пять вагонов из Ресистенсии в Сальту.И вот поезд вдруг останавливается, пассажиры терпеливо ждут или присаживаются вместе с машинистом и кочегаром к ароматному асадо. Поговорят, попьют матэ и едут дальше.
