Страница:
Но бывает, что в таком машинисте иногда ни с того ни с сего просыпается пунктуальность. Однажды поезд шел из Саэнс-Пеньи до Паралело 28, солнце скрылось за горизонтом, и над пампой воцарилась предвечерняя тишь. Машинист, который с самого утра был на ногах, вынимает из кармана часы, проверяет, точно ли по расписанию зашло солнце, кивает кочегару, чтобы тот подбросил еще несколько кебрачовых поленьев, и останавливает поезд. Через десять минут высыпавшие из вагонов пассажиры находят машиниста и кочегара под насыпью: они кипятят воду для матэ и готовятся ко сну.
— Почему не едем? — спрашивают они машиниста.
— Все. Рабочий день кончился, — говорит он, расставляя складную кровать.
Ничто не помогло. Ни просьбы, ни угрозы, ни обещания, ни взятки. Время вышло! Пассажиры за полтора часа дошли до ближайшей станции, по телеграфу вызвали другого машиниста. Тот приехал из Саэнс-Пеньи на дрезине, когда уже светало. К этому времени проснулся первый машинист; вместе с кочегаром они попили матэ и бросились я поезду.
— Хорошо, но пусть они купят билеты, как и мы, — обратились пассажиры к новому машинисту, который одновременно был и проводником. — Ведь они теперь не на работе, — непреклонно потребовали они.
Оба «зайца» запротестовали, завязалась драка.
По правде сказать, перевес был на стороне пассажиров. Ярость, копившаяся всю ночь по каплям, переполнила чашу их терпения. Поэтому оба «зайца» остались со своим матэ и раскладушкой на насыпи, глядя в хвост удаляющемуся поезду.
В Чако такого садовника приняли бы на работу без всяких разговоров.
Одним из самых распространенных в Чако деревьев является палоборачо. По-испански это пишется так: «palo borracho», а перевод звучит весьма непоэтично — «пьяная дубина». Это название вовсе не подходит к прекрасным розовым цветам, которые можно увидеть и в парке перед небоскребом «Каванаг» в Буэнос-Айресе и на авениде Нуэве-де-Хулио. Зато форма ствола вполне оправдывает изобретательность того, кто назвал это дерево «пьяной дубиной». Оно похоже на широкую бутыль, которая быстро сужается к кроне. Иногда утолщение в середине ствола напоминает даже здоровенную пивную бочку.
Но не цветы и не бутылеобразная форма ствола представляют самую большую достопримечательность палоборачо. На его коре могли бы тренироваться факиры, наслаждающиеся сном на битом стекле или на гвоздях. Дело в том, что поверхность ствола покрыта шипами-наростами, по большей части длиною в несколько сантиметров.
И, наконец, палоборачо обладает еще четвертой, последней и, вероятно, роковой особенностью. Когда его великолепные крупные цветы опадают, появляется плод; после созревания он раскрывается, обнажая массу нежного белого волокна. В Чако, стране хлопка, за это волокно некогда платили в десять раз дороже, чем за хлопок. Но попробуйте-ка влезть на дерево, которое буквально усажено гвоздями. И тем не менее индейцы из южного и среднего Чако приносили закупщикам такое множество волокна, что со временем цена его упала наполовину. А вскоре выяснилась и сама техника сбора плодов. Индейцы просто-напросто переиначили хорошую поговорку: «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе», — и стали валить милые «пьяные дубины». А уж на земле-то с ними можно сделать что угодно. И зрелый плод отломить и за хорошие деньги отнести его покупателю.
Едет, например, сальтеньо на муле из Тунала в Саэнс-Пенью. Пустяк — 450 километров. Через неделю он приезжает в Авья Тераи и спрашивает, далеко ли еще до цели.
— Diez leguas. — Пятьдесят километров.
— Ya lo estoy pisando pues, — говорит он с удовлетворением, похлопывая мула по шее. — Ну, считай, что мы уже наместе…
Нечего после этого удивляться, что такое отношение к расстояниям впиталось в кровь и наших земляков. После уборки урожая на глухой чакре устроили асадо. Пришли дальние соседи. Но пришло их больше, чем ожидали. После хорошего урожая заводятся деньжата, а с ними появляются и поводы к тому, чтобы «обмыть» хороший урожай. В полночь хозяин с грустным видом ставит на стол последние десять бутылок и говорит:
— Погодите немножко, ребята, я сгоняю за вином.
В темноте зарокотал мотор старого «фордика» и затих где-то за околицей.
В три часа утра ребята стали проявлять нетерпение.
— И куда только запропастился этот Вашек?
— Hombre, ведь ты же знаешь, что он поехал в Саэнс-Пенью за вином…
— Ну, хорошо, хорошо!
До Саэнс-Пеньи было шестьдесят километров да обратно шестьдесят, и все по терраплену.
Долгонько раскачивалась Аргентина во время последней войны, пока не решилась и за пять минут до конца не объявила войну Германии и Японии.
Об этом событии узнал патриот Сантьяго и поспешил сообщить своему приятелю.
— Слыхал новость? — спрашивает он, соскочив с коня и привязывая его к забору. — Мы объявили войну!
— Ура! — восклицает второй патриот, выхватывает из-за пояса кольт и выпускает всю обойму в воздух. — Наконец-то мы всыплем корриентинцам!
Попробуйте-ка пойти в один из двух кинотеатров в Саэнс-Пенье без галстука, просто так, в открытой рубашке! Термометр остановился у сорока градусов, на улице от жары можно задохнуться, а каково же в кино! Но не вздумайте появляться без пиджака. Англичане в Африке в подобных случаях надевают короткие брючки и рубашки с длинными рукавами. Согласно же католической морали
Южной Америки такой поступок в лучшем случае был бы расценен как смертный грех.
Но зато не удивляйтесь, если на улицах увидите аргентинских кабальеро… в пижамах. Десять-пятнадцать лет назад эта одежда считалась светской даже в Буэнос-Айресе. В пижамах ходили в кино, в кафе, в гости к знакомым. Но беда, если в январе или феврале, то есть в самое жаркое время года, блюститель порядка заметит джентльмена с пиджаком на руке либо с развязанным галстуком. Тут же раздастся свисток и: «Оденьтесь или пойдемте со мной в полицию!»
Ибо да будет вам известно, что пижама — это вполне светская одежда: у пижамы есть и длинные штанины и длинные рукава.
И верно, в настоящее время он без работы. Это порою случается с парагвайскими генералами, когда они по несчастной случайности проигрывают какую-нибудь революцию в Асунсьоне. Что же им остается делать, кроме как скрашивать скуку игрой в кости или в карты, а в свободную минуту следить за тем, что происходит дома, на родине. Времени достаточно, ведь у них в Парагвае весьма гуманные порядки: находясь за границей, он продолжает получать генеральское жалованье, разумеется в валюте. Военные казначеи великодушны. В конце концов никто в Парагвае не знает, когда придется поменяться местами с этим генералом.
— А сколько гастует этот коче?
Благодаря чистой случайности мы поняли, в чем дело, так как несколько дней назад отвечали на подобный вопрос — полностью на испанском языке — аргентинским журналистам в Буэнос-Айресе.
Вот как разговаривают наши земляки в Чако:
— Че, сколько этот вике кобровал тебе за чатыту?
— Три тысячи.
— Маканудо! Это нужно апровечовать.
— Буэно, вамо! В боличе как раз привезли два кахонакристалу, пошли туда мукаму, пусть она все это поставит в эладеру…
— У тебя в импренте найдется катр с москитьерой?
— Но, гомбре!
— Но, импорта, в таком случае уляжемся транкиянто на сижон и зададим сиесту.
— ???
Мы не знали, как нам быть. Тогда нам перевели все это на чешский язык:
— Послушай, сколько этот метис заплатил тебе за машину?
— Три тысячи.
— Чудесно! Это нужно отметить!
— Хорошо, пойдем! В магазин как раз привезли два ящика пива, пошли туда служанку, пусть она поставит его в холодильник…
— У тебя в типографии найдется раскладушка с противомоскитной сеткой?
— Нет, брат, не найдется.
— Ну, не беда. В таком случае уляжемся на качалке и вздремнем.
Эти цифры на наших глазах несколько, приблизились к истине, когда на следующий день мы увидели машины, стоявшие на улицах Саэнс-Пеньи. Снятые крылья, усиленные рессоры, двойные специальные глушители, повышенная компрессия, тройные карбюраторы, двойные выхлопные трубы— и тем не менее: «В гонках приняло участие 138 гонщиков, из которых финишировало 36. Несколько гонщиков было отправлено в больницу, двое попали прямо в морг».
И все это за 11 часов 18 минут.
Асадо — хлеб его насущный. Этот хлеб не нужно ни сеять, ни убирать; для него не надо в поте лица пахать землю. Асадо бродит по пампе за кольями, на которых натянута проволока; оно само рождается, само растет. Поэтому оно ценится не столько за мясо, сколько за то, что остается после разделки: за кожу. В отдаленных областях Аргентины издавна действовал такой закон гостеприимства: «Ты голоден, путник? Мой корраль в твоем распоряжении, выбирай себе скотинку по вкусу, ешь сколько сможешь, а в уплату распяль снятую кожу». У европейца, который не знает всего этого и вдруг попадет прямо к асадо, голова пойдет кругом. Он хватает карандаш и принимается умножать и делить.
Криожьё не станет умножать и делить. Он просто разрежет мясо на куски, набросает их на парижью, сгребет под ней в кучку раскаленные поленья и сядет на корточки. Подобную картину, хотя и в несколько меньшем масштабе, можно увидеть на улицах Буэнос-Айреса, среди камней разобранной мостовой. Там во время обеденного перерыва прямо на тротуаре сидит мостильщик и зачарованно, словно совершая обряд, смотрит на раскаленные угольки. В пампе такие угольки насыпают прямо на землю, а здесь, на улице, среди звонящих трамваев, — на дно железной тачки для развозки щебня. Но мясо и здесь и там аппетитно шипит, роняя в огонь капли, которые разлетаются мелкими брызгами. Священный обряд пампы…
Буквально асадо означает «жаркое». Но, кроме этого, существует асадо в переносном смысле. Чаконец так называет любой праздник, устраиваемый по самым различным поводам: если открывается новый ресторанчик, если с официальным визитом приезжает губернатор или министр, если происходят крестины, если встречаются два криожьё и если вообще ничего не происходит.
А там, где асадо, там и чорисо, и чурраско, и чинчулины. Созвездие трех «ч». Участники «престольного праздника» принимаются за чорисо — колбасную змею длиною в несколько метров — так: они берут в зубы ее конец, ножом отсекают перед своим носом кусок, соответствующий аппетиту, а остальное снова кладут на железную решетку. Гринго не заметит разницы между асадо и чурраско. Словарь же утверждает, что чурраско приготовляется на brasas у cenizas calientes, то есть на раскаленных головешках и пепле. А чинчулины — это изобретение индейцев кечуа. Отведав их, гринго пальчики оближет, но его тут же вырвет, если он узнает, что ел жареные тонкие кишки с исконным содержимым.
И, наконец, — матэ.
Ботаники называют его «ilех paraguariensis», экспортеры — «йерба», индейцы — «каа», все остальные — «матэ». Но все вместе — это больше, чем южноамериканский чай (как матэ именуется в тарифных кодексах европейских таможен), больше, чем заварка измельченных и ферментированных листьев дерева, которое на радость половине Южной Америки разводится в Бразилии, в Парагвае и в Мисьонесе. Матэ — жизненный сок для криожьё, нектар и амброзия, слитые воедино.
Питье матэ — это не светская церемония, как, например, файф'о'клок с чаепитием. Питье матэ, или чупание на ломаном языке наших земляков в Чако, — это предпосылка к существованию. Питье матэ ставится выше таких жизненно важных функций человека, как труд, развлечение, еда и сон. Если криожьё надо идти на работу в шесть часов утра, он встает в четыре, чтобы иметь хотя бы полтора часа на чупание. Чупание допускает все что угодно, только не спешку. Дело в том, что пить матэ — это еще более торжественный обряд, чем обряд созерцания потрескивающих головешек.
По мнению одних, питье матэ способствует нормальному пищеварению и правильному обмену веществ и служит источником душевного равновесия и жизненной энергии.
По мнению других, это величайшее зло, покрывательство лени, бессмысленная трата времени, рассадник болезней, вредная привычка.
По мнению статистики, это выгодное дело. За год Аргентина потребляет около 120 тысяч тонн йербы матэ. По 10 килограммов на душу, считая и младенцев. Никаких вам граммов, никаких аптечных весов!
Но ни к первой, ни ко второй группе (не говоря уже о нудной статистике) не относятся народные поэты, трубадуры памп, поклонники звезд:
И у вас пройдет всякая охота философствовать о том, что такое матэ: залог нормального пищеварения или губительный порок.
Гринго всегда можно распознать по тому, как он пьет матэ. Настоящий криожьё никогда не возьмет паву — чайник с горячей водой — в левую руку. Он никогда не допустит, чтобы вода в паве начала кипеть. Он никогда не пьет матэ иначе, как через бомбижью — трубочку с лопаткообразной цедилкой на конце. Он никогда не станет помешивать этой бомбижьей густую кашицу зеленой йербы. Он никогда не допивает до дна, чтобы в бомбижье у него не захлюпал отстой. Он никогда не пьет матэ глотками, а с наслаждением посасывает его. В левой руке он величественно держит круглую чашку, выдолбленную из маленькой тыквы, а правой подливает горячей воды в слегка пенящийся нектар. Потом он терпеливо ждет, пока гость не выцедит два-три глотка горячего напитка — матэ амарго, или симаррона. Чашка из тыквы ходит по кругу до тех пор, пока кто-нибудь не поблагодарит. Только гринго благодарит после каждой добавки, обижая тем самым хозяина.
НА КРАЮ ЗЕЛЕНОГО АДА
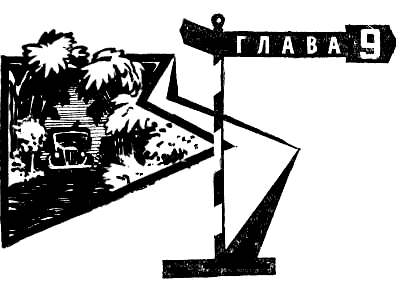
Едва ли какой-нибудь другой конфликт в период между первой и второй мировыми войнами привлек такое внимание в мире, как война за Чако бореал. Необычное упорство, с каким она велась, почти фанатичная решимость обеих сторон воевать до последнего солдата, а главное, убийственные условия, в которых приходилось сражаться, привели к тому, что все без исключения военные корреспонденты писали о ней как о зеленом аде. Это название в различных сочетаниях появлялось в заголовках прессы всего мира на протяжении трех долгих лет, пока среди топких трясин и выжженных тропических пустошей снова и снова шли друг на друга части боливийской и парагвайской армий.
Война обошлась в 135 тысяч молодых жизней. Американский публицист Джон Гюнтер писал, что причина этой трагедии кроется в безответственности государственных деятелей и в еще большей безответственности испанцев, которые в XVI веке не нанесли на карты точной границы между двумя аудьенсиями, позднее образовавшими Боливию и Парагвай. Вряд ли можно выдумать более циничную защиту американского крупного капитала, впервые объявившего в чакской войне открытый бой английским финансовым интересам в Южной Америке. Десятки тысяч молодых боливийцев и парагвайцев, в чьей крови действительно горел огонь, стали жалкими фигурками на шахматной доске, за которую уселись американская «Стандард ойл» и англо-аргентинские дельцы. Первый игрок официально назывался Боливией, второй — Парагваем. От этой шахматной доски издалека несло запахом нефти, источники которой были незадолго до этого открыты в Чако, но официально война шла за пограничную линию и выход Боливии к морю, через речную систему Пилькомайо — Парагвай — Парана.
Война тянулась с 1932 по июнь 1935 года. Она была так же крута, как и сама чакская природа. И была тем более крута, что каждый раз, когда начинал ослабевать боевой дух одного из противников, интервенты моментально укрепляли его новыми поставками оружия. Боливийцы, оснащенные американским оружием, привыкшие к холоду и четырехкилометровой высоте горных плато с жалкой растительностью, вдруг спустились в болотистые равнины и тропическую жару Чако. Они впервые в жизни видели девственный лес, чувствовали себя в нем беспомощными, и от этого их охватывал панический страх. Они не умели в нем ориентироваться. Они гибли как мухи, зачастую раньше, чем вступали в соприкосновение с врагом — парагвайцами. А те воевали босиком, с мачете вместо ружей, но были привычны к любой жаре, умели обходиться без воды и знали лес как свои пять пальцев.
В 1935 году война кончилась… полным изнурением обеих сторон. Победителей не было. Были лишь побежденные, хотя по мирному договору, подписанному в 1939 году, державы-примирительницы присудили большую часть спорной территории Парагваю.
По сей день в северное Чако не проложена железная дорога. Его обходят и международные дорожные коммуникации, которые уже — по крайней мере на бумаге — окаймляют тихоокеанское и часть атлантического побережья в виде хвастливо разрекламированной американской автострады. Только запущенные и все более зарастающие дороги ведут в некоторые части огромной территории, которая по сей день остается изолированной от мира.
Так как по плану нам предстояло вскоре от Чако направиться к Атлантическому океану, мы решили из Саэнс-Пеньи хоть на несколько дней съездить в центральное Чако, раз уж из-за недостатка времени северное было для нас недоступно. Саэнс-Пенья оказалась для этого самыми удобными воротами.
Итак, в середине августа было принято решение:
— Завтра в час ночи старт на север.
В холостяцкой комнате чакского учителя, который на все время нашего пребывания в Саэнс-Пенье любезно предоставил нам кров, все было перевернуто вверх дном. Мы обшиваем спальные мешки шерстяными одеялами, упаковываем лагерные принадлежности, неумело латаем брезент палатки, в которой обнаружили несколько дыр, смазываем оружие. Самое комичное из всего снаряжения — мешок аргентинских сухарей — гажьетас. Он безмолвное признание того, что никто из экипажа не гонится за почетным званием повара экспедиции.
Была уже почти полночь, когда прямоугольник светящегося в темноте окна погас. Но спустя час он засветился снова. Причиной тому был сигнал «фордика» и громкая команда:
— Выходи строиться на поверку!..
Зденек Крысл — владелец дребезжащей колымаги с кузовом пикапа, хлопкороб, поклоняющийся охотничьему ружью, автомобильному рулю и далекой родине. В это время он одной ногою был в Чако, другой — в Чехословакии.
Ярослав Вирт, несмотря на свои сорок пять лет, один из старейших чаконцев, у которого на тридцать первой странице его членской книжки общества «Чакский легион» уже не было свободного места для отметок, владелец чакры Пампа Флорида, знаменитый стрелок, неистощимый оптимист; хлопкороб, все чаще заглядывавший в расписание пароходов, плывущих в Европу.
Мартин Вондровиц, чешский учитель в Чако, и Иозеф Фронс, второй учитель из Росарио, оба на летних каникулах.
И, наконец, двое из экипажа покинутой «татры», которая уже четвертую неделю стояла на колодках под окнами саэнспеньской школы.
Через минуту кухня ожила. Горячая вода для приготовления матэ, теплое белье, свитеры, пальто, перчатки. Это скорее напоминало сборы в путь к ледникам Килиманджаро, чем в субтропическое Чако. Однако ночи были холодными даже под крышей, не говоря уже о брезентовой палатке.
— Ничего себе, выбрали времечко! — говорили пессимисты. — Вчера было три градуса ниже нуля, такого холода мы лет десять не помним…
Но в час ночи «фордик» уже тарахтел по пустым улицам Саэнс-Пеньи в направлении северной дороги. Вездесущий холод проникал сквозь щели в тенте кузова, желтоватый свет фар прыгал по свежевспаханному терраплену, а под тентом по груде тел лазил охотничий пес, по очереди согревая своей шерстью окоченевшие ноги членов экипажа. Километры убывали так же лениво, как выползала из-под нуля на шкале стрелка термометра.
Когда, наконец, солнце вынырнуло из зарослей леса, мы проехали уже и хлопковые плантации и пальмар — полосу стройных пальм — там, где дорога пересекает одно из старых русел Теуко. Над кронами чахлых деревьев перелетело несколько чарат — лесных куропаток, стая попугаев с криком скрылась в зарослях. Вот появилась цапля, а там группа голубей, а в другом месте несколько диких уток.
Примерно так выглядело южное Чако, когда сюда много лет назад пришли первые поселенцы, чтобы вонзить топоры в девственный лес и зажечь огонь под корнями пней.
— Остановите, ребята! Время выпить матэ, — прозаически перебил эти размышления начальник экспедиции.
Казалось, Ярка Вирг не допускает меланхолических размышлений при виде пейзажа без привычных просек, вырубок и рядов посеянного хлопчатника. Тем временем солнышко уже изрядно припекало. Было свежее утро, самое лучшее время, когда чакская природа уже приходит в себя от ночного холода, но еще не раскалена полуденным зноем. Пока начальник экспедиции разжигал огонь под чайником, мы отправились осматривать окрестности. Могучие древовидные кактусы и сплетенные лианы с длинными колючками мешали проникнуть в глубь девственного леса и заставляли долго искать проходимую дорогу.
Первая проверка оружия, легких малокалиберок. Мишеней хватало повсюду. Сотни зеленых попугаев с криком перелетали с места на место. Это, собственно, головной дозор девственного леса, обитателей которого он предупреждает о появлении самого злейшего врага — человека. Нам было жалко стрелять по этим летающим изумрудам, пока мы не узнали, что это страшнейшие в Чако вредители. Аргентинские власти даже выплачивают вознаграждение за отстрел их — десять сентаво с клюва. Спустя минуту мы спугнули двух коати, [32]которые с молниеносной быстротой исчезли в молодой поросли и через минуту уже карабкались на крону альгарробо. Мы не пытались настичь их обоих, нам было достаточно одного — в качестве трофея и объекта нескольких снимков. Это была рыжевато-коричневая хищница с вытянутой мордой, похожая на небольшого енота. И потом еще несколько чарат на ужин, чтобы иметь возможность остаток дня непрерывно двигаться на север. Однако охота на чарат — чудесных лесных куропаток с зеленым клювом и серо-голубой шейкой — не спортивное, скучное дело. Выстрелишь в крону дерева, где сидят пять чарат, подстреленная птица упадет на землю, а остальные даже не шевельнутся.
— Почему не едем? — спрашивают они машиниста.
— Все. Рабочий день кончился, — говорит он, расставляя складную кровать.
Ничто не помогло. Ни просьбы, ни угрозы, ни обещания, ни взятки. Время вышло! Пассажиры за полтора часа дошли до ближайшей станции, по телеграфу вызвали другого машиниста. Тот приехал из Саэнс-Пеньи на дрезине, когда уже светало. К этому времени проснулся первый машинист; вместе с кочегаром они попили матэ и бросились я поезду.
— Хорошо, но пусть они купят билеты, как и мы, — обратились пассажиры к новому машинисту, который одновременно был и проводником. — Ведь они теперь не на работе, — непреклонно потребовали они.
Оба «зайца» запротестовали, завязалась драка.
По правде сказать, перевес был на стороне пассажиров. Ярость, копившаяся всю ночь по каплям, переполнила чашу их терпения. Поэтому оба «зайца» остались со своим матэ и раскладушкой на насыпи, глядя в хвост удаляющемуся поезду.
Чакские перлы
Что бы вы сказали о садовнике, который вместо того, чтобы лезть на высокую яблоню и канителиться со стремянкой, взял бы топор и пилу, срубил дерево и потом преспокойно собрал яблоки?В Чако такого садовника приняли бы на работу без всяких разговоров.
Одним из самых распространенных в Чако деревьев является палоборачо. По-испански это пишется так: «palo borracho», а перевод звучит весьма непоэтично — «пьяная дубина». Это название вовсе не подходит к прекрасным розовым цветам, которые можно увидеть и в парке перед небоскребом «Каванаг» в Буэнос-Айресе и на авениде Нуэве-де-Хулио. Зато форма ствола вполне оправдывает изобретательность того, кто назвал это дерево «пьяной дубиной». Оно похоже на широкую бутыль, которая быстро сужается к кроне. Иногда утолщение в середине ствола напоминает даже здоровенную пивную бочку.
Но не цветы и не бутылеобразная форма ствола представляют самую большую достопримечательность палоборачо. На его коре могли бы тренироваться факиры, наслаждающиеся сном на битом стекле или на гвоздях. Дело в том, что поверхность ствола покрыта шипами-наростами, по большей части длиною в несколько сантиметров.
И, наконец, палоборачо обладает еще четвертой, последней и, вероятно, роковой особенностью. Когда его великолепные крупные цветы опадают, появляется плод; после созревания он раскрывается, обнажая массу нежного белого волокна. В Чако, стране хлопка, за это волокно некогда платили в десять раз дороже, чем за хлопок. Но попробуйте-ка влезть на дерево, которое буквально усажено гвоздями. И тем не менее индейцы из южного и среднего Чако приносили закупщикам такое множество волокна, что со временем цена его упала наполовину. А вскоре выяснилась и сама техника сбора плодов. Индейцы просто-напросто переиначили хорошую поговорку: «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе», — и стали валить милые «пьяные дубины». А уж на земле-то с ними можно сделать что угодно. И зрелый плод отломить и за хорошие деньги отнести его покупателю.
* * *
Если европеец при измерении расстояний и просторов Аргентины захочет обойтись своей европейской метрической системой, он вскоре убедится, что из этого ничего не выйдет. Как мы уже говорили, площадь Аргентины равна почти 3 миллионам квадратных километров, а с юга на север страна протянулась на 3900 километров. Длина государственной границы составляет 10037 километров, больше четверти экватора. Поэтому аргентинцы отбросили километры и измеряют расстояния на легуа. Что ни легуа, то пять километров.Едет, например, сальтеньо на муле из Тунала в Саэнс-Пенью. Пустяк — 450 километров. Через неделю он приезжает в Авья Тераи и спрашивает, далеко ли еще до цели.
— Diez leguas. — Пятьдесят километров.
— Ya lo estoy pisando pues, — говорит он с удовлетворением, похлопывая мула по шее. — Ну, считай, что мы уже наместе…
Нечего после этого удивляться, что такое отношение к расстояниям впиталось в кровь и наших земляков. После уборки урожая на глухой чакре устроили асадо. Пришли дальние соседи. Но пришло их больше, чем ожидали. После хорошего урожая заводятся деньжата, а с ними появляются и поводы к тому, чтобы «обмыть» хороший урожай. В полночь хозяин с грустным видом ставит на стол последние десять бутылок и говорит:
— Погодите немножко, ребята, я сгоняю за вином.
В темноте зарокотал мотор старого «фордика» и затих где-то за околицей.
В три часа утра ребята стали проявлять нетерпение.
— И куда только запропастился этот Вашек?
— Hombre, ведь ты же знаешь, что он поехал в Саэнс-Пенью за вином…
— Ну, хорошо, хорошо!
До Саэнс-Пеньи было шестьдесят километров да обратно шестьдесят, и все по терраплену.
* * *
В Аргентине званием профессора не очень-то кого удивишь. Профессор — это музыкант, деревенского оркестра, дающий уроки на дому и бьющий учеников смычком по пальцам. Профессор — это каждый учитель народной школы. Даже над входом в портновские мастерские можно прочесть: «Profesora del corte у confecci?n» — «Профессор кройки и шитья». Достаточно товарищеского экзамена, и диплом профессора в кармане.* * *
Местный патриотизм процветает и в Аргентине, хотя здесь весьма старательно пытаются стереть следы чужеродных национальных элементов. На границе между провинциями вместо таможенников стоит полицейский, который мирно запишет номер вашей машины и пожелает счастливого пути. Но этакий сальтеньо в широких бомбачас, в сомбреро и с извечным лассо в руке не желает иметь ничего общего с мендосцем, [31]который выворачивает испанский язык по-своему и печется только о том, чтобы его пилеты были всегда полны вина. Еще хуже отношения между жителями Сантьяго и Корриентес. К счастью, между обеими этими провинциями расположены Чако и Санта-Фе. В Чако на сбор хлопка приходят сезонные рабочие с той и другой стороны, и хозяевам всегда хватает забот держать корриентинцев и сантьяговцев подальше друг от друга.Долгонько раскачивалась Аргентина во время последней войны, пока не решилась и за пять минут до конца не объявила войну Германии и Японии.
Об этом событии узнал патриот Сантьяго и поспешил сообщить своему приятелю.
— Слыхал новость? — спрашивает он, соскочив с коня и привязывая его к забору. — Мы объявили войну!
— Ура! — восклицает второй патриот, выхватывает из-за пояса кольт и выпускает всю обойму в воздух. — Наконец-то мы всыплем корриентинцам!
* * *
Косную манеру одеваться Аргентина, по всей видимости, унаследовала от испанских иезуитов, которые стремились распространить ее по всей Латинской Америке. При этом их нисколько не смущало, что в тропиках и субтропиках бывает чуть потеплее, чем на Пиренейском полуострове.Попробуйте-ка пойти в один из двух кинотеатров в Саэнс-Пенье без галстука, просто так, в открытой рубашке! Термометр остановился у сорока градусов, на улице от жары можно задохнуться, а каково же в кино! Но не вздумайте появляться без пиджака. Англичане в Африке в подобных случаях надевают короткие брючки и рубашки с длинными рукавами. Согласно же католической морали
Южной Америки такой поступок в лучшем случае был бы расценен как смертный грех.
Но зато не удивляйтесь, если на улицах увидите аргентинских кабальеро… в пижамах. Десять-пятнадцать лет назад эта одежда считалась светской даже в Буэнос-Айресе. В пижамах ходили в кино, в кафе, в гости к знакомым. Но беда, если в январе или феврале, то есть в самое жаркое время года, блюститель порядка заметит джентльмена с пиджаком на руке либо с развязанным галстуком. Тут же раздастся свисток и: «Оденьтесь или пойдемте со мной в полицию!»
Ибо да будет вам известно, что пижама — это вполне светская одежда: у пижамы есть и длинные штанины и длинные рукава.
* * *
Пройдите мимо кафе на углу двенадцатой улицы — калье Досе — в любое время, и вы всегда увидите у карточного столика невзрачного человечка. «Какой-нибудь чиновничишка без работы», — сказали бы вы.И верно, в настоящее время он без работы. Это порою случается с парагвайскими генералами, когда они по несчастной случайности проигрывают какую-нибудь революцию в Асунсьоне. Что же им остается делать, кроме как скрашивать скуку игрой в кости или в карты, а в свободную минуту следить за тем, что происходит дома, на родине. Времени достаточно, ведь у них в Парагвае весьма гуманные порядки: находясь за границей, он продолжает получать генеральское жалованье, разумеется в валюте. Военные казначеи великодушны. В конце концов никто в Парагвае не знает, когда придется поменяться местами с этим генералом.
* * *
Как только мы приехали в Саэнс-Пенью, наши земляки, разглядывая необычную для них «татру», озадачили нас вопросом:— А сколько гастует этот коче?
Благодаря чистой случайности мы поняли, в чем дело, так как несколько дней назад отвечали на подобный вопрос — полностью на испанском языке — аргентинским журналистам в Буэнос-Айресе.
Вот как разговаривают наши земляки в Чако:
— Че, сколько этот вике кобровал тебе за чатыту?
— Три тысячи.
— Маканудо! Это нужно апровечовать.
— Буэно, вамо! В боличе как раз привезли два кахонакристалу, пошли туда мукаму, пусть она все это поставит в эладеру…
— У тебя в импренте найдется катр с москитьерой?
— Но, гомбре!
— Но, импорта, в таком случае уляжемся транкиянто на сижон и зададим сиесту.
— ???
Мы не знали, как нам быть. Тогда нам перевели все это на чешский язык:
— Послушай, сколько этот метис заплатил тебе за машину?
— Три тысячи.
— Чудесно! Это нужно отметить!
— Хорошо, пойдем! В магазин как раз привезли два ящика пива, пошли туда служанку, пусть она поставит его в холодильник…
— У тебя в типографии найдется раскладушка с противомоскитной сеткой?
— Нет, брат, не найдется.
— Ну, не беда. В таком случае уляжемся на качалке и вздремнем.
* * *
Темпераментным криожьё мало тех опасностей и треволнений, которые им преподносит суровая природа и повседневная жизнь. Как раз в день нашего приезда в Саэнс-Пенью проводились большие автогонки через все Чако — на дистанции 1446 километров. По тому же самому терраплену приехали мы, поэтому нам просто не хотелось верить официальным результатам гонок: рекордное время победителя было 11 часов 18 минут. Средняя скорость 128 километров в час! И это по окаменевшим пашням! На обычных машинах!Эти цифры на наших глазах несколько, приблизились к истине, когда на следующий день мы увидели машины, стоявшие на улицах Саэнс-Пеньи. Снятые крылья, усиленные рессоры, двойные специальные глушители, повышенная компрессия, тройные карбюраторы, двойные выхлопные трубы— и тем не менее: «В гонках приняло участие 138 гонщиков, из которых финишировало 36. Несколько гонщиков было отправлено в больницу, двое попали прямо в морг».
И все это за 11 часов 18 минут.
Матэ амарго
Говорят, что всякий уважающий себя криожьё и дня не проживет без танго, без асадо и без матэ. Танго — это душа криожьё.Асадо — хлеб его насущный. Этот хлеб не нужно ни сеять, ни убирать; для него не надо в поте лица пахать землю. Асадо бродит по пампе за кольями, на которых натянута проволока; оно само рождается, само растет. Поэтому оно ценится не столько за мясо, сколько за то, что остается после разделки: за кожу. В отдаленных областях Аргентины издавна действовал такой закон гостеприимства: «Ты голоден, путник? Мой корраль в твоем распоряжении, выбирай себе скотинку по вкусу, ешь сколько сможешь, а в уплату распяль снятую кожу». У европейца, который не знает всего этого и вдруг попадет прямо к асадо, голова пойдет кругом. Он хватает карандаш и принимается умножать и делить.
Криожьё не станет умножать и делить. Он просто разрежет мясо на куски, набросает их на парижью, сгребет под ней в кучку раскаленные поленья и сядет на корточки. Подобную картину, хотя и в несколько меньшем масштабе, можно увидеть на улицах Буэнос-Айреса, среди камней разобранной мостовой. Там во время обеденного перерыва прямо на тротуаре сидит мостильщик и зачарованно, словно совершая обряд, смотрит на раскаленные угольки. В пампе такие угольки насыпают прямо на землю, а здесь, на улице, среди звонящих трамваев, — на дно железной тачки для развозки щебня. Но мясо и здесь и там аппетитно шипит, роняя в огонь капли, которые разлетаются мелкими брызгами. Священный обряд пампы…
Буквально асадо означает «жаркое». Но, кроме этого, существует асадо в переносном смысле. Чаконец так называет любой праздник, устраиваемый по самым различным поводам: если открывается новый ресторанчик, если с официальным визитом приезжает губернатор или министр, если происходят крестины, если встречаются два криожьё и если вообще ничего не происходит.
А там, где асадо, там и чорисо, и чурраско, и чинчулины. Созвездие трех «ч». Участники «престольного праздника» принимаются за чорисо — колбасную змею длиною в несколько метров — так: они берут в зубы ее конец, ножом отсекают перед своим носом кусок, соответствующий аппетиту, а остальное снова кладут на железную решетку. Гринго не заметит разницы между асадо и чурраско. Словарь же утверждает, что чурраско приготовляется на brasas у cenizas calientes, то есть на раскаленных головешках и пепле. А чинчулины — это изобретение индейцев кечуа. Отведав их, гринго пальчики оближет, но его тут же вырвет, если он узнает, что ел жареные тонкие кишки с исконным содержимым.
И, наконец, — матэ.
Ботаники называют его «ilех paraguariensis», экспортеры — «йерба», индейцы — «каа», все остальные — «матэ». Но все вместе — это больше, чем южноамериканский чай (как матэ именуется в тарифных кодексах европейских таможен), больше, чем заварка измельченных и ферментированных листьев дерева, которое на радость половине Южной Америки разводится в Бразилии, в Парагвае и в Мисьонесе. Матэ — жизненный сок для криожьё, нектар и амброзия, слитые воедино.
Питье матэ — это не светская церемония, как, например, файф'о'клок с чаепитием. Питье матэ, или чупание на ломаном языке наших земляков в Чако, — это предпосылка к существованию. Питье матэ ставится выше таких жизненно важных функций человека, как труд, развлечение, еда и сон. Если криожьё надо идти на работу в шесть часов утра, он встает в четыре, чтобы иметь хотя бы полтора часа на чупание. Чупание допускает все что угодно, только не спешку. Дело в том, что пить матэ — это еще более торжественный обряд, чем обряд созерцания потрескивающих головешек.
По мнению одних, питье матэ способствует нормальному пищеварению и правильному обмену веществ и служит источником душевного равновесия и жизненной энергии.
По мнению других, это величайшее зло, покрывательство лени, бессмысленная трата времени, рассадник болезней, вредная привычка.
По мнению статистики, это выгодное дело. За год Аргентина потребляет около 120 тысяч тонн йербы матэ. По 10 килограммов на душу, считая и младенцев. Никаких вам граммов, никаких аптечных весов!
Но ни к первой, ни ко второй группе (не говоря уже о нудной статистике) не относятся народные поэты, трубадуры памп, поклонники звезд:
Вслушайтесь только в криожскую песню под аккомпанемент гитар, сидя у пылающего костра посреди пампы!
Однажды летним вечером
ты приедешь на своем скакуне с собакой;
я угощу тебя горячим матэ,
и ты меня расцелуешь… красавица!
И у вас пройдет всякая охота философствовать о том, что такое матэ: залог нормального пищеварения или губительный порок.
Гринго всегда можно распознать по тому, как он пьет матэ. Настоящий криожьё никогда не возьмет паву — чайник с горячей водой — в левую руку. Он никогда не допустит, чтобы вода в паве начала кипеть. Он никогда не пьет матэ иначе, как через бомбижью — трубочку с лопаткообразной цедилкой на конце. Он никогда не станет помешивать этой бомбижьей густую кашицу зеленой йербы. Он никогда не допивает до дна, чтобы в бомбижье у него не захлюпал отстой. Он никогда не пьет матэ глотками, а с наслаждением посасывает его. В левой руке он величественно держит круглую чашку, выдолбленную из маленькой тыквы, а правой подливает горячей воды в слегка пенящийся нектар. Потом он терпеливо ждет, пока гость не выцедит два-три глотка горячего напитка — матэ амарго, или симаррона. Чашка из тыквы ходит по кругу до тех пор, пока кто-нибудь не поблагодарит. Только гринго благодарит после каждой добавки, обижая тем самым хозяина.
НА КРАЮ ЗЕЛЕНОГО АДА
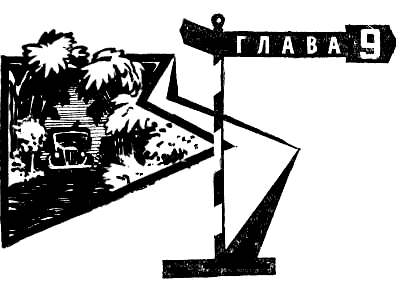
Едва ли какой-нибудь другой конфликт в период между первой и второй мировыми войнами привлек такое внимание в мире, как война за Чако бореал. Необычное упорство, с каким она велась, почти фанатичная решимость обеих сторон воевать до последнего солдата, а главное, убийственные условия, в которых приходилось сражаться, привели к тому, что все без исключения военные корреспонденты писали о ней как о зеленом аде. Это название в различных сочетаниях появлялось в заголовках прессы всего мира на протяжении трех долгих лет, пока среди топких трясин и выжженных тропических пустошей снова и снова шли друг на друга части боливийской и парагвайской армий.
Война обошлась в 135 тысяч молодых жизней. Американский публицист Джон Гюнтер писал, что причина этой трагедии кроется в безответственности государственных деятелей и в еще большей безответственности испанцев, которые в XVI веке не нанесли на карты точной границы между двумя аудьенсиями, позднее образовавшими Боливию и Парагвай. Вряд ли можно выдумать более циничную защиту американского крупного капитала, впервые объявившего в чакской войне открытый бой английским финансовым интересам в Южной Америке. Десятки тысяч молодых боливийцев и парагвайцев, в чьей крови действительно горел огонь, стали жалкими фигурками на шахматной доске, за которую уселись американская «Стандард ойл» и англо-аргентинские дельцы. Первый игрок официально назывался Боливией, второй — Парагваем. От этой шахматной доски издалека несло запахом нефти, источники которой были незадолго до этого открыты в Чако, но официально война шла за пограничную линию и выход Боливии к морю, через речную систему Пилькомайо — Парагвай — Парана.
Война тянулась с 1932 по июнь 1935 года. Она была так же крута, как и сама чакская природа. И была тем более крута, что каждый раз, когда начинал ослабевать боевой дух одного из противников, интервенты моментально укрепляли его новыми поставками оружия. Боливийцы, оснащенные американским оружием, привыкшие к холоду и четырехкилометровой высоте горных плато с жалкой растительностью, вдруг спустились в болотистые равнины и тропическую жару Чако. Они впервые в жизни видели девственный лес, чувствовали себя в нем беспомощными, и от этого их охватывал панический страх. Они не умели в нем ориентироваться. Они гибли как мухи, зачастую раньше, чем вступали в соприкосновение с врагом — парагвайцами. А те воевали босиком, с мачете вместо ружей, но были привычны к любой жаре, умели обходиться без воды и знали лес как свои пять пальцев.
В 1935 году война кончилась… полным изнурением обеих сторон. Победителей не было. Были лишь побежденные, хотя по мирному договору, подписанному в 1939 году, державы-примирительницы присудили большую часть спорной территории Парагваю.
По сей день в северное Чако не проложена железная дорога. Его обходят и международные дорожные коммуникации, которые уже — по крайней мере на бумаге — окаймляют тихоокеанское и часть атлантического побережья в виде хвастливо разрекламированной американской автострады. Только запущенные и все более зарастающие дороги ведут в некоторые части огромной территории, которая по сей день остается изолированной от мира.
Так как по плану нам предстояло вскоре от Чако направиться к Атлантическому океану, мы решили из Саэнс-Пеньи хоть на несколько дней съездить в центральное Чако, раз уж из-за недостатка времени северное было для нас недоступно. Саэнс-Пенья оказалась для этого самыми удобными воротами.
Ночной старт на север
— По крайней мере хоть посмотрю, каково Чако в действительности, — сказал однажды Зденек Крысл, который провел в Чако уже более десяти лет и в пустом жилище которого как раз лежала груда нашего упакованного багажа. — За эти годы я ведь никуда из чакры носа не высовывал, — произнес он, глядя в календарь, по которому до окончательного возвращения в Чехословакию ему оставалось ровно четыре недели. Он решил в последний раз оказать честь своему «фордику», уже наполовину проданному.Итак, в середине августа было принято решение:
— Завтра в час ночи старт на север.
В холостяцкой комнате чакского учителя, который на все время нашего пребывания в Саэнс-Пенье любезно предоставил нам кров, все было перевернуто вверх дном. Мы обшиваем спальные мешки шерстяными одеялами, упаковываем лагерные принадлежности, неумело латаем брезент палатки, в которой обнаружили несколько дыр, смазываем оружие. Самое комичное из всего снаряжения — мешок аргентинских сухарей — гажьетас. Он безмолвное признание того, что никто из экипажа не гонится за почетным званием повара экспедиции.
Была уже почти полночь, когда прямоугольник светящегося в темноте окна погас. Но спустя час он засветился снова. Причиной тому был сигнал «фордика» и громкая команда:
— Выходи строиться на поверку!..
Зденек Крысл — владелец дребезжащей колымаги с кузовом пикапа, хлопкороб, поклоняющийся охотничьему ружью, автомобильному рулю и далекой родине. В это время он одной ногою был в Чако, другой — в Чехословакии.
Ярослав Вирт, несмотря на свои сорок пять лет, один из старейших чаконцев, у которого на тридцать первой странице его членской книжки общества «Чакский легион» уже не было свободного места для отметок, владелец чакры Пампа Флорида, знаменитый стрелок, неистощимый оптимист; хлопкороб, все чаще заглядывавший в расписание пароходов, плывущих в Европу.
Мартин Вондровиц, чешский учитель в Чако, и Иозеф Фронс, второй учитель из Росарио, оба на летних каникулах.
И, наконец, двое из экипажа покинутой «татры», которая уже четвертую неделю стояла на колодках под окнами саэнспеньской школы.
Через минуту кухня ожила. Горячая вода для приготовления матэ, теплое белье, свитеры, пальто, перчатки. Это скорее напоминало сборы в путь к ледникам Килиманджаро, чем в субтропическое Чако. Однако ночи были холодными даже под крышей, не говоря уже о брезентовой палатке.
— Ничего себе, выбрали времечко! — говорили пессимисты. — Вчера было три градуса ниже нуля, такого холода мы лет десять не помним…
Но в час ночи «фордик» уже тарахтел по пустым улицам Саэнс-Пеньи в направлении северной дороги. Вездесущий холод проникал сквозь щели в тенте кузова, желтоватый свет фар прыгал по свежевспаханному терраплену, а под тентом по груде тел лазил охотничий пес, по очереди согревая своей шерстью окоченевшие ноги членов экипажа. Километры убывали так же лениво, как выползала из-под нуля на шкале стрелка термометра.
Когда, наконец, солнце вынырнуло из зарослей леса, мы проехали уже и хлопковые плантации и пальмар — полосу стройных пальм — там, где дорога пересекает одно из старых русел Теуко. Над кронами чахлых деревьев перелетело несколько чарат — лесных куропаток, стая попугаев с криком скрылась в зарослях. Вот появилась цапля, а там группа голубей, а в другом месте несколько диких уток.
Примерно так выглядело южное Чако, когда сюда много лет назад пришли первые поселенцы, чтобы вонзить топоры в девственный лес и зажечь огонь под корнями пней.
— Остановите, ребята! Время выпить матэ, — прозаически перебил эти размышления начальник экспедиции.
Казалось, Ярка Вирг не допускает меланхолических размышлений при виде пейзажа без привычных просек, вырубок и рядов посеянного хлопчатника. Тем временем солнышко уже изрядно припекало. Было свежее утро, самое лучшее время, когда чакская природа уже приходит в себя от ночного холода, но еще не раскалена полуденным зноем. Пока начальник экспедиции разжигал огонь под чайником, мы отправились осматривать окрестности. Могучие древовидные кактусы и сплетенные лианы с длинными колючками мешали проникнуть в глубь девственного леса и заставляли долго искать проходимую дорогу.
Первая проверка оружия, легких малокалиберок. Мишеней хватало повсюду. Сотни зеленых попугаев с криком перелетали с места на место. Это, собственно, головной дозор девственного леса, обитателей которого он предупреждает о появлении самого злейшего врага — человека. Нам было жалко стрелять по этим летающим изумрудам, пока мы не узнали, что это страшнейшие в Чако вредители. Аргентинские власти даже выплачивают вознаграждение за отстрел их — десять сентаво с клюва. Спустя минуту мы спугнули двух коати, [32]которые с молниеносной быстротой исчезли в молодой поросли и через минуту уже карабкались на крону альгарробо. Мы не пытались настичь их обоих, нам было достаточно одного — в качестве трофея и объекта нескольких снимков. Это была рыжевато-коричневая хищница с вытянутой мордой, похожая на небольшого енота. И потом еще несколько чарат на ужин, чтобы иметь возможность остаток дня непрерывно двигаться на север. Однако охота на чарат — чудесных лесных куропаток с зеленым клювом и серо-голубой шейкой — не спортивное, скучное дело. Выстрелишь в крону дерева, где сидят пять чарат, подстреленная птица упадет на землю, а остальные даже не шевельнутся.
