Страница:
Впрочем, именно в Страсбурге он совершил, пожалуй, самый стремительный поступок в своей жизни: на пятнадцатый день после приезда в город он сделал предложение Мари Лоран, дочери ректора Страсбургского университета. Они прожили вместе 46 лет и были очень счастливы…
Чётким, прямым почерком сделаны рукой Пастера этикетки на лабораторных склянках. Чёрные чернила выцвели и порыжели – ведь они высохли больше ста лет назад. Пастер занимался тогда исследованием процессов брожения вина. Это был важнейший шаг на пути решения проблемы «самозарождения», многие десятилетия обсуждавшейся естествоиспытателями разных стран. Споры о том, существует или нет «самозарождение» живых организмов, разгорались как пламя, перебрасывались из лабораторий в гостиные аристократов, эхом, иногда нелепо искажённым, гремели в газетах и журналах.
Пастер не спорил – Пастер работал. Это были годы кропотливого труда, годы мучительной борьбы не только со своими противниками, которым нет числа, но и с собой. Ещё сегодня он плакал от радости – так удачен был завершённый опыт, а назавтра уже обвинял себя в недобросовестности эксперимента.
«Думать, что открыл важный факт, томиться лихорадочной жаждой возвестить о нём и сдерживать себя днями, неделями, годами, бороться с самим собой, стараться разрушить собственные опыты и не объявлять о своём открытии, пока не исчерпал всех противоположных гипотез, – да, это тяжёлая задача». Я прочёл эти слова в лаборатории Пастера и подумал, что знать их и помнить о них надо каждому, кто решил отдать себя науке. Сто лет назад, сегодня, всегда…
Здесь, в лаборатории, открывается новая грань таланта этого удивительного человека. Тонкий экспериментатор был недюжинным изобретателем. Колба Пастера – хрупкое сооружение с длинным, причудливо выгнутым носиком. Более ста лет назад в неё налили молодое вино. Оно не скисло до сих пор – секрет формы колбы бережёт его от микробов брожения. А вот конденсатор оригинальной конструкции, рядом горящий медным жаром автоклав, первый автоклав, построенный учеником Пастера Шамберленом, который топился, как утюг, древесным углём, вакуумный насос – тоже собственное изобретение. Химик, биолог, врач не чурался инженерных задач.
Луи Пастер наиболее широко известен своей борьбой с болезнью бешенства. Но прививки от бешенства – это итог. Помимо изучения процесса брожения и решения векового спора о «самозарождении», Пастер прославил своё имя исследованиями болезней вина и пива, шелковичных червей, вопросов инфекции и применения вакцин. Сейчас часто говорят о связи учёного с жизнью. Луи Пастер не «связывался», а просто жил жизнью своего народа. Так он спас виноделов и шелководов Франции от разорения, так он спасал жизнь солдат, искалеченных немецкими снарядами во время франко-прусской войны. Доктор Бакер писал: «В настоящее время работник в мастерской, учёный в лаборатории, земледелец в поле, медик у постели больного, ветеринар перед домашним животным, винодел перед суслом, пивовар перед брагой – все они руководствуются идеями Пастера. В дни, когда Тьер подписал позорный мир с Германией в 1871 году, он, гражданин и патриот, писал в статье «Почему Франция не сумела в опасный период найти истинно великих людей?»:
«Культ наук в самом высоком смысле слова, возможно, ещё более необходим для нравственного, чем для материального процветания нации… Жертва своей политической неустойчивости, Франция ничего не сделала для того, чтобы поддержать, распространить и развить достижения науки в нашей стране… Франция… уделяла лишь самое незначительное внимание своим высшим учебным заведениям… Наука повышает интеллектуальный и моральный уровень; наука способствует распространению и торжеству великих идей». В письме к матери, скромнейшей женщине, дочери простого огородника, он писал: «Я всегда соединял мысль о величии науки с величием Родины, которую ты вдохнула в меня». Он писал отцу, кожевеннику: «Тебе я обязан упорством в ежедневной работе… Ты чтил великих людей и великие дела: смотреть в высоту, искать новых знаний, стремиться к высшему – вот чему ты учил меня». Передо мной фотография – седой старик с добрыми глазами, на груди которого колючками тонких лучей сверкает орден. Знаменитый парижский фотограф Надар сделал этот снимок на торжествах в Сорбонне в 1882 году, когда Пастеру исполнилось 60 лет.
Он дожил до дней своей славы. 25 тысяч документов, которые хранятся в его квартире, – это гимн благодарности людей всего земного шара великому французу. Листаю большую папку почётных грамот. 29 декабря 1893 года Пастер стал почётным членом русской Академии наук. Среди 60 приветствий из России на одной из грамот нахожу выцветшую подпись – Александр Столетов. Русские учёные не только отдавали дань уважения своему французскому коллеге – они были его учениками, помощниками. Первый среди них – Илья Ильич Мечников. Наверное, немногим известно, что урна с прахом великого русского биолога хранится в библиотеке Пастеровского института, в нескольких шагах от склепа, в котором похоронен Луи Пастер.
Он завещал своим ученикам: «Не высказывайте ничего, что не может быть доказано простыми и решительными опытами… Чтите дух критики, сам по себе он не пробуждает новых идей, не толкает к великим делам. Но без него все шатко. За ним всегда последнее слово. То, чего я требую от вас и чего вы, в свою очередь, потребуете от ваших учеников, – самое трудное для исследователя».
Ученики выполнили его заветы. Семена, брошенные Пастером, проросли не только на улице Ру, его имя принадлежит всему миру; и нельзя не вспомнить замечательные слова К. А. Тимирязева, который писал: «Грядущие поколения, конечно, дополнят дело Пастера, но… как бы далеко они ни зашли вперёд, они будут идти по проложенному им пути, а более этого в науке не может сделать даже гений».

Иван Павлов:

В сентябре 1959 года, когда в Сокольниках была открыта Американская национальная выставка, там поставили электронную машину «IBM. RAMAC 30 S», отвечающую на разные вопросы посетителей. Я задал машине такой вопрос: «Кто из советских учёных наиболее популярен в Соединённых Штатах?» Машина «подумала» и ответила: «Иван Павлов». Слава у этого человека была вселенская, коллеги избрали его старейшиной физиологов мира, о нём сняли фильм, его портреты писали известнейшие художники, целую полку книг о Павлове можно составить сегодня, добавить что-либо к этому – задача трудная.
Человек небольшого роста, худощавый, скромно, незаметно одетый, припадающий на одну ногу, но с выправкой офицера, левша, необычайно быстрый даже в старости, живой, но без старческой мелкой суетливости, с лицом то серьёзным, то насмешливым, но никогда бесстрастным – вот портрет-схема хозяина Колтушей. Американский врач Джон Келлог, вспоминая выступление Павлова в Баттл-Крине в 1923 году, писал: «Когда Павлов говорит, то не только голосом, но и мимикой стремится выразить свои мысли. Глаза его горят, мускулы лица непрестанно играют, изменяя ежесекундно выражение лица. Если бы он не был ведущим физиологом мира, он легко мог быть величайшим драматическим актёром».
А сам он говорил, что если бы не был учёным, то стал бы крестьянином. Он любил и уважал труд. Первый вопрос новому сотруднику, желавшему попасть в его лаборатории, был таким: «Сколько времени можете работать? Что может отвлечь? Семья? Жилищные трудности?» Это можно толковать как заботу о человеке, но гораздо больше здесь заботы о деле – своём деле и деле своего молодого товарища. Павлов был физиологом, как говорят, «от бога». Ничего, кроме науки, серьёзно его не интересовало. Если он собирал живопись или бабочек, то это была не страсть, не пожирающее мозг пламя коллекционирования, а вид отдыха. Он восхищался в Мадриде полотнами Гойи, но в Риме в музей не пошёл – не до картин тогда ему было.
Всемирно признанный учёный, он постоянно учится: в 69 лет он увлекается изучением психических заболеваний и каждое воскресенье посещает больницу, которой заведовал его друг доктор А. В. Тимофеев. В 80 лет он начинает изучать психологию.
В беседе с А. М. Горьким он развивает идею «рефлекса цели» – великого двигателя человеческой жизни. «Счастье человека – где-то между свободой и дисциплиной, – говорит он. – Одна свобода без строгой дисциплины и правила без чувства свободы не могут создать полноценную человеческую личность».
Через годы вспоминая встречу с этим удивительным седобородым человеком, Горький писал о нём: «И. П. Павлов был – и остаётся – одним из тех редчайших, мощно и тонко выработанных организмов, непрерывной функцией которых является изучение органической жизни. Он изумительно целостное существо, созданное природой как бы для познания самой себя».
«Целостное существо», Павлов был существом очень сложным, человеком нелёгким. Полагая его основателем блестящей школы физиологов, мы не можем не отметить, что работать с ним было трудно. Он был точен до педантичности и скрупулёзно аккуратен. Если жена передвигала какую-либо вещь на его столе на другое место, он выговаривал ей: «Она лежала не здесь. Где лежала, там и лежать должна!» Порядок вырабатывался на десятилетия. Всячески одобряя изобретательность и нестереотипность мышления своих сотрудников, приветствуя оригинальность и быстроту решений, Павлов тем не менее считал, что работа в целом должна идти лишь по пути, им намеченному, поощрял самостоятельность других лишь в рамках его собственных идей. Он делал это столь умело и тонко, что многие не замечали созданной им атмосферы интеллектуального единовластия, тем более что Павлов в работе не терпел никакого внешнего чинопочитания.
Очень сложно эволюционировало отношение великого учёного к Советской власти. Вскоре после Октябрьской революции он заявляет о своём решении уехать за границу. Это сообщение очень огорчило В. И. Ленина. А. М. Горькому удаётся уговорить Павлова остаться в Петрограде. 24 января 1921 года В. И. Ленин подписал специальный декрет «Об условиях, обеспечивающих научную работу академика И. П. Павлова и его сотрудников». И всё-таки некоторое время Павлов настроен по отношению к новой власти враждебно, в чём повинно в немалой степени и его окружение тех лет. Постепенно враждебность сменяется иронией. Он устраивает маленькие демонстрации: в институте не признают пятидневку и отдыхают только по воскресеньям, лаборатории закрываются во время религиозных праздников. Ирония вытесняется интересом к новой жизни, на смену которому приходит её полное и горячее признание, нашедшее своё образное выражение в знаменитом письме Павлова к молодёжи – искреннем призыве великого учёного умножать честь и славу своей Советской Родины. Этот путь был сложен и неровен, но это был путь честного человека. Именно поэтому так ценен его итог.
Иван Петрович Павлов жил и умер как физиолог. Он всегда рассматривал и себя самого несколько отвлечённо, просто как некий живой организм. В 78 лет он после перенесённой операции ставил на себе опыты, выясняя причины перебоев в работе сердца. Профессору Д. А. Бирюкову Павлов говорил о себе: «Как всё-таки снизилась у меня реактивность коры, я теперь многое понял с этим постарением…» Наблюдать – значило работать, то есть жить. Слова, которые стоят в заголовке этого этюда, он приказал выбить на главном здании биологической станции в Колтушах. Они были его девизом до конца дней. За несколько часов до смерти он почувствовал, что теряет контроль над своими мыслями, и попросил, чтобы пришёл невропатолог. Получив от врача разъяснения, он остался доволен, успокоился, заснул. Через несколько часов он умер.
«Павлов – это звезда, которая освещает мир, проливает свет на ещё неизведанные пути», – писал Герберт Уэллс. По этим путям в свете этой звезды идут сегодня другие.

Николай Пирогов:

В своих мемуарах Пирогов вспоминал, что в детстве, насмотревшись на врачей, лечивших его брата, он любил играть в доктора. Семья была огромная: Николай – тринадцатый ребёнок, «юнейший в доме отца», как писал он, и недостатка в «пациентах» у него не было. И потом всю жизнь у него не было недостатка в пациентах. До наших дней остался он русским врачом № 1, и не только потому, что обладал он великим талантом врачевателя и обогатил медицину смелыми решениями хирурга, но и потому ещё, что звание первого русского врача присвоено ему было за душевную чистоту, человеческую отвагу, смелость в бою и споре, за правду во всём – и в науке и в жизни.
Николай Иванович Пирогов родился 13 ноября 1810 года в Москве. Он не помнил войны и бегства во Владимир. И первые воспоминания детства были самые идиллические: беседки в саду, крокет, книжки с весёлыми карикатурами на французов, частный московский пансион. Ласковое и тёплое благополучие предполагало детскую неприспособленность, но целый водопад несчастий, который обрушился на их семью, заставил его рано повзрослеть. Умерли брат и сестра, другой брат растратил казённые деньги, надо было срочно выплачивать. А тут ещё растрату совершил один из подчинённых отца, и Пирогова не только выгнали из Провиантского депо, но и потребовали возместить растрату. Случилось то, что в старинных романах называлось полным разорением семейства.
Продолжать учёбу в пансионе Николай не мог: нечем было платить. Мальчик, вчера ещё игравший в солдатики, пишет прошение о приёме в университет, утверждает, что ему уже 16 лет. А ему было 14, и после вступительных экзаменов он по-ребячьи радовался, когда отец угощал его в кондитерской шоколадом.
Выбор факультета был достаточно случайным: профессор Мухин, друг дома, присоветовал медицинский. Он учился, однако, довольно хорошо, и, удивительное дело, этого «маменькиного сыночка» не сбил, не закрутил лихой водоворот неизвестной дотоле мальчишеской свободы и самостоятельности, когда в трубочном дыму кутежа и впрямь видишь себя зрелым и многоопытным. Он быстро взрослел, но не во внешних, зримых проявлениях, а нравственно и умственно.
После смерти отца семья просто бедствовала. «Как я или лучше мы, – писал Пирогов, – пронищенствовали в Москве во время моего студенчества, это для меня осталось загадкой».
После окончания университета он работает в Дерпте, кончает, по теперешним нашим понятиям, что-то вроде аспирантуры, доучивается в Берлине, даже не доучивается, а шлифуется там как врач, стараясь перенять у опытных хирургов некоторые профессиональные приёмы – мелкие, но важные секреты маcтерства. «Лангенбек, – вспоминает Пирогов лучшего из своих наставников, – научил меня не держать ножа полной рукой, кулаком, не давить на него, а тянуть как смычок по разрезываемой ткани. И я строго соблюдал это правило во все времена моей хирургической практики…»
В жизни и трудах Пирогова трудно отыскать неожиданные взлёты. Искусство и знания хирурга не приходят с минутным озарением. Он набирал высоту медленно и неуклонно. Позднее он так оценивал своих наставников в этот период созревания в нём специалиста и человека: «Для учителя такой прикладной науки, как медицина… необходима, кроме научных знаний и опытности, ещё добросовестность, приобретаемая только искусством самосознания, самообладания и знания человеческой натуры».
Как, каким образом, посредством каких примеров шло это нравственное воспитание, сказать трудно. Ясно только, что наставники Пирогова были не только опытными врачами или искусными лекторами, не только научили его тянуть скальпель «как смычок», но и воспитали в нём человека, заложив в нравственную основу его характера те зерна гражданственности, которые потом, когда сам Пирогов стал воспитателем молодёжи, дали такие богатые всходы.
По словам одного из биографов, Пирогов считал, что путь к кафедре хирургии лежит через анатомический театр, а не через заднее крыльцо министерских квартир.
В Дерпте он стал профессором хирургии. «Матушку и сестёр, – пишет Пирогов, – я не решался перевести из Москвы в Дерпт. Такой переход, мне казалось, был бы для них впоследствии неприятен. И язык, и нравы, и вся обстановка слишком отличны, а мать и сестры слишком стары, а главное, слишком москвички, чтобы привыкнуть и освоиться…» Да и самому ему не так-то легко освоиться поначалу. Плохой немецкий язык, на котором читал он лекции, вызывал насмешки студентов. Но очень скоро искренность, простота и демократизм нового профессора делают его любимцем университета. «Правду сказать, – пишет один из его слушателей, – удивительно было, да и редко вообще может случиться, чтобы человек, встреченный с негодованием, в течение нескольких недель сделался многоуважаемым, любимым массою молодых людей».
Все налаживалось у него в Дерпте, съездил за границу, познакомился со знаменитыми врачами, с удивлением узнал, что его знают, читают его труды, да, все налаживалось, когда пригласили его в Петербург, в Медико-хирургическую академию. Он согласился, не зная ещё, как трудно ему придётся, какое это запущенное, погрязшее в воровстве и казнокрадстве учреждение, которое и медицинским-то называть неловко.
Он работает много и упорно. Постепенно налаживает госпитальное хозяйство. Снова начинает заниматься наукой. Здесь, в академии, впервые в России Пирогов создаёт, по существу, новое направление в медицине – анатомо-экспериментальную хирургию.
Как живёт он в эти годы? Из чего складываются дни его? Как он отдыхает? Вот как он сам отвечает на эти вопросы: «Целое утро в госпиталях, операции и перевязки оперированных, потом в покойницкой Обуховской больницы – приготовление препаратов для вечерних лекций. Лишь только темнело (в Петербурге зимой между 3-4 часами), бегу в трактир на углу Сенной и ем пироги с подливкой. Вечером, в семь, опять в покойницкую и там до 9… Так изо дня в день. Меня не тяготила эта жизнь…» Да, тяготило его другое. «Научная истина далеко не есть главная цель знаменитых клиницистов и хирургов», – делает он для себя неожиданное и горькое открытие.
Пирогов стремится во всех деяниях к ясности и абсолютной честности. Он сам разбирает собственные ошибки на лекциях. Он многократно проверяет теорию в больнице. Он едет на Кавказ и там в полевых лазаретах впервые в мире сто раз применяет наркоз при операциях. Не человек идёт к медицине у Пирогова, а медицина к человеку.
Началась Крымская война. Конечно, вы знаете, как работал в эти годы великий хирург, который настоятельно требовал в своём прошении, чтобы ему дозволено было «употребить все свои силы и познания для пользы армии на боевом поле»… Об этом написано много, даже в кинофильме об обороне Севастополя целые эпизоды отданы Пирогову. Из 5400 ампутаций в осаждённом городе им лично и при его участии было сделано 5 тысяч. Пирогов в Севастополе, в самом пекле. Здесь особенно остро поражают его чиновничье равнодушие и бюрократизм. «Я должен был, – вспоминает он, – неустанно жаловаться, требовать и писать». Петербургский профессор становится здесь военным организатором. «Врач… должен прежде всего действовать административно, а потом врачебно», – отмечает Пирогов, понимая, что даже самые блестящие способности хирурга навряд ли принесут кому-нибудь пользу, если будет хромать организация медицинской помощи.
Все более задумывается он о человеке не как о биологическом объекте приложения своего хирургического искусства, но как о личности, о единице того сложного множества, которое именуется обществом.
Тут задумывается он впервые над проблемами образования и воспитания, которым в будущем посвятит он так много сил и трудов. «Никогда не нуждалась истинная специальность так сильно в предварительном общечеловеческом образовании, как именно в наш век», – утверждает Пирогов. «Все должны сначала научиться быть людьми» – эти слова становятся его девизом.
Пирогов страстно, убеждённо настаивает: «Дайте созреть и окрепнуть внутреннему человеку, наружный успеет ещё действовать. Выходя позже, он будет, может быть, не так сговорчив и уклончив, но зато на него можно будет положиться: не за своё не возьмётся. Дайте выработаться и развиться внутреннему человеку! Дайте ему время и средства подчинить себе наружного, и у вас будут и негоцианты, и солдаты, и моряки, и юристы, а главное – у вас будут люди и граждане».
Пирогов, который лучше многих и многих понимал, как важны глубокие специальные знания в облюбованном тобою деле, всё-таки высказывает мысль о необходимости образования самого широкого плана. «Все до известного периода жизни, в котором ясно обозначаются их склонности и их таланты, должны пользоваться плодами одного и того же нравственно-научного просвещения».
Пирогов жил и работал сто лет назад. За это время и теория и практика хирургии изменились неузнаваемо. Возможно, некоторые специальные советы и наставления великого хирурга могут вызвать улыбку у какого-нибудь студента какого-нибудь медицинского института. Но мысли Николая Ивановича о воспитании и просвещении, мне думается, не устарели и поныне, когда наша школа – и средняя и высшая – занята серьёзными проблемами своего совершенствования и переустройства. Здесь Пирогов для нас советчик очень нужный, очень, я бы сказал, современный.
Сколько диспутов проводили мы, например, об инфантилизме, нерешительности, поздней выработке в молодом человеке прочных убеждений! Послушайте, как точно говорил об этом Пирогов:
«Если вы уже научились иметь убеждения и если вы уже имеете убеждение, что деятельность ваша будет полезна, – тогда, никого не спрашиваясь, верьте себе, и труды ваши будут именно тем, чем вы хотите, чтобы они были. Если нет, то ни советы, ни одобрения не помогут. Дело без внутреннего убеждения, выработанного наукой самосознания, всё равно что дерево без корня. Оно годится на дрова, но расти не будет».
И естествен, логичен переход Пирогова от помощи физической к помощи нравственной, от лечения одного к оздоровлению многих. После войны он становится попечителем сначала Одесского, затем Киевского учебного округа. Ему легко работать с молодёжью. «Я принадлежу к тем счастливым людям, которые помнят свою молодость, – говорил Пирогов. – Ещё счастливее я тем, что она не прошла для меня понапрасну. От этого я, стараясь, не утратил способность понимать и чужую молодость, любить и, главное, уважать её».
Впрочем, его ещё нельзя было назвать стариком, когда удалился он от дел в свой последний приют – имение в селе Вишня (ныне Пирогово) под Винницей. Он бодр ещё и не сразу обратил внимание на в общем-то пустячное как будто заболевание. Его тревожат какие-то язвочки во рту. Напрасно московские врачи, отметившие 50-летие его научной деятельности с большим торжеством, успокаивают известного хирурга. Вернувшись домой, он ставит свой последний в жизни диагноз, на этот раз диагноз самому себе. Сохранилась совсем короткая записка: «Ни Склифосовский, Валь и Грубе, ни Бильрот не узнали у меня ползучую раковую язву слизистой оболочки рта. Иначе первые три не советовали бы операции, а второй не признал бы болезнь за доброкачественную. П и р о г о в. 1881 г., окт. 27». Через 26 дней он умер. Забальзамированное тело его в стеклянном гробу положили в склеп. И сегодня вы можете увидеть Пирогова в этом склепе под Винницей.
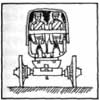
Николай Пржевальский:

Чехов писал: «Таких людей, как Пржевальский, я люблю бесконечно…» Я прочитал и сначала удивился: ведь они такие разные! Помещичий сын, с детства окружённый раболепствующими дворовыми. Офицер, выигрывавший сотни, тысячи рублей в карты. Нелюдим, человек грубый, иногда даже жестокий, деспотичный, равнодушный к театру и литературе, женоненавистник – как мог Чехов полюбить такого? Пржевальский ворчит и недоволен всеми. «Общая характеристика петербургской жизни – на грош дела, на рубль суматохи», – пишет он о городе. «Крестьяне, как и везде, пьяницы и лентяи, с каждым днём всё хуже и хуже», – пишет он о деревне. Иронизирует: «В блага цивилизации не особенно верю». Он называет своё время «огульно развратным». Что могло привлечь Чехова, всю жизнь радостно искавшего и находившего прекрасное в человеке, в авторе подобных категорических оценок?
Читаешь о Пржевальском, листаешь книги и то там, то здесь обнаруживаешь удивительные контрасты. Ах, какой это был сложный, противоречивый, трудный и прекрасный человек! Как непохож он на того бодрячка офицера, которого лет пятнадцать-двадцать назад показывали в кино! Как удобно биографам, каждому на свой вкус, лепить из него то нелюдима-пустынника, то восторженного романтика! В его характере так много самого разного, что отыскать можно все.
Да, крепостник, да, помещик. Но помещик, непохожий на помещиков. Его совершенно не интересовали доходы с его имения. Свои собственные деньги никогда не копил, ни разу не «вкладывал в дело» – напротив, раздавал всё, что имел: матери, дядьке, старой няньке своей. Презирал любителей племенных рысаков, открыто издевался над бобровыми шинелями.
Чётким, прямым почерком сделаны рукой Пастера этикетки на лабораторных склянках. Чёрные чернила выцвели и порыжели – ведь они высохли больше ста лет назад. Пастер занимался тогда исследованием процессов брожения вина. Это был важнейший шаг на пути решения проблемы «самозарождения», многие десятилетия обсуждавшейся естествоиспытателями разных стран. Споры о том, существует или нет «самозарождение» живых организмов, разгорались как пламя, перебрасывались из лабораторий в гостиные аристократов, эхом, иногда нелепо искажённым, гремели в газетах и журналах.
Пастер не спорил – Пастер работал. Это были годы кропотливого труда, годы мучительной борьбы не только со своими противниками, которым нет числа, но и с собой. Ещё сегодня он плакал от радости – так удачен был завершённый опыт, а назавтра уже обвинял себя в недобросовестности эксперимента.
«Думать, что открыл важный факт, томиться лихорадочной жаждой возвестить о нём и сдерживать себя днями, неделями, годами, бороться с самим собой, стараться разрушить собственные опыты и не объявлять о своём открытии, пока не исчерпал всех противоположных гипотез, – да, это тяжёлая задача». Я прочёл эти слова в лаборатории Пастера и подумал, что знать их и помнить о них надо каждому, кто решил отдать себя науке. Сто лет назад, сегодня, всегда…
Здесь, в лаборатории, открывается новая грань таланта этого удивительного человека. Тонкий экспериментатор был недюжинным изобретателем. Колба Пастера – хрупкое сооружение с длинным, причудливо выгнутым носиком. Более ста лет назад в неё налили молодое вино. Оно не скисло до сих пор – секрет формы колбы бережёт его от микробов брожения. А вот конденсатор оригинальной конструкции, рядом горящий медным жаром автоклав, первый автоклав, построенный учеником Пастера Шамберленом, который топился, как утюг, древесным углём, вакуумный насос – тоже собственное изобретение. Химик, биолог, врач не чурался инженерных задач.
Луи Пастер наиболее широко известен своей борьбой с болезнью бешенства. Но прививки от бешенства – это итог. Помимо изучения процесса брожения и решения векового спора о «самозарождении», Пастер прославил своё имя исследованиями болезней вина и пива, шелковичных червей, вопросов инфекции и применения вакцин. Сейчас часто говорят о связи учёного с жизнью. Луи Пастер не «связывался», а просто жил жизнью своего народа. Так он спас виноделов и шелководов Франции от разорения, так он спасал жизнь солдат, искалеченных немецкими снарядами во время франко-прусской войны. Доктор Бакер писал: «В настоящее время работник в мастерской, учёный в лаборатории, земледелец в поле, медик у постели больного, ветеринар перед домашним животным, винодел перед суслом, пивовар перед брагой – все они руководствуются идеями Пастера. В дни, когда Тьер подписал позорный мир с Германией в 1871 году, он, гражданин и патриот, писал в статье «Почему Франция не сумела в опасный период найти истинно великих людей?»:
«Культ наук в самом высоком смысле слова, возможно, ещё более необходим для нравственного, чем для материального процветания нации… Жертва своей политической неустойчивости, Франция ничего не сделала для того, чтобы поддержать, распространить и развить достижения науки в нашей стране… Франция… уделяла лишь самое незначительное внимание своим высшим учебным заведениям… Наука повышает интеллектуальный и моральный уровень; наука способствует распространению и торжеству великих идей». В письме к матери, скромнейшей женщине, дочери простого огородника, он писал: «Я всегда соединял мысль о величии науки с величием Родины, которую ты вдохнула в меня». Он писал отцу, кожевеннику: «Тебе я обязан упорством в ежедневной работе… Ты чтил великих людей и великие дела: смотреть в высоту, искать новых знаний, стремиться к высшему – вот чему ты учил меня». Передо мной фотография – седой старик с добрыми глазами, на груди которого колючками тонких лучей сверкает орден. Знаменитый парижский фотограф Надар сделал этот снимок на торжествах в Сорбонне в 1882 году, когда Пастеру исполнилось 60 лет.
Он дожил до дней своей славы. 25 тысяч документов, которые хранятся в его квартире, – это гимн благодарности людей всего земного шара великому французу. Листаю большую папку почётных грамот. 29 декабря 1893 года Пастер стал почётным членом русской Академии наук. Среди 60 приветствий из России на одной из грамот нахожу выцветшую подпись – Александр Столетов. Русские учёные не только отдавали дань уважения своему французскому коллеге – они были его учениками, помощниками. Первый среди них – Илья Ильич Мечников. Наверное, немногим известно, что урна с прахом великого русского биолога хранится в библиотеке Пастеровского института, в нескольких шагах от склепа, в котором похоронен Луи Пастер.
Он завещал своим ученикам: «Не высказывайте ничего, что не может быть доказано простыми и решительными опытами… Чтите дух критики, сам по себе он не пробуждает новых идей, не толкает к великим делам. Но без него все шатко. За ним всегда последнее слово. То, чего я требую от вас и чего вы, в свою очередь, потребуете от ваших учеников, – самое трудное для исследователя».
Ученики выполнили его заветы. Семена, брошенные Пастером, проросли не только на улице Ру, его имя принадлежит всему миру; и нельзя не вспомнить замечательные слова К. А. Тимирязева, который писал: «Грядущие поколения, конечно, дополнят дело Пастера, но… как бы далеко они ни зашли вперёд, они будут идти по проложенному им пути, а более этого в науке не может сделать даже гений».

Иван Павлов:
«НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ, НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ И НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ»

В сентябре 1959 года, когда в Сокольниках была открыта Американская национальная выставка, там поставили электронную машину «IBM. RAMAC 30 S», отвечающую на разные вопросы посетителей. Я задал машине такой вопрос: «Кто из советских учёных наиболее популярен в Соединённых Штатах?» Машина «подумала» и ответила: «Иван Павлов». Слава у этого человека была вселенская, коллеги избрали его старейшиной физиологов мира, о нём сняли фильм, его портреты писали известнейшие художники, целую полку книг о Павлове можно составить сегодня, добавить что-либо к этому – задача трудная.
Человек небольшого роста, худощавый, скромно, незаметно одетый, припадающий на одну ногу, но с выправкой офицера, левша, необычайно быстрый даже в старости, живой, но без старческой мелкой суетливости, с лицом то серьёзным, то насмешливым, но никогда бесстрастным – вот портрет-схема хозяина Колтушей. Американский врач Джон Келлог, вспоминая выступление Павлова в Баттл-Крине в 1923 году, писал: «Когда Павлов говорит, то не только голосом, но и мимикой стремится выразить свои мысли. Глаза его горят, мускулы лица непрестанно играют, изменяя ежесекундно выражение лица. Если бы он не был ведущим физиологом мира, он легко мог быть величайшим драматическим актёром».
А сам он говорил, что если бы не был учёным, то стал бы крестьянином. Он любил и уважал труд. Первый вопрос новому сотруднику, желавшему попасть в его лаборатории, был таким: «Сколько времени можете работать? Что может отвлечь? Семья? Жилищные трудности?» Это можно толковать как заботу о человеке, но гораздо больше здесь заботы о деле – своём деле и деле своего молодого товарища. Павлов был физиологом, как говорят, «от бога». Ничего, кроме науки, серьёзно его не интересовало. Если он собирал живопись или бабочек, то это была не страсть, не пожирающее мозг пламя коллекционирования, а вид отдыха. Он восхищался в Мадриде полотнами Гойи, но в Риме в музей не пошёл – не до картин тогда ему было.
Всемирно признанный учёный, он постоянно учится: в 69 лет он увлекается изучением психических заболеваний и каждое воскресенье посещает больницу, которой заведовал его друг доктор А. В. Тимофеев. В 80 лет он начинает изучать психологию.
В беседе с А. М. Горьким он развивает идею «рефлекса цели» – великого двигателя человеческой жизни. «Счастье человека – где-то между свободой и дисциплиной, – говорит он. – Одна свобода без строгой дисциплины и правила без чувства свободы не могут создать полноценную человеческую личность».
Через годы вспоминая встречу с этим удивительным седобородым человеком, Горький писал о нём: «И. П. Павлов был – и остаётся – одним из тех редчайших, мощно и тонко выработанных организмов, непрерывной функцией которых является изучение органической жизни. Он изумительно целостное существо, созданное природой как бы для познания самой себя».
«Целостное существо», Павлов был существом очень сложным, человеком нелёгким. Полагая его основателем блестящей школы физиологов, мы не можем не отметить, что работать с ним было трудно. Он был точен до педантичности и скрупулёзно аккуратен. Если жена передвигала какую-либо вещь на его столе на другое место, он выговаривал ей: «Она лежала не здесь. Где лежала, там и лежать должна!» Порядок вырабатывался на десятилетия. Всячески одобряя изобретательность и нестереотипность мышления своих сотрудников, приветствуя оригинальность и быстроту решений, Павлов тем не менее считал, что работа в целом должна идти лишь по пути, им намеченному, поощрял самостоятельность других лишь в рамках его собственных идей. Он делал это столь умело и тонко, что многие не замечали созданной им атмосферы интеллектуального единовластия, тем более что Павлов в работе не терпел никакого внешнего чинопочитания.
Очень сложно эволюционировало отношение великого учёного к Советской власти. Вскоре после Октябрьской революции он заявляет о своём решении уехать за границу. Это сообщение очень огорчило В. И. Ленина. А. М. Горькому удаётся уговорить Павлова остаться в Петрограде. 24 января 1921 года В. И. Ленин подписал специальный декрет «Об условиях, обеспечивающих научную работу академика И. П. Павлова и его сотрудников». И всё-таки некоторое время Павлов настроен по отношению к новой власти враждебно, в чём повинно в немалой степени и его окружение тех лет. Постепенно враждебность сменяется иронией. Он устраивает маленькие демонстрации: в институте не признают пятидневку и отдыхают только по воскресеньям, лаборатории закрываются во время религиозных праздников. Ирония вытесняется интересом к новой жизни, на смену которому приходит её полное и горячее признание, нашедшее своё образное выражение в знаменитом письме Павлова к молодёжи – искреннем призыве великого учёного умножать честь и славу своей Советской Родины. Этот путь был сложен и неровен, но это был путь честного человека. Именно поэтому так ценен его итог.
Иван Петрович Павлов жил и умер как физиолог. Он всегда рассматривал и себя самого несколько отвлечённо, просто как некий живой организм. В 78 лет он после перенесённой операции ставил на себе опыты, выясняя причины перебоев в работе сердца. Профессору Д. А. Бирюкову Павлов говорил о себе: «Как всё-таки снизилась у меня реактивность коры, я теперь многое понял с этим постарением…» Наблюдать – значило работать, то есть жить. Слова, которые стоят в заголовке этого этюда, он приказал выбить на главном здании биологической станции в Колтушах. Они были его девизом до конца дней. За несколько часов до смерти он почувствовал, что теряет контроль над своими мыслями, и попросил, чтобы пришёл невропатолог. Получив от врача разъяснения, он остался доволен, успокоился, заснул. Через несколько часов он умер.
«Павлов – это звезда, которая освещает мир, проливает свет на ещё неизведанные пути», – писал Герберт Уэллс. По этим путям в свете этой звезды идут сегодня другие.

Николай Пирогов:
«МЫСЛИТЬ У ПОСТЕЛИ БОЛЬНОГО»

В своих мемуарах Пирогов вспоминал, что в детстве, насмотревшись на врачей, лечивших его брата, он любил играть в доктора. Семья была огромная: Николай – тринадцатый ребёнок, «юнейший в доме отца», как писал он, и недостатка в «пациентах» у него не было. И потом всю жизнь у него не было недостатка в пациентах. До наших дней остался он русским врачом № 1, и не только потому, что обладал он великим талантом врачевателя и обогатил медицину смелыми решениями хирурга, но и потому ещё, что звание первого русского врача присвоено ему было за душевную чистоту, человеческую отвагу, смелость в бою и споре, за правду во всём – и в науке и в жизни.
Николай Иванович Пирогов родился 13 ноября 1810 года в Москве. Он не помнил войны и бегства во Владимир. И первые воспоминания детства были самые идиллические: беседки в саду, крокет, книжки с весёлыми карикатурами на французов, частный московский пансион. Ласковое и тёплое благополучие предполагало детскую неприспособленность, но целый водопад несчастий, который обрушился на их семью, заставил его рано повзрослеть. Умерли брат и сестра, другой брат растратил казённые деньги, надо было срочно выплачивать. А тут ещё растрату совершил один из подчинённых отца, и Пирогова не только выгнали из Провиантского депо, но и потребовали возместить растрату. Случилось то, что в старинных романах называлось полным разорением семейства.
Продолжать учёбу в пансионе Николай не мог: нечем было платить. Мальчик, вчера ещё игравший в солдатики, пишет прошение о приёме в университет, утверждает, что ему уже 16 лет. А ему было 14, и после вступительных экзаменов он по-ребячьи радовался, когда отец угощал его в кондитерской шоколадом.
Выбор факультета был достаточно случайным: профессор Мухин, друг дома, присоветовал медицинский. Он учился, однако, довольно хорошо, и, удивительное дело, этого «маменькиного сыночка» не сбил, не закрутил лихой водоворот неизвестной дотоле мальчишеской свободы и самостоятельности, когда в трубочном дыму кутежа и впрямь видишь себя зрелым и многоопытным. Он быстро взрослел, но не во внешних, зримых проявлениях, а нравственно и умственно.
После смерти отца семья просто бедствовала. «Как я или лучше мы, – писал Пирогов, – пронищенствовали в Москве во время моего студенчества, это для меня осталось загадкой».
После окончания университета он работает в Дерпте, кончает, по теперешним нашим понятиям, что-то вроде аспирантуры, доучивается в Берлине, даже не доучивается, а шлифуется там как врач, стараясь перенять у опытных хирургов некоторые профессиональные приёмы – мелкие, но важные секреты маcтерства. «Лангенбек, – вспоминает Пирогов лучшего из своих наставников, – научил меня не держать ножа полной рукой, кулаком, не давить на него, а тянуть как смычок по разрезываемой ткани. И я строго соблюдал это правило во все времена моей хирургической практики…»
В жизни и трудах Пирогова трудно отыскать неожиданные взлёты. Искусство и знания хирурга не приходят с минутным озарением. Он набирал высоту медленно и неуклонно. Позднее он так оценивал своих наставников в этот период созревания в нём специалиста и человека: «Для учителя такой прикладной науки, как медицина… необходима, кроме научных знаний и опытности, ещё добросовестность, приобретаемая только искусством самосознания, самообладания и знания человеческой натуры».
Как, каким образом, посредством каких примеров шло это нравственное воспитание, сказать трудно. Ясно только, что наставники Пирогова были не только опытными врачами или искусными лекторами, не только научили его тянуть скальпель «как смычок», но и воспитали в нём человека, заложив в нравственную основу его характера те зерна гражданственности, которые потом, когда сам Пирогов стал воспитателем молодёжи, дали такие богатые всходы.
По словам одного из биографов, Пирогов считал, что путь к кафедре хирургии лежит через анатомический театр, а не через заднее крыльцо министерских квартир.
В Дерпте он стал профессором хирургии. «Матушку и сестёр, – пишет Пирогов, – я не решался перевести из Москвы в Дерпт. Такой переход, мне казалось, был бы для них впоследствии неприятен. И язык, и нравы, и вся обстановка слишком отличны, а мать и сестры слишком стары, а главное, слишком москвички, чтобы привыкнуть и освоиться…» Да и самому ему не так-то легко освоиться поначалу. Плохой немецкий язык, на котором читал он лекции, вызывал насмешки студентов. Но очень скоро искренность, простота и демократизм нового профессора делают его любимцем университета. «Правду сказать, – пишет один из его слушателей, – удивительно было, да и редко вообще может случиться, чтобы человек, встреченный с негодованием, в течение нескольких недель сделался многоуважаемым, любимым массою молодых людей».
Все налаживалось у него в Дерпте, съездил за границу, познакомился со знаменитыми врачами, с удивлением узнал, что его знают, читают его труды, да, все налаживалось, когда пригласили его в Петербург, в Медико-хирургическую академию. Он согласился, не зная ещё, как трудно ему придётся, какое это запущенное, погрязшее в воровстве и казнокрадстве учреждение, которое и медицинским-то называть неловко.
Он работает много и упорно. Постепенно налаживает госпитальное хозяйство. Снова начинает заниматься наукой. Здесь, в академии, впервые в России Пирогов создаёт, по существу, новое направление в медицине – анатомо-экспериментальную хирургию.
Как живёт он в эти годы? Из чего складываются дни его? Как он отдыхает? Вот как он сам отвечает на эти вопросы: «Целое утро в госпиталях, операции и перевязки оперированных, потом в покойницкой Обуховской больницы – приготовление препаратов для вечерних лекций. Лишь только темнело (в Петербурге зимой между 3-4 часами), бегу в трактир на углу Сенной и ем пироги с подливкой. Вечером, в семь, опять в покойницкую и там до 9… Так изо дня в день. Меня не тяготила эта жизнь…» Да, тяготило его другое. «Научная истина далеко не есть главная цель знаменитых клиницистов и хирургов», – делает он для себя неожиданное и горькое открытие.
Пирогов стремится во всех деяниях к ясности и абсолютной честности. Он сам разбирает собственные ошибки на лекциях. Он многократно проверяет теорию в больнице. Он едет на Кавказ и там в полевых лазаретах впервые в мире сто раз применяет наркоз при операциях. Не человек идёт к медицине у Пирогова, а медицина к человеку.
Началась Крымская война. Конечно, вы знаете, как работал в эти годы великий хирург, который настоятельно требовал в своём прошении, чтобы ему дозволено было «употребить все свои силы и познания для пользы армии на боевом поле»… Об этом написано много, даже в кинофильме об обороне Севастополя целые эпизоды отданы Пирогову. Из 5400 ампутаций в осаждённом городе им лично и при его участии было сделано 5 тысяч. Пирогов в Севастополе, в самом пекле. Здесь особенно остро поражают его чиновничье равнодушие и бюрократизм. «Я должен был, – вспоминает он, – неустанно жаловаться, требовать и писать». Петербургский профессор становится здесь военным организатором. «Врач… должен прежде всего действовать административно, а потом врачебно», – отмечает Пирогов, понимая, что даже самые блестящие способности хирурга навряд ли принесут кому-нибудь пользу, если будет хромать организация медицинской помощи.
Все более задумывается он о человеке не как о биологическом объекте приложения своего хирургического искусства, но как о личности, о единице того сложного множества, которое именуется обществом.
Тут задумывается он впервые над проблемами образования и воспитания, которым в будущем посвятит он так много сил и трудов. «Никогда не нуждалась истинная специальность так сильно в предварительном общечеловеческом образовании, как именно в наш век», – утверждает Пирогов. «Все должны сначала научиться быть людьми» – эти слова становятся его девизом.
Пирогов страстно, убеждённо настаивает: «Дайте созреть и окрепнуть внутреннему человеку, наружный успеет ещё действовать. Выходя позже, он будет, может быть, не так сговорчив и уклончив, но зато на него можно будет положиться: не за своё не возьмётся. Дайте выработаться и развиться внутреннему человеку! Дайте ему время и средства подчинить себе наружного, и у вас будут и негоцианты, и солдаты, и моряки, и юристы, а главное – у вас будут люди и граждане».
Пирогов, который лучше многих и многих понимал, как важны глубокие специальные знания в облюбованном тобою деле, всё-таки высказывает мысль о необходимости образования самого широкого плана. «Все до известного периода жизни, в котором ясно обозначаются их склонности и их таланты, должны пользоваться плодами одного и того же нравственно-научного просвещения».
Пирогов жил и работал сто лет назад. За это время и теория и практика хирургии изменились неузнаваемо. Возможно, некоторые специальные советы и наставления великого хирурга могут вызвать улыбку у какого-нибудь студента какого-нибудь медицинского института. Но мысли Николая Ивановича о воспитании и просвещении, мне думается, не устарели и поныне, когда наша школа – и средняя и высшая – занята серьёзными проблемами своего совершенствования и переустройства. Здесь Пирогов для нас советчик очень нужный, очень, я бы сказал, современный.
Сколько диспутов проводили мы, например, об инфантилизме, нерешительности, поздней выработке в молодом человеке прочных убеждений! Послушайте, как точно говорил об этом Пирогов:
«Если вы уже научились иметь убеждения и если вы уже имеете убеждение, что деятельность ваша будет полезна, – тогда, никого не спрашиваясь, верьте себе, и труды ваши будут именно тем, чем вы хотите, чтобы они были. Если нет, то ни советы, ни одобрения не помогут. Дело без внутреннего убеждения, выработанного наукой самосознания, всё равно что дерево без корня. Оно годится на дрова, но расти не будет».
И естествен, логичен переход Пирогова от помощи физической к помощи нравственной, от лечения одного к оздоровлению многих. После войны он становится попечителем сначала Одесского, затем Киевского учебного округа. Ему легко работать с молодёжью. «Я принадлежу к тем счастливым людям, которые помнят свою молодость, – говорил Пирогов. – Ещё счастливее я тем, что она не прошла для меня понапрасну. От этого я, стараясь, не утратил способность понимать и чужую молодость, любить и, главное, уважать её».
Впрочем, его ещё нельзя было назвать стариком, когда удалился он от дел в свой последний приют – имение в селе Вишня (ныне Пирогово) под Винницей. Он бодр ещё и не сразу обратил внимание на в общем-то пустячное как будто заболевание. Его тревожат какие-то язвочки во рту. Напрасно московские врачи, отметившие 50-летие его научной деятельности с большим торжеством, успокаивают известного хирурга. Вернувшись домой, он ставит свой последний в жизни диагноз, на этот раз диагноз самому себе. Сохранилась совсем короткая записка: «Ни Склифосовский, Валь и Грубе, ни Бильрот не узнали у меня ползучую раковую язву слизистой оболочки рта. Иначе первые три не советовали бы операции, а второй не признал бы болезнь за доброкачественную. П и р о г о в. 1881 г., окт. 27». Через 26 дней он умер. Забальзамированное тело его в стеклянном гробу положили в склеп. И сегодня вы можете увидеть Пирогова в этом склепе под Винницей.
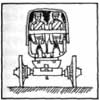
Николай Пржевальский:
«ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ БЛАГО – СВОБОДА»

Чехов писал: «Таких людей, как Пржевальский, я люблю бесконечно…» Я прочитал и сначала удивился: ведь они такие разные! Помещичий сын, с детства окружённый раболепствующими дворовыми. Офицер, выигрывавший сотни, тысячи рублей в карты. Нелюдим, человек грубый, иногда даже жестокий, деспотичный, равнодушный к театру и литературе, женоненавистник – как мог Чехов полюбить такого? Пржевальский ворчит и недоволен всеми. «Общая характеристика петербургской жизни – на грош дела, на рубль суматохи», – пишет он о городе. «Крестьяне, как и везде, пьяницы и лентяи, с каждым днём всё хуже и хуже», – пишет он о деревне. Иронизирует: «В блага цивилизации не особенно верю». Он называет своё время «огульно развратным». Что могло привлечь Чехова, всю жизнь радостно искавшего и находившего прекрасное в человеке, в авторе подобных категорических оценок?
Читаешь о Пржевальском, листаешь книги и то там, то здесь обнаруживаешь удивительные контрасты. Ах, какой это был сложный, противоречивый, трудный и прекрасный человек! Как непохож он на того бодрячка офицера, которого лет пятнадцать-двадцать назад показывали в кино! Как удобно биографам, каждому на свой вкус, лепить из него то нелюдима-пустынника, то восторженного романтика! В его характере так много самого разного, что отыскать можно все.
Да, крепостник, да, помещик. Но помещик, непохожий на помещиков. Его совершенно не интересовали доходы с его имения. Свои собственные деньги никогда не копил, ни разу не «вкладывал в дело» – напротив, раздавал всё, что имел: матери, дядьке, старой няньке своей. Презирал любителей племенных рысаков, открыто издевался над бобровыми шинелями.
