Страница:
VI
Человек должен, верить, что непонятное можно понять, иначе он не стал бы размышлять о нем.Это был необычный вечер для обоих — Зорич не просто узнавал что-то новое, он по-другому воспринимал то, что, казалось, знал хорошо и прежде. И Маша как бы заново соединяла все известное о поэте в одно целое.
В. Гёте
Не только для Зорича, но и для себя она теперь вновь открывала жизнь поэта. Она процитировала Зоричу известные строки о том, как однажды сюда в июне 1825 года нагрянули гости, друзья Пушкина. Позже они об этом напишут, что встретили Пушкина в лесу:
«…он был в красной рубахе, без фуражки, с тяжелой железной палкой в руке. Он нас сейчас же узнал, а Зенович, неповоротливая и неловкая фигура, от радости стал бросать свою шапку, крича: „Виват, Пушкин!“»Маша припомнила еще одно описание, которое также могло пригодиться Зоричу в его исканиях. Она предупреждала, что поэт может выглядеть совсем не так, как на популярных портретах. Маша прочла воспоминания одного из давнишних жителей этих мест — Лапина. Он увидел Пушкина на местной Святогорской ярмарке, описал его костюм, сцену, происшедшую на этой ярмарке. Пушкин сделал какое-то замечание толкнувшему его полицейскому чину, тот вознегодовал, полагая по его костюму, что это какой-нибудь цыган. Полицейский вызвал караул, и Пушкина повели в кордегардию. Из-за страха Лапин не пошел вслед за задержанным поэтом, хотя ему очень того хотелось. Пушкин был небрит, нестрижен и в этаком странном виде… Что случилось?
А может быть, это был и не Пушкин, а действительно какой-нибудь цыган?..
Несмотря на позднее время, а вечер был летний, июньский — самый разгар белых ночей и в этом краю, что не так уж далеко от невских берегов, — Маша повела Зорича к месту, где росла прежде знаменитая старинная сосна. В 1944 году по этим местам проходила линия фронта, прямо по берегу реки Сороти. На сосне гитлеровцы оборудовали наблюдательную вышку. Вокруг они спилили сорок тысяч сосен для устройства блиндажей и окопов. И эта знаменитая древняя сосна могла погибнуть. После освобождения на ней обнаружили следы пилы, но дерево было таким могучим, что гитлеровцы отступились от него. После войны сосну долго лечили, убрали вокруг нее чудовищные следы войны. Это помог сделать местный лесник Николай Дмитриевич Шендель и его товарищи: Василий Кондратьев, Иван Васильев, Иван Петров. Они очистили искалеченные корни дерева, заделали щели, подкормили сосну специальными удобрениями, обнесли ее ограждениями. Поныне здравствует древняя сосна, герой-дерево!
За первые же дни Зорич сумел снять несколько кассет записей изображений более поздних слоев, колец деревьев, но снимка Пушкина получить ему не удавалось.
Он понимал, что предстоит кропотливая работа с каждым деревом, чтобы найти не только в глубине те кольца, где могло быть зафиксировано изображение Великого Поэта, но прежде всего определить высоту, которая 160 лет назад, во времена поэта, была ему вровень.
Зорич чертил графики, вел измерения, в некоторые дни вообще не появлялся в парке, пытаясь с помощью уже накопившихся записей-фиксаций вывести, определить систему, которая позволяла бы измерять скорость роста деревьев на определенную высоту, роста стволов за минувший век.
Но однажды в парке его ждала неожиданность. Забравшись по лесенке невысоко, он обследовал ствол одного из крайних в аллее Керн деревьев. И вдруг услышал: «Стасик! Что ты здесь делаешь?» Голос был ему хорошо знаком. В аллее стояла изумленная Валери-Ка, сотрудница института. Он испугался, хотя тотчас вспомнил, что институтские коллеги, видимо, приехали на экскурсию в Михайловское, она планировалась давно, и сроки ее не раз переносились…
Деваться было некуда. Зорич спустился с дерева, стараясь спрятать за спину чемоданчик, и никак не находил подходящего объяснения. Но с Валери-Кой ему невозможно хитрить, изворачиваться: Валери-Ка догадливый и проницательный человек, всегда отличалась тактом и искренним дружелюбием. Видя его смущение, она стала успокаивать еге, коллеги не узнают о его пребывании в Михайловском…
Это было важное предупреждение: встречи с коллегами Зеричу не сулили радости…
Попросив ее до времени молчать, он признался в своем намерении получить портрет Пушкина из клеток деревьев. Она была восторженным человеком, а сейчас онемела, понимая невероятность замысла товарища. Зорич стал расспрашивать об институтских делах. Валери-Ка оживилась, рассказала, как восприняли его уход из лаборатории: шеф хотя и ругался, но подписал приказ об отпуске, а не об увольнении, но ведь срок-то отпуска истекает. Зорича могут уволить. Потом вспомнила о патентном свидетельстве, которое прибыло на его имя и на имя профессора Жужгова. Открытием в биологической защите растений от болезней заинтересовались практики, о чем недавно писала институтская газета. Зорич расспрашивать об этом не стал, он был увлечен другим.
Они вместе придумали, что Зорич напишет заявление с просьбой предоставить ему отпуск за свой счет, так как занят опытами, связанными с жизнью растений; в опыты не хотел бы преждевременно посвящать других.
— На какие средства ты существуешь? — осторожно спросила Валери-Ка.
Зорич молчал.
— Слушай, Стасик, давай я пришлю тебе денег?
Словно бы очнувшись от забытья, он с благодарностью пообещал дать телеграмму, если окажется в полном безденежье.
VII
Общепринятое мнение, будто наука и поэзия — две противоположности, большое заблуждение… неправда, что истины науки лишены поэзии… Люди. посвятившие себя ученым изысканиям, постоянно нам доказывают, что они не — только так же, как другие люди, но даже гораздо живее их воспринимают поэзию изучаемых ими предметов.Солнце садилось, экскурсанты покидали заповедник, Зорич прекращал свои работы. Затем он шел в комнату к Маше, и она в беседах открывала ему все новые и новые страницы жизни Великого Поэта в Михайловском. Маша обратила внимание Зорича на то, что впервые Пушкин побывал здесь в 1817 году, по окончании лицея, а затем и в следующем году. Следовательно, Зорич может встретить в годичных кольцах и юный облик поэта. Это будет большая удача, так как очень мало портретов той поры сохранилось. Следует помнить и то, что последний раз Пушкин приезжал в Михайловское в 1836 году, когда привез прах матери, чтобы захоронить в Святогорском монастыре… Еще Зорич узнал, что не только Болдинская осень была плодотворной порой поэта, но и здесь, в Михайловском, он задумал и написал более ста произведений, и среди них такие выдающиеся, как главы из «Бориса Годунова», «Евгения Онегина» и многое другое.
Г. Спенсер
Маша наизусть знала странички, даже расположение строк в произведениях поэта и много вечеров кряду просвещала Зорича. Здесь она передала ему и много таких сведений, которые знали лишь истинные ученые-пушкиноведы. Зорич прочел и книгу главного хранителя Михайловского, который уже много десятилетий по крупицам собирал материал, исследуя и систематизируя его, сопоставляя и выстраивая в четкую, жизненно правдивую хронику пребывания Великого Поэта в Михайловском. В этой книге Зорич прочел:
«В первые дни ссылки деревня показалась Пушкину тюрьмой. Бешенству его не было предела. Все его раздражало. Он хандрил, скандалил, бывал во хмелю. С утра приказывал седлать и уезжал в никуда. Стремительно несущегося всадника можно было встретить очень далеко от Михайловского…»(Здесь Зорич подумал, что нужно будет поинтересоваться, не сохранилось ли где-нибудь в округе древних деревьев, которые укажут, где именно бывал поэт.)
«И конь и седок возвращались домой уставшими. Он исколесил всю округу — деревни и села Новоржева, Опочки, Острова, Пскова, Порхова, а однажды чуть было не очутился под Новгородом.Зорич не был экзальтированным человеком, но даже он шумно вздохнул, когда прочел об этом. Ведь это именно те сведения, которые помогут ему не проглядеть, не пропустить важные черты в окружении, в бытии Великого Поэта. Здесь он узнал и то, когда какие деревья были посажены в Михайловском. Хорошо сохранились аллеи липовая и еловая, некоторым деревьям, посаженным еще при основании парка, более двухсот лет, хотя таких экземпляров совсем немного. Зорич почувствовал, что он может со временем оказать помощь и хранителям заповедных мест, ибо он уже освоился с «машинерией» и понял, как можно ее лучом проходить годичные кольца: или постепенно, в их хронологической последовательности, или сразу проникать в глубины, минуя десятилетия. Обычно луч, минуя годичное кольцо, как бы упирается и преодолевает новую препону, образуя при этом сигнал. Нужно успевать считать эти сигналы и по ним определять количество лет.
Постепенно поэт стал чувствовать себя в деревне как у бога за пазухой. Что же произошло? Его спасла работа. Он полюбил природу этих мест. Он нашел верных друзей в Тригорском… Но не только это. Он пришел к простым людям, и они-пришли к нему… Есть в литографии Ильи Иванова деталь. Все думают, что это просто группа крестьян, изображенная для оживления пейзажа. Ан вряд ли! А что это за старик с клюкой, идущий мимо усадьбы? Это, конечно же, старик Еремей. А кто эти семеро, возвращающиеся с граблями с сенокоса? Это и есть дворовые: Прасковья — племянница Ульяны, Настасья Михайловна, Дмитрий Васильев и другие. А что это за маленькая девочка, идущая рядом со взрослыми? Да это, конечно, дочка Андреевой Дарьи — малолеток с косичками».
Для дальнейших исследований можно сделать еще и счетчик годичных колец и сразу же проникать в нужный год, получая на счетчике дату. Когда-нибудь такой аппарат поможет работникам лесного хозяйства абсолютно точно, до единого года определять возраст растений, особенно деревьев, идущих в промышленную разработку, и это, видимо, даст немалый экономический эффект.
«Машинерия» позволит вычитать и зафиксировать на видеомагнитную пленку множество подробностей из жизни Великого Поэта в Михайловском. Зорич намеревался предложить своему другу, кинодраматургу Аничкову, сделать документальный фильм о том, что расскажут о столетиях деревья. Кадры с видеомагнитной записи легко перенести на обычную пленку…
Маше очень хотелось посмотреть, как этот «мудрый» прибор все выведывает у деревьев. Зорич не мог ей отказать, и они условились, что завтра Маша выберет время между экскурсиями и придет к тому дереву, которое они наметили вместе.
День выдался солнечным и тихим. Зорич все подготовил к очередному сеансу и ждал Машу. Она показала отметку, у которой предстояло вычитывать содержание годичных колец. Зорич был удивлен. Это был уровень, который фиксировал современную жизнь, недавние годы. Маша призналась, что это для нее важно.
Почему? Он сейчас поймет. Она попросила углубить луч всего на несколько годичных колец. Зорич удивился, но стал послушно выполнять ее просьбу. И когда возникло изображение на телеэкране, Зорич ахнул:
«Так это же вы, Маша!» Она благодарно сжала его руку и стала объяснять, что ей хотелось убедиться, не шутит ли Зорич с нею, не обманывает ли ее, не фантазирует ли напрасно. В тех же годичных кольцах Маша увидела своих коллег по заповеднику и самого главного хранителя, а про себя отметила, что «дерево ее сфотографировало еще совсем молодой — было это лет десять тому, назад».
Затем она попросила Зорича внедриться в пушкинское время. Для этого пришлось приставить лесенку к стволу и взобраться на нижнюю толстую ветвь. Маша поудобнее устроилась, обхватив ствол, Зорич раскрыл чемоданчик и, закрепив его на ветке, стал настраивать «машинерию», предварительно пояснив, что на этом дереве ярче, чем на других, видна война. Маша сказала:
«Не надо, это ужасно. Я насмотрелась и кинохроники и фотографий».
Маша с напряжением наблюдала за телеэкраном и, увидев, как нелегко приходится Зоричу, решила ему помочь. Она, вытянув руку, поддерживала чемоданчик, другой рукой держась за ствол. Увлеченный настройкой, Зорич не заметил, что чемоданчик непрочно держится и что Маша дрожащей рукой слабо поддерживает «машинерию». Сейчас они оба были поглощены зрелищем на телеэкране. Аллея оживала, это была та аллея, которая навеки стала аллеей Анны Керн… Они увидели на экране сначала картинку, запечатленную одной клеткой дерева, затем Зорич медленно повел луч вдоль годичного кольца, и возникали почти кинокадры идущих рядом Анны Керн и поэта. И Маша тихо произнесла фразу из письма Пушкина к той, кому были посвящены вдохновенные строчки: «Я помню чудное мгновенье».
Маша читала письмо по памяти, вслух, что еще более усиливало впечатление от сменяющихся кадриков на телеэкране: «Пишу вам, мрачно напившись… — Так в самом начале пишет Пушкин одно из своих писем Анне Керн. — Все Тригорское поет «Не мила мне прелесть ночи», и у меня от этого сердце ноет… Каждую ночь гуляю до саду и повторяю себе: она была здесь — камень, о который она споткнулась, лежит у меня на столе, подле ветки увядшего гелиотропа, я пишу много стихов, — все это, если хотите, очень похоже на любовь, но клянусь вам, что это совсем не то. Будь влюблен, в воскресенье со мною сделались бы судороги от бешенства и ревности, между тем мне было только досадно…»
И тут в новых клетках-кадрах Пушкин стал приближаться к ним. Он явно шел к дереву. Было явственно видно его лицо — и счастливое и взволнованное…
Маша вдруг ойкнула и, теряя сознание, качнулась, выпустила из рук чемоданчик. Зорич, подхватив ее, едва удержал, а чемоданчик, кувыркаясь по лестнице, полетел вниз, шлепнулся о землю…
Хрупкая «машинерия» не только разладилась, она поломалась. И казалось, что печаль Маши не сравнима с печалью Зорича, который ее утешал, уверяя, что удастся все наладить, удастся исправить.
Несколько последующих дней, когда Зорич разбирал машинерию, исследуя размеры бедствия, присутствующая при этом Маша с горечью говорила о том, что многое может остаться неузнанным, ведь Зорич мог увидеть здесь и Антона Антоновича Дельвига, давнего друга Пушкина, который навещал его в Михайловском, и ведь они наверняка гуляли по этим аллеям. Волшебный аппарат Зорича мог проверить, был ли здесь Дельвиг, хмурый человек в очках с маленькими стеклами…
Зорич еще надеялся, что ему быстро удастся привести в порядок «машинерию», вот только бы достать паяльник и несколько лабораторных измерительных приборов, чтобы проверить состояние панели, ламп накаливания, прогрева…
Маша обещала организовать поездку с очередным автобусом экскурсантов в Псков, где, возможно, Зоричу удастся позаимствовать все необходимое в местном институте. «Там, кажется, даже есть и радиозавод», на худой конец, в каком-либо приличном телеателье что-то подходящее найдется… Но в ожидании этой оказии Зорич решил привести в порядок свои обрывочные записи, которые он иногда делал по ночам. Маша тем временем строила планы, она говорила о том, что Зоричу нужно, кроме Михайловского, побывать и в Болдине, а еще непременно съездить и в Ясную Поляну и там попробовать в имении, где также сохранились старые деревья, открыть новые, неведомые нам черты облика Льва Николаевича Толстого. Ведь чуть больше семидесяти лет отделяет нас от того времени, когда Толстой жил в яснополянских местах, большей частью безвыездно в течение многих десятилетий, и деревья могли стать летописцами… А еще Маша говорила о том, что отныне ей будет трудно жить в Михайловском, бывать в парке, беседовать здесь с экскурсантами — ей все время будет казаться, что сквозь деревья на нее смотрят глаза Пушкина и его близких. И еще смущало одно признание Маши:
— Нам с вами, Стасик, уже давно за тридцать, но вы оказались по-настоящему счастливым человеком, у вас наступил звездный час, а у меня его нет и быть не может… Я только истолкователь чужого жития, чужих мыслей и чувств… И, простите, скажу самое сокровенное: я была счастлива с вами… Но я сама неосторожно разрушила счастливые часы…
Стасику приходилось ее утешать:
— Много, очень много в моей жизни было «поломок»…
В школьные годы он увлеченно занимался на станции юных техников при Дворце пионеров. Он почти без экзаменов был принят на биофак, а затем очутился в лаборатории «контакт с растениями» как «одаренный человек, получивший диплом с отличием». Но это ничего не значило; и первый год, и второй год ему поручали лишь составлять питательные растворы, мыть лабораторную посуду и в редких случаях подменять других мэнээс, а порой даже старших научных… Над ним часто подшучивали, но только одна Валери-Ка понимала его…
В лаборатории он превратился в ходячее справочное бюро. Со временем, когда возникали затруднения в каком-либо опыте, он смущенно предлагал выход, который оказывался кстати, оказывался подходящим, и это считалось уже в порядке вещей. Иногда его хвалили, но чаще давали новую и новую работу. И только однажды Александр Александрович Дупленский, второй старший научный сотрудник лаборатории, попросил у шефа закрепить Зорича за ним. Ширяев давно уже считал Стасика «своим» и сумел это отстоять, пообещав выделить Стасику самостоятельный участок работы и «дать диссертацию»…
— А теперь «машинерия» поломалась и ты вернешься в свою лабораторию, — с грустью сказала Маша.
— Именно сегодня благодаря поломке этой «машинерии» у меня родилась новая идея, — пытался утешить Зорич. — Проверяя луч локатора, случайно поднес к нему руку, и локатор показал, где у меня была повреждена фаланга пальца. Локатор сработал и как рентген и передал сигнал, который я только что сумел расшифровать. Думаю, что возможно создать аппарат, который будет обследовать и считывать клетки органов у животных, человека и, может быть, третий аналог аппарата сможет врачевать людей без лекарств и скальпеля. Это будет особая работа новых лучей!
Маша удивленно покачала головой. А Стасик, говоря с Машей, зажигался все новыми и новыми проектами.
— Раньше изобретатели все делали своими руками, — говорил он. — В изобретательстве соединены разные науки и разные профессии. Если в начале нашего века было чуть больше десятка разных наук, к концу века, говорят, их будет более пятисот. И у каждой науки свои орудия, инструменты, приборы, методики. Их десятки тысяч. И тот, кто вдруг придумает, как самым неожиданным образом соединить эти приборы и аппараты, предназначенные для определенной области, и заставит их работать в новой, сделает крайне полезное дело, но это не значит, что он гений…
Маша слушала его, и ей вдруг стало обидно, что во всех его словах нет ничего о ней, о Маше. Она понимала и боялась, что это их последний разговор и они больше никогда не увидятся. Она хотела спросить об этом. Но Стасик будто догадался.
— Мне кажется, вы, Маша, тот человек, который меня понимает. Я завтра поеду не в Псков, а в свой город, в лабораторию, без нее «машинерию» я не отремонтирую, а только испорчу. Я счастлив, что провел отпуск с вами… Хотите ли вы приехать ко мне… в гости?
Маша, смутившись, молча кивнула.
Сергей Плеханов
ОСТРОВ ПУРПУРНОЙ ЯЩЕРИЦЫ
За землею, называемою Вяткой, при проникновении в Скифию, находится большой идол Iоta Baba, что в переводе значит: золотая женщина или старуха; окрестные народы чтут ее и поклоняются ей; никто проходящий поблизости, чтобы гонять зверей или преследовать их на охоте, не минует ее с пустыми руками и без приношений; даже если у него нет ценного дара, то он бросает в жертву идолу хотя, бы шкурку или вырванную из одежды шерстинку и, благоговейно склонившись, проходит мимо.
Матвей Меховскнй. Сочинение о двух Сарматиях. 1517
Рассказывают, или, выражаясь вернее, болтают, что этот идол Золотая Старуха есть статуя в виде некоей старухи, которая держит в утробе сына, и будто там уже опять виден ребенок, про которого говорят, что он ее внук. Кроме того, будто бы она там поставила некие инструменты, которые издают постоянный звук наподобие труб. Если это так, то я думаю, что это-происходит от сильного непрерывного дуновения ветров в эти инструменты.
Сигизмунд Герберштейн. Записки. 1549
Жрецы спрашивали ее о будущем, и она давала ответы, подобно дельфийскому оракулу.
Петр Петрей де Эрлезунд. 1620
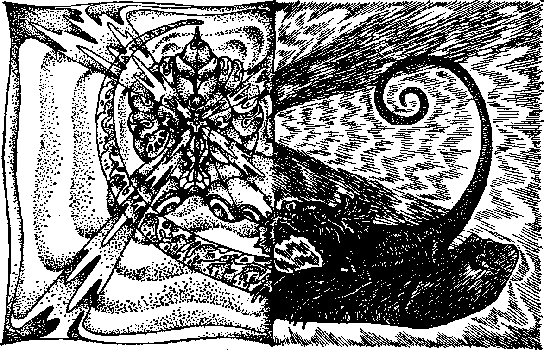
И Введенский согласился на встречу, хотя то, что он сейчас услышал, походило на художественный вымысел.
С поэтами от науки он общался нечасто, старался избегать их, ибо рукописи, которые они приносили на рецензирование, изобиловали самыми грубыми ошибками, натяжками, а иной раз и прямыми подтасовками.
А сказать прямо, что очередное сочинение о происхождении жизни или о загадочном «недостающем» звене эволюции — плод малой осведомленности, Введенскому всегда было мучительно трудно. И он мялся, краснел, страшно злился на себя, но выводил на листе, увенчанном его академическим титулом: «Работа заслуживает внимания, хотя некоторые мысли автора представляются дискуссионными…»
Он вышел в сад, зашагал по скользкой от дождя дорожке в сторону беседки. Легкий ветер перебирал листву яблонь, то и дело осыпая академика пригоршнями брызг. Введенский с наслаждением взъерошил мокрые волосы, сдернул закапанные водой очки. Взбежав по ступенькам беседки, едва не наступил на раскрытый томик, брошенный на полу. Опустился в качалку, поднял яркий покетбук с типичной для криминального романа обложкой: револьвер, патроны, окровавленный платок, надорванное фото…
«На борт парохода поднялся полицейский комиссар в сопровождении таможенного чиновника. «Господа, предлагается сдать все имеющиеся у вас бивни слонов и шкуры леопардов. По нашим сведениям, груз, следующий на борту…»Введенский прикрыл глаза… Этот странный звонок: про бивни мамонтов с насечками, про ящериц, обвивающих чело неведомой богини. При всей путанности, фрагментарности рассказа незнакомца из Сибири в нем прослеживался какой-то четкий порядок. А там, где существует порядок, имеется определенная внутренняя логика, есть, следовательно, реальный смысл. Впрочем, в поэтическом сочинении тоже можно усмотреть причинно-следственную связь, однако сюжет такого произведения нельзя поверить алгеброй точного знания…
Да и вообще эти истории с кладами, сокровищами, зарытыми какими-то мифическими злодеями, всегда вызывали у него лишь снисходительную насмешку…
А история Золотой Бабы — это вообще какой-то perpetuum mоbile исторической науки. Бессмысленная сказка, не имеющая никакой цены для науки и способная лишь щекотать праздное любопытство падких до сенсаций простаков. Введенский хорошо знал домыслы досужих поп-историков (так он их именовал про себя) о происхождении этого идола северных народностей, но не видел реальной пользы в подтверждении их гипотез…
Изучая историю Сибири прежде всего как палеонтолог, он не мог, конечно, пройти мимо некоторых распространенных легенд; в молодости отдал дань увлечениям своих однокашников — собирался на поиски Беловодья вместе с группой сокурсников, ломал голову над загадкой Тунгусского метеорита. Но Золотая Баба — нет, ему всегда казалось несерьезным с важностью толковать об этой «проблеме». Как деревенские мальчишки, тревожно-почтительным шепотом повествующие друг другу о «разрыв-траве» и разбойничьих пещерах, так он воспринимал своих коллег, собиравшихся время от времени для обсуждения судьбы исчезнувшего истукана. Какая разница, был ли то грубо обтесанный камень с едва намеченными очертаниями женской фигуры, или прихотливый вольт истории занес в северную глухомань заблудившийся ордынский обоз и изваяние богини из буддийского монастыря, ограбленного плосколицыми варварами, стало достоянием первобытных вогулов?..
— Разморило на солнышке? — Голос жены заставил Введенского вздрогнуть, он не слышал ее шагов.
— Да нет, просто размышляю с закрытыми глазами. Хотя… ты, пожалуй, вовремя подошла — я, наверное, уже склонялся в объятья Морфея.
На полу беседки подрагивала сетчатая тень листвы.
Прямо против входа стояло низкое солнце, и Введенский видел только силуэт жены.
— К тебе посетитель. Странный какой-то. С огромным тяжеленным свертком. Всклокоченный. Потный. Словно от погони бежал.
— Уже приехал? — удивился Введенский. — Пусть идет сюда.
Вид у сибиряка оказался действительно непрезентабельный. Одежда измятая, ботинки давно не чищенные, седоватая двухдневная щетина. Роста он был среднего, но широкие плечи, крупная, низко посаженная голова и резкие черты лица создавали впечатление могутности. На красном обветренном челе гостя лежали три глубокие морщины. Голубые глаза смотрели требовательно, даже, определил академик, атакующе.
— Вот принес, — без всякого предисловия заговорил посетитель и, опустившись на корточки, положил сверток на пол, стал развязывать оплетавшую его бечевку.
«Фанатик», — привычно отметил Введенский, наблюдая, как лихорадочно руки сибиряка освобождают бивень от обертки.
Когда находка предстала перед глазами академика, от его скептицизма не осталось и следа. Насечки на мамонтовой кости располагались в строгой последовательности, а узор орнамента был настолько непохож на все виденное им в этом роде, что Введенскому невольно передалось возбуждение сибиряка.
