— И именно поэтому Господь родился в хлеву, — заметил кто-то еще.
— Но неужели мне надо благодарить Бога за то, что я родился рабом? — возмутился Лохмач.
— Нет, — ответил я. — Ты должен знать, что это несправедливо, и у тебя есть право возмущаться этим. Ты должен помнить, что перед Богом все люди едины. И Господь говорил, что люди должны стремиться к справедливости. Его слова очень не понравились сильным мира сего. И они распяли его на кресте. И тем не менее он был готов простить своих палачей, если бы они стали раскаиваться.
— Я не понимаю, — сказал Лохмач, — неужели ты, Кефсе, простил тех, кто превратил тебя в раба?
Я задумался.
— Не знаю, — наконец ответил я.
— Тогда ты наверняка не простил, — коротко сказал Лохмач.
Он помолчал, а потом добавил:
— А ты хочешь их простить?
Я еще раз задумался.
— Нет, — признался я, — я не уверен, что хочу простить их.
Он как будто задел струну в моей душе, и душа моя наполнилась фальшивой нотой, от звука которой на моих глазах выступили слезы. Я изо всех сил сдерживал рыдания.
Но напрасно.
— Почему ты плачешь, Кефсе? — спросила Тора.
— Я… Я думаю, что плачу из-за зла, которое люди причиняют друг другу. Из-за их жестокости. И еще из-за того, что я не могу простить.
— Да поможет нам Тот, кто был рожден в хлеву, — проговорил Бьёрн.
— Да, — с трудом ответил я.
Я почувствовал, как меня кто-то обнял и прошептал мне в ухо:
— Кефсе!
Это была Тора. И я плакал у нее на плече, как будто она была моей матерью.
На следующий день на рождественской заутрене я стоял не с королевами. Даже если бы я захотел, я никогда не смог бы пройти мимо рабов. Они стояли позади всех. Там же, рядом с ними, остановился и я.
И мне было все равно, что все с удивлением смотрели на меня.
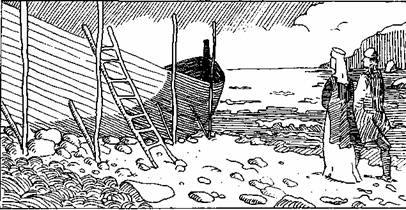
III. КНИГА КОРОЛЕВЫ ГУННХИЛЬД
После рождественской службы Рудольф сказал королеве Астрид, что ей лучше воздержаться от рассказа в эти праздничные дни.
Королева резко спросила, неужели Рудольф считает такой тяжелой работой выслушивать ее повествование.
Он ответил, что это, во всяком случае, труд для меня, писца.
Я заметил, что могу и не делать никаких записей, а постараться все запомнить и записать потом.
Рудольф разозлился и заявил, что это право священника решать, что можно и что нельзя делать в церковные праздники.
Поскольку дело шло к ссоре, я промолчал, но решил, что обязательно поговорю с Астрид. И если она скажет, что у нее осталось мало времени, то я нарушу запрет Рудольфа.
Рабыни убрали со стола после ужина, но Астрид осталась сидеть в палатах. Не ушла и Гуннхильд.
Я обратился к королеве Астрид:
— Я думаю, тебе не терпится завершить свой рассказ. Если хочешь, я поговорю с Рудольфом.
— У меня действительно осталось мало времени, дни мои сочтены. Мне все труднее дышать, я задыхаюсь, и сердце чуть не выскакивает из груди при каждом шаге. И тем не менее я могу прожить еще несколько месяцев. Никто не знает, какой срок ему отпускает Бог. Так что вряд ли стоит злить Рудольфа. Я отдохну в эти праздники, а если почувствую себя хуже, то тут же скажу тебе, Ниал.
Она совершенно спокойно говорила о приближающейся смерти. А потом вдруг спросила:
— А что случилось во время службы? Почему вдруг ты стал вместе с рабами?
— Ты забываешь, что я и сам был рабом десять зим. Это мои друзья.
— Я никогда не замечала у тебя рабских мыслей.
— А что ты называешь рабскими мыслями?
— Раб всегда унижен, он лжет, ворует и отлынивает от работы. И может быть очень нахальным, если вдруг почувствует власть.
— Я совершенно не сомневаюсь, что рабство может искалечить человека, разрушить его, но оно может воспитать и святость. Именно в годы рабства в душе Патрика проснулась любовь к Богу и ближнему своему. И среди рабов Хюсабю есть достойные уважения.
— Кто же? — спросила Гуннхильд.
— Бьёрн, Тора, Лохмач и еще некоторые…
— Лохмач? — переспросила Гуннхильд. — Я все время слышу на него жалобы, потому что он очень вызывающе ведет себя.
— Ты несправедлива. У него просто нет «рабских мыслей», как говорит Астрид. Святой Патрик убедил ирландцев освободить своих рабов. Я думаю, он сделал это, потому что сам побывал в рабстве. Много лет в Ирландии не было рабов. Они стали появляться только после нападений викингов, которые вернули в мою страну языческие обычаи.
— Но ведь рабы были и у тебя самого, — сказала Гуннхильд.
— В последний раз, — ответил я.
— Я не знаю, как вели себя ирландцы, когда освобождали своих рабов. Но в Швеции мы всегда стараемся создать нормальные условия жизни для освобожденного раба. Многие считают, что лучше быть рабом, чем умереть с голода. Кроме того, не так уж и легко следить за выполнением закона. И тут большое значение имеет семья. Если человек отказывается выплатить выкуп, то тогда это должны сделать его близкие. Достойная семья всегда позаботиться о родственнике и выручит его из беды. Если же раба берут в свободную семью, то его и считают свободным человеком.
— И часто так бывает? — спросила я.
— Нет, и освобожденный раб не может выкупить или освободить другого раба, даже свою собственную жену.
— А в Норвегии все по-другому, — добавила Астрид. — Раба не обязательно принимать в свободную семью. Но освобожденный раб по-прежнему во многом зависит от своего хозяина, который отвечает за него перед законом.
— И как долго он несет ответственность за бывшего раба? — спросил я.
— Часто в четырех поколениях. Это зависит от того, как быстро раб или его потомки могут заплатить выкуп и созвать гостей на праздник по поводу освобождения. А потом надо еще четыре поколения, чтобы потомки раба стали полноправными гражданами.
Я подумал, что неправильно понял.
— Ты говоришь о четырех поколениях или о четырех годах? — переспросил я.
— О поколениях, — спокойно ответила Астрид.
— Если считать одно поколение тридцатью годами, то тогда должно пройти двести сорок лет?
Она кивнула.
— Сейчас все намного проще, — добавила она, — если раб сам выплачивает за себя выкуп, то тогда мы считаем только четыре поколения.
— Я понял. И это христианские законы Олава Святого?
— Это старые законы, которые он включил в свой свод законов. И еще очень важно, чтобы раб оказался достоин называться свободным человеком не только благодаря деньгам, но и по своим качествам. Чтобы он стал гордым и честным, мужественным и добрым.
— А в чем состояли собственные законы Олава? Чтобы люди в соответствии с церковными правилами не ели по пятницам мяса?
— И это тоже, — спокойно ответила Астрид. — Ведь с принятием христианства люди должны принять и новые церковные правила.
Я задумался.
— Королева Астрид, — сказал я. — Ты рассказала, что твоей матерью была наложница Олава Шведского. И тем не менее, не похоже, чтобы в твоей голове были «рабские мысли». И что понадобилось четыре поколения, чтобы избавиться от них.
Астрид нахмурилась.
— Она никогда не была рабыней, — резко ответила королева.
— Думаю, теперь мы станем лучше понимать друг друга, — заметил я.
Но когда я увидел, что Астрид начала задыхаться, то пожалел о произнесенных словах.
Через некоторое время королева сказала:
— Я так никогда и не узнала, что стало с моей матерью. Я думаю, что королева Олава Шведского заставила конунга продать ее.
Я склонил голову.
— Прости меня! Я не хотел делать тебе больно.
— Тебе не за что просить прощение. Ты правильно сделал, что напомнил мне о ней.
С этими словами она встала и вышла из палат.
Королева Гуннхильд и я сидели в молчании. Затем я сказал:
— Ты не будешь возражать, если я разожгу огонь в трапезной?
— Ты собираешься сегодня работать?
— Нет, но мне хотелось бы просмотреть свои записи. А здесь мне не удается остаться одному. То ко мне приходит Хьяртан поговорить об искусстве поэзии, то Эгиль — об ирландских законах.
— Или тебе мешает мое присутствие, — добавила королева.
— Ты совсем мне не мешаешь.
Я постарался поймать взгляд королевы, и на этот раз мне это удалось.
— Тогда ты не будешь возражать, если я пойду с тобой в трапезную?
Она поняла, что именно этого мне и хочется больше всего.
— Нисколько, — ответил я.
И вместе мы вышли из палат.
Но я все время прислушивался к себе. Действительно ли мне хотелось быть с Гуннхильд, или я просто пытался убежать от самого себя?
 В рождественскую неделю не происходило ничего особенного. Мы встречались с королевой Гуннхильд так часто, как это было возможно. По большей части мы уходили поговорить в трапезную, но иногда сидели в палатах и шептались в уголке.
В рождественскую неделю не происходило ничего особенного. Мы встречались с королевой Гуннхильд так часто, как это было возможно. По большей части мы уходили поговорить в трапезную, но иногда сидели в палатах и шептались в уголке.
В первый день Рождества в зале накрыли роскошные столы. В этот день все обитатели усадьбы, даже рабы, сидели за одним столом. Рудольф благословил еду и напитки. Мы пили за хороший урожай в будущем году, за мир, за Отца, Сына и Святого Духа и за Матерь Божию. И нам просто повезло, что в ту ночь на усадьбу не было нападений, потому что большинство дружинников были пьяны.
На следующий вечер ко мне в трапезную пришли Бьёрн, Тора, Лохмач и некоторые другие рабы. Когда они увидели сидящую на скамье Гуннхильд, то повернулись, чтобы уйти, но королева попросила их остаться.
Мои друзья чувствовали себя очень неудобно и молчали. Все, кроме Бьёрна и Лохмача.
В тот вечер говорил в основном я. Я рассказывал о святом Патрике, о его годах в рабстве и о любви, которую он испытывал к людям.
Но только когда Бьёрн захотел побольше узнать о словах Бога, что все едины перед вратами царствия Небесного, только тогда я понял, что их интересовало.
Я повторил слова апостола Павла, что Иисус добровольно пошел в рабство, чтобы стать ближе людям.
Лохмач тут же спросил:
— Ты хочешь сказать, что Иисус стал рабом, чтобы понять, что значит быть человеком?
— Может быть, — ответил я. — Во всяком случае, тот, кто не задумывается о рабстве и о положении рабов, никогда не поймет до конца человеческую душу.
Лохмач задумался. А Бьёрн принялся рассказывать о епископе Торгауте. Я понял, что он хотел сказать, что их Торгаут был ничем не хуже моего Патрика.
Перед уходом Лохмач неожиданно сказал мне:
— Хотел бы я знать, через какое время ты забудешь что значит быть рабом.
На следующий день из Скары вновь прислали гонца за Эгилем Эмундссоном. Его жена вновь была больна.
Меня очень удивил ответ Эгиля:
— Передайте ей от меня привет и скажите, что я приеду, когда сочту нужным. От болезни, которая ее поразила, никто еще не умирал.
И он посмотрел на Астрид.
Люди много говорили обо мне и Гуннхильд. Мы об этом совсем не думали, зато эти сплетни беспокоили других.
Однажды Рудольф вошел в трапезную, даже не постучавшись. Мне показалось, что он был удивлен, когда увидел, что мы просто сидим и разговариваем. Я сказал, что если он что-то ищет, то может быть он выберет для этого другое время. Он серьезно ответил, что я прав, и отправился восвояси.
Он мог приходить в любое время — между мной и Гуннхильд не происходило ничего, что мы хотели бы скрыть от постороннего взгляда.
Но почему?
Может, нам обоим казалось, что мы связаны обещаниями.
Она пришла ко мне из светлой страны любви Тирнанег, острове на западе, где нет ни болезней, ни старости, ни нужды, ни смерти, ни греха, ни горя. Она была женщиной, уговорившей Брана сына Фебала, отправиться на Остров Радости, где в воздухе звучат переливы арф, где волны моря чисты и прозрачны. Она была женщиной, уговорившей Конле сына Конна, взойти с ней в хрустальную лодку и отправиться по пурпурному морю в страну, где один день длится сотни лет.
Мы боялись коснуться друг друга, чтобы не разрушить что-то, чему мы не знали названия. Не разбить таинственного мгновения. Как говорится в Песни Песней Соломона:
Она рассказывала о своем детстве в Свитьоде.
Ее юные годы были полны событиями и треволнениями. Большую часть времени она вместе с матерью, сестрой шведского короля Хольмфрид, провела в одной из ее усадеб. Она почти не помнила своей сестры Сигрид, которая была старше на четырнадцать лет и давно вышла замуж за Аслака Эрлингссона из Сэлы.
Зато у Гуннхильд остались воспоминания об отце — конунге, о котором хорошо отзывались даже его враги. Он был тверд духом, но часто проигрывал сражения.
Так случилось и в сражении у Несьяра.
Олава Шведского Гуннхильд, напротив, почти не помнила. Он умер, когда ей было всего пять зим. Зато конунг Энунд Якоб занимал большое место в ее рассказах о детстве.
Приезжали в Свитьод и подолгу гостили там и королева Астрид, и епископ Сигурд.
В жизни Гуннхильд происходило много странного.
Когда она достигла совершеннолетия, ее выдали замуж за Энунда Якоба. Священники не сказали ни единого слова об их близком родстве и о том, что это противоречит церковным законам.
Она очень жалела, что у них не было детей. У конунга Энунда Якоба не было сыновей и от первого брака.
Он был очень добр с Гуннхильд и оказывал ей все почести, достойные королевы. Он знал, что ей будет неприятно, если с ней станут обходиться как с наложницей, и никогда не делал этого.
Внезапно Гуннхильд обернулась ко мне:
— Он был так добр и почтителен ко мне, так обо мне заботился, что я была готова убить его.
От удивления у меня раскрылся рот, но я тут же постарался взять себя в руки. Все мои мысли перемешались, и понадобилось некоторое время, чтобы привести их в порядок.
Я чувствовал, что Гуннхильд задыхалась в тихой бухте своего мирного существования. Она хотела жить полной жизнью, страдать и наслаждаться.
— Ну ты же ведь не сделала этого. Хотя говорят, что когда король данов Свейн Ульвссон был в изгнании и жил у вас в усадьбе, ты оказывала ему почести…
— А что ты знаешь о том времени? — резко перебила меня Гуннхильд.
— Ничего, только то, что говорили о ваших отношениях с конунгом Свейном…
Она ничего не ответила, а только улыбнулась.
Помолчала, а затем сказала:
— Свейн был для меня как дуновение свежего ветра. Он был теплым и холодным, спокойным и резким. Его смех подхватывал меня, как…
— Как быстрое течение горной реки, — подсказал я.
— Да, именно так. И когда хотел, он всегда добивался своего. Он был как горный поток. Неуправляемый и могучий.
— Да, думаю, он действительно всегда получал то, что хотел.
— Однажды все так чуть было и не случилось, — усмехнулась Гуннхильд, — но тут кто-то вошел, и мы поспешили отойти друг от друга.
— Как же вы могли! — возмутился я. — Ты же ведь была шведской королевой, а он — гостем твоего мужа.
— Я думала об этом, — серьезно ответила Гуннхильд, — я и сама не понимаю, как могла решиться на это. Может быть, потому что вокруг меня всегда было так тихо? Мне казалось, что меня разрывает на части, как будто стал прорастать лесной орех и его росточек стремился вырваться из тесной скорлупы. И Свейн — он никогда себе ни в чем не отказывал.
— Но откуда в тебе эта неукротимость? Разве твои родители не были мирными добрыми христианами?
Гуннхильд расхохоталась.
— Они-то были действительно мирными людьми, но разве ты не слышал о моей бабке, Сигрид Гордой, что сожгла своих женихов, когда они особенно стали ей надоедать?
— Я начинаю лучше тебя понимать, — ответил я, — так как же у тебя все получилось со Свейном и Энундом?
— Энунд прекрасно знал, что Свейн слаб до женщин. И он напрямую спросил Свейна, что у того на уме. Свейну нужна была дружба Энунда, да и на язык он был остер, поэтому тут же ответил, что ему приглянулась Гуда, дочь Энунда. Энунд поверил ему и выдал Гуду за него замуж.
— А вскоре Энунд умер, — задумчиво сказал я.
— Да, а вскоре после его смерти умерла и Гуда.
— Ее, кажется, отравила одна из наложниц Свейна? Ты мне об этом рассказывала. И Свейн не стал ее наказывать.
— Нет, — ответила Гуннхильд, — он не стал этого делать. А поскольку мы оба стали свободными, то Свейн не замедлил прислать ко мне гонца. Со дня смерти Энунда прошло всего три месяца, а со дня смерти Гуды — два, когда мы поженились. Эмунд, сводный брат Энунда, приехал в страну в то время и присутствовал на нашей свадьбе. Его только что провозгласили конунгом Швеции.
— Архиепископ возражал против вашего брака со Свейном. А ты никогда не думала, что могло послужить поводом для этого неудовольствия?
— Я ведь тебе уже говорила: вся эта ерунда по поводу близких родственных связей. Что я якобы была матерью Свейну по церковным законам. Глупость! И еще они говорили, что мы со Свейном никогда не были женаты, потому что наш брак был недействителен и противоречил церковным правилам.
— Но может, архиепископ думал совсем не об этом. Может, он считал, что это Свейн подговорил свою наложницу отравить Гуду.
Она посмотрела на меня с большим удивлением:
— И ты думаешь, что Свейн мог пойти на это?
— А почему бы и нет, — ответил я.
Гуннхильд замолчала.
— Нет! Хотя он мог и сделать это! Вполне! Он всегда стремился достичь цели во что бы то ни стало.
Она улыбнулась:
— И я чувствовала себя с ним совершенно счастливой.
— Твои слова достойны разве что язычника. Похоже, что все увещевания священника и угрозы гореть в вечном огне не произвели на тебя никакого впечатления.
— Да что ты? — улыбаясь, переспросила Гуннхильд, и в этот момент я понял, что она действительно прибыла за мной с берегов Острова Радости.
Но настроение королевы внезапно изменилось, и она сказала с яростью:
— Эти проклятые священники! Почему они так несправедливы ко мне и заставляют жить в воздержании, а Свейну разрешают делать, что ему только вздумается. Они с архиепископом стали не разлей вода. Так что этому высокочтимому Адальберту, как выражается наш Рудольф, пошло на пользу, что меня отослали в Ёталанд. И меня нисколько не удивит, если он постарается женить Свейна на дочери кого-нибудь из своих датских друзей, чтобы укрепить положение церкви и в Дании. Адальберт изо всех сил старается упрочить свою власть и делает для этого все возможное и невозможное.
— Меня это нисколько не удивляет, — спокойно ответил я и добавил:
— Ловите лисиц и лисинят, которые портят нам виноградники, а виноградники наши в цвету.
— О чем это ты? — удивилась Гуннхильд.
— Так просто, мне не подобает думать о любви между мужчиной и женщиной как о винограднике в цвету и о священниках как лисицах и лисинятах, что портят эти виноградники. Но, Господи, прости нас грешных, мне показалось уместным это сравнение, когда ты рассказывала о своем браке со Свейном.
Я прочел Гуннхильд все свои записи, вплоть до рассказа об Оттаре Черном в палатах Олава. Ей хотелось, чтобы я прочел и те записи, что касались се самой. Узнала она из этих записей и много нового.
Я рассказал о смерти Уродца, и Гуннхильд плакала.
Но когда я стал читать о Бригите, она захотела узнать о ней подробнее.
— Ты ее любил, — сказала королева.
— Да, но ведь и ты любила Свейна, — с неудовольствием ответил я.
Она подумала.
— Да, ты прав, во всяком случае, я сходила от него с ума, совсем как ты от Бригиты.
— Я не просто сходил с ума, — неуверенно ответил я, откинулся назад и закрыл глаза, — Она была в моей душе и в моем сердце, и ни о чем другом, кроме нее, я не мог думать. Я чувствовал ее присутствие везде, и мои мысли всегда были о ней. Я ощущал вкус ее губ на своих губах, запах ее тела был для меня подобен сладкому меду… Теперь ты понимаешь, Гуннхильд, как много она для меня значила? И что я должен был испытывать, когда перерезал ей горло собственной рукой? И когда видел, как ее белое тело выбрасывают за борт — тело, которое давало мне такое наслаждение?
— Да, — ответила она, — мне кажется, я тебя понимаю. Но ведь Кефсе этого не понимал?
— Кефсе вообще не мог думать ни о чем подобном. Он был обеспокоен спасением собственной души.
Она посмотрела на меня, а затем спросила:
— А ты думаешь, Бог обрек твою Бригиту на вечные муки?
— Мне не нужен такой Бог, — резко ответил я.
— Ты спас ее от рабства, хотя тебе и пришлось ради этого перерезать ей горло.
И это было правдой, хотя я все никак не мог успокоиться. Наша хрустальная лодка чуть было не разбилась.
— Тебе было с ней хорошо, — продолжила Гуннхильд, — и ты отмолил и свои, и ее грехи. Так почему ты сейчас так страдаешь?
— Не знаю, — ответил я. В душе моей царило смятение.
— Ниал, почему ты так часто говоришь о горе и страданиях? Зачем? Что тебе это дает?
— Страдание определяет душу человека, — ответил я, — так меня учили с детства. Может, мне поэтому так трудно забыть об этом. Конн, мой воспитатель, хотел, чтобы я стал монахом.
— Но ты не доставил ему этой радости, — улыбнулась Гуннхильд.
— Иногда я все же радовал его. Он всегда был доволен, когда видел, как я тянусь к знаниям.
— И еще ты рассказывал, что он все время молился?
— Да, он возносил молитву Богу несколько раз в день в определенные часы. Обычно такие молитвы возносятся один раз в день, но Конн делал это три раза. И последнюю молитву он произносил, сидя в бочке с ледяной водой.
Гуннхильд рассмеялась переливчатым смехом. Мне очень нравился ее смех, но на этот раз я обиделся за Конна.
— Он делал это во имя всех грешников. Он молился за них, — холодно сказал я.
— И кому он помог? — не унималась Гуннхильд.
— Надеюсь, что кому-то, — ответил я, и на этот раз сам не смог сдержать улыбки.
Куда делось мое ужасное настроение? Чему я так радовался? Отголосок памяти о страданиях таял в моей душе. Гуннхильд вела меня в страну наслаждения, и я следовал за ней.
Она была Гуннхильд из Тирнанег, она была женщиной, поющей Брану сыну Фебала:
Когда же мы дошли до описания наложницы конунга Олава, то я сказал, что наверняка она не была так ужасна, как ее представила Астрид.
— Была, — ответила Гуннхильд, — я ее видела.
— Когда?
— После смерти короля Магнуса, двенадцать зим назад. Альвхильд приехала тогда к одному дану по имени Торкель. Когда-то давно она оказала ему большую услугу. И он хорошо принял ее, сделал все, чтобы она смогла забыть горе. Но перед Рождеством она загрустила.
— Что тебя печалит, мать короля? — спросил ее Торкель.
— Меня печалит, что я встречу это Рождество на дворе, не принадлежащем человеку королевской крови, — ответила Альвхильд.
— Это уж слишком, — сказал я, — а кто тебе это рассказал?
— Торкель. И сама Альвхильд. Потому что Торкель ответил ей, что Альвхильд лучше уехать к конунгу Свейну. Она так и сделала, а мне передала привет от Торкеля. Альвхильд долго гостила у Свейна, даже после того, как я уехала в Данию. И она стала совершенно невыносимой. Рассказывала всем, что ее отец никогда не был бондом, а в Англии у нее есть родственники высокого происхождения. И она хвасталась, как обошлась с Торкелем. Слава Богу, она наконец уехала в Англию.
Мы говорили и говорили, и никак не могли наговориться.
Я рассказывал ей о своем детстве и о смерти отца. И о поездках по миру. Я переводил ей песни, которые сложил сам и которые слышал от других. Я рассказывал предания о королях Тары и о героях Ирландии.
А Гуннхильд поведала мне северные сказания.
Я был удивлен, как много песен и вис она знала. Кроме того, пересказала она мне и многие королевские саги. О королях, правивших раньше в Свитьоде, и о языческих богах.
— Но ведь здесь наверняка было и капище? — спросил я.
— Да, в Скаре, — ответила она.
Я ответил, что слышал, что языческим богам продолжают приносить жертвы. Гуннхильд кивнула.
— А разве ты не обратил внимание, что многие дружинники что-то бормотали, когда пили пиво на Рождество? — спросила она. — Они специально говорили так тихо, чтобы священники их не услышали. Но они посвящали свои возлияния языческим богам — Одину или Тору.
— Так об этом ты не рассказываешь священникам? — спросил я.
— А зачем?
— Язычница!
— Ирландец! — тут же ответила Гуннхильд. — Уж не решил ли ты, что наш Рудольф похож на твоего Патрика?
И вскоре я уже не мог прожить без нее. Я скучал по ней каждую минуту, когда мы не были вместе. Каждой своей мыслью я стремился поделиться с Гуннхильд.
Такого чувства я не испытывал ни к одной из женщин.
Бригита была прекрасна, как Этайн, с ней я делил ложе, но не мысли.
— Но неужели мне надо благодарить Бога за то, что я родился рабом? — возмутился Лохмач.
— Нет, — ответил я. — Ты должен знать, что это несправедливо, и у тебя есть право возмущаться этим. Ты должен помнить, что перед Богом все люди едины. И Господь говорил, что люди должны стремиться к справедливости. Его слова очень не понравились сильным мира сего. И они распяли его на кресте. И тем не менее он был готов простить своих палачей, если бы они стали раскаиваться.
— Я не понимаю, — сказал Лохмач, — неужели ты, Кефсе, простил тех, кто превратил тебя в раба?
Я задумался.
— Не знаю, — наконец ответил я.
— Тогда ты наверняка не простил, — коротко сказал Лохмач.
Он помолчал, а потом добавил:
— А ты хочешь их простить?
Я еще раз задумался.
— Нет, — признался я, — я не уверен, что хочу простить их.
Он как будто задел струну в моей душе, и душа моя наполнилась фальшивой нотой, от звука которой на моих глазах выступили слезы. Я изо всех сил сдерживал рыдания.
Но напрасно.
— Почему ты плачешь, Кефсе? — спросила Тора.
— Я… Я думаю, что плачу из-за зла, которое люди причиняют друг другу. Из-за их жестокости. И еще из-за того, что я не могу простить.
— Да поможет нам Тот, кто был рожден в хлеву, — проговорил Бьёрн.
— Да, — с трудом ответил я.
Я почувствовал, как меня кто-то обнял и прошептал мне в ухо:
— Кефсе!
Это была Тора. И я плакал у нее на плече, как будто она была моей матерью.
На следующий день на рождественской заутрене я стоял не с королевами. Даже если бы я захотел, я никогда не смог бы пройти мимо рабов. Они стояли позади всех. Там же, рядом с ними, остановился и я.
И мне было все равно, что все с удивлением смотрели на меня.
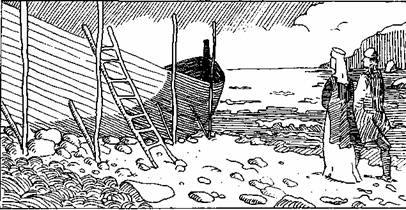
III. КНИГА КОРОЛЕВЫ ГУННХИЛЬД
После рождественской службы Рудольф сказал королеве Астрид, что ей лучше воздержаться от рассказа в эти праздничные дни.
Королева резко спросила, неужели Рудольф считает такой тяжелой работой выслушивать ее повествование.
Он ответил, что это, во всяком случае, труд для меня, писца.
Я заметил, что могу и не делать никаких записей, а постараться все запомнить и записать потом.
Рудольф разозлился и заявил, что это право священника решать, что можно и что нельзя делать в церковные праздники.
Поскольку дело шло к ссоре, я промолчал, но решил, что обязательно поговорю с Астрид. И если она скажет, что у нее осталось мало времени, то я нарушу запрет Рудольфа.
Рабыни убрали со стола после ужина, но Астрид осталась сидеть в палатах. Не ушла и Гуннхильд.
Я обратился к королеве Астрид:
— Я думаю, тебе не терпится завершить свой рассказ. Если хочешь, я поговорю с Рудольфом.
— У меня действительно осталось мало времени, дни мои сочтены. Мне все труднее дышать, я задыхаюсь, и сердце чуть не выскакивает из груди при каждом шаге. И тем не менее я могу прожить еще несколько месяцев. Никто не знает, какой срок ему отпускает Бог. Так что вряд ли стоит злить Рудольфа. Я отдохну в эти праздники, а если почувствую себя хуже, то тут же скажу тебе, Ниал.
Она совершенно спокойно говорила о приближающейся смерти. А потом вдруг спросила:
— А что случилось во время службы? Почему вдруг ты стал вместе с рабами?
— Ты забываешь, что я и сам был рабом десять зим. Это мои друзья.
— Я никогда не замечала у тебя рабских мыслей.
— А что ты называешь рабскими мыслями?
— Раб всегда унижен, он лжет, ворует и отлынивает от работы. И может быть очень нахальным, если вдруг почувствует власть.
— Я совершенно не сомневаюсь, что рабство может искалечить человека, разрушить его, но оно может воспитать и святость. Именно в годы рабства в душе Патрика проснулась любовь к Богу и ближнему своему. И среди рабов Хюсабю есть достойные уважения.
— Кто же? — спросила Гуннхильд.
— Бьёрн, Тора, Лохмач и еще некоторые…
— Лохмач? — переспросила Гуннхильд. — Я все время слышу на него жалобы, потому что он очень вызывающе ведет себя.
— Ты несправедлива. У него просто нет «рабских мыслей», как говорит Астрид. Святой Патрик убедил ирландцев освободить своих рабов. Я думаю, он сделал это, потому что сам побывал в рабстве. Много лет в Ирландии не было рабов. Они стали появляться только после нападений викингов, которые вернули в мою страну языческие обычаи.
— Но ведь рабы были и у тебя самого, — сказала Гуннхильд.
— В последний раз, — ответил я.
— Я не знаю, как вели себя ирландцы, когда освобождали своих рабов. Но в Швеции мы всегда стараемся создать нормальные условия жизни для освобожденного раба. Многие считают, что лучше быть рабом, чем умереть с голода. Кроме того, не так уж и легко следить за выполнением закона. И тут большое значение имеет семья. Если человек отказывается выплатить выкуп, то тогда это должны сделать его близкие. Достойная семья всегда позаботиться о родственнике и выручит его из беды. Если же раба берут в свободную семью, то его и считают свободным человеком.
— И часто так бывает? — спросила я.
— Нет, и освобожденный раб не может выкупить или освободить другого раба, даже свою собственную жену.
— А в Норвегии все по-другому, — добавила Астрид. — Раба не обязательно принимать в свободную семью. Но освобожденный раб по-прежнему во многом зависит от своего хозяина, который отвечает за него перед законом.
— И как долго он несет ответственность за бывшего раба? — спросил я.
— Часто в четырех поколениях. Это зависит от того, как быстро раб или его потомки могут заплатить выкуп и созвать гостей на праздник по поводу освобождения. А потом надо еще четыре поколения, чтобы потомки раба стали полноправными гражданами.
Я подумал, что неправильно понял.
— Ты говоришь о четырех поколениях или о четырех годах? — переспросил я.
— О поколениях, — спокойно ответила Астрид.
— Если считать одно поколение тридцатью годами, то тогда должно пройти двести сорок лет?
Она кивнула.
— Сейчас все намного проще, — добавила она, — если раб сам выплачивает за себя выкуп, то тогда мы считаем только четыре поколения.
— Я понял. И это христианские законы Олава Святого?
— Это старые законы, которые он включил в свой свод законов. И еще очень важно, чтобы раб оказался достоин называться свободным человеком не только благодаря деньгам, но и по своим качествам. Чтобы он стал гордым и честным, мужественным и добрым.
— А в чем состояли собственные законы Олава? Чтобы люди в соответствии с церковными правилами не ели по пятницам мяса?
— И это тоже, — спокойно ответила Астрид. — Ведь с принятием христианства люди должны принять и новые церковные правила.
Я задумался.
— Королева Астрид, — сказал я. — Ты рассказала, что твоей матерью была наложница Олава Шведского. И тем не менее, не похоже, чтобы в твоей голове были «рабские мысли». И что понадобилось четыре поколения, чтобы избавиться от них.
Астрид нахмурилась.
— Она никогда не была рабыней, — резко ответила королева.
— Думаю, теперь мы станем лучше понимать друг друга, — заметил я.
Но когда я увидел, что Астрид начала задыхаться, то пожалел о произнесенных словах.
Через некоторое время королева сказала:
— Я так никогда и не узнала, что стало с моей матерью. Я думаю, что королева Олава Шведского заставила конунга продать ее.
Я склонил голову.
— Прости меня! Я не хотел делать тебе больно.
— Тебе не за что просить прощение. Ты правильно сделал, что напомнил мне о ней.
С этими словами она встала и вышла из палат.
Королева Гуннхильд и я сидели в молчании. Затем я сказал:
— Ты не будешь возражать, если я разожгу огонь в трапезной?
— Ты собираешься сегодня работать?
— Нет, но мне хотелось бы просмотреть свои записи. А здесь мне не удается остаться одному. То ко мне приходит Хьяртан поговорить об искусстве поэзии, то Эгиль — об ирландских законах.
— Или тебе мешает мое присутствие, — добавила королева.
— Ты совсем мне не мешаешь.
Я постарался поймать взгляд королевы, и на этот раз мне это удалось.
— Тогда ты не будешь возражать, если я пойду с тобой в трапезную?
Она поняла, что именно этого мне и хочется больше всего.
— Нисколько, — ответил я.
И вместе мы вышли из палат.
Но я все время прислушивался к себе. Действительно ли мне хотелось быть с Гуннхильд, или я просто пытался убежать от самого себя?

В первый день Рождества в зале накрыли роскошные столы. В этот день все обитатели усадьбы, даже рабы, сидели за одним столом. Рудольф благословил еду и напитки. Мы пили за хороший урожай в будущем году, за мир, за Отца, Сына и Святого Духа и за Матерь Божию. И нам просто повезло, что в ту ночь на усадьбу не было нападений, потому что большинство дружинников были пьяны.
На следующий вечер ко мне в трапезную пришли Бьёрн, Тора, Лохмач и некоторые другие рабы. Когда они увидели сидящую на скамье Гуннхильд, то повернулись, чтобы уйти, но королева попросила их остаться.
Мои друзья чувствовали себя очень неудобно и молчали. Все, кроме Бьёрна и Лохмача.
В тот вечер говорил в основном я. Я рассказывал о святом Патрике, о его годах в рабстве и о любви, которую он испытывал к людям.
Но только когда Бьёрн захотел побольше узнать о словах Бога, что все едины перед вратами царствия Небесного, только тогда я понял, что их интересовало.
Я повторил слова апостола Павла, что Иисус добровольно пошел в рабство, чтобы стать ближе людям.
Лохмач тут же спросил:
— Ты хочешь сказать, что Иисус стал рабом, чтобы понять, что значит быть человеком?
— Может быть, — ответил я. — Во всяком случае, тот, кто не задумывается о рабстве и о положении рабов, никогда не поймет до конца человеческую душу.
Лохмач задумался. А Бьёрн принялся рассказывать о епископе Торгауте. Я понял, что он хотел сказать, что их Торгаут был ничем не хуже моего Патрика.
Перед уходом Лохмач неожиданно сказал мне:
— Хотел бы я знать, через какое время ты забудешь что значит быть рабом.
На следующий день из Скары вновь прислали гонца за Эгилем Эмундссоном. Его жена вновь была больна.
Меня очень удивил ответ Эгиля:
— Передайте ей от меня привет и скажите, что я приеду, когда сочту нужным. От болезни, которая ее поразила, никто еще не умирал.
И он посмотрел на Астрид.
Люди много говорили обо мне и Гуннхильд. Мы об этом совсем не думали, зато эти сплетни беспокоили других.
Однажды Рудольф вошел в трапезную, даже не постучавшись. Мне показалось, что он был удивлен, когда увидел, что мы просто сидим и разговариваем. Я сказал, что если он что-то ищет, то может быть он выберет для этого другое время. Он серьезно ответил, что я прав, и отправился восвояси.
Он мог приходить в любое время — между мной и Гуннхильд не происходило ничего, что мы хотели бы скрыть от постороннего взгляда.
Но почему?
Может, нам обоим казалось, что мы связаны обещаниями.
Она пришла ко мне из светлой страны любви Тирнанег, острове на западе, где нет ни болезней, ни старости, ни нужды, ни смерти, ни греха, ни горя. Она была женщиной, уговорившей Брана сына Фебала, отправиться на Остров Радости, где в воздухе звучат переливы арф, где волны моря чисты и прозрачны. Она была женщиной, уговорившей Конле сына Конна, взойти с ней в хрустальную лодку и отправиться по пурпурному морю в страну, где один день длится сотни лет.
Мы боялись коснуться друг друга, чтобы не разрушить что-то, чему мы не знали названия. Не разбить таинственного мгновения. Как говорится в Песни Песней Соломона:
Мы разговаривали обо всем на свете. Даже самые обычные вещи приобретали для нас особенное значение.
Заклинаю вас, дщери Иерусалимские,
Не будите и не тревожьте возлюбленной,
Доколе ей угодно.
Она рассказывала о своем детстве в Свитьоде.
Ее юные годы были полны событиями и треволнениями. Большую часть времени она вместе с матерью, сестрой шведского короля Хольмфрид, провела в одной из ее усадеб. Она почти не помнила своей сестры Сигрид, которая была старше на четырнадцать лет и давно вышла замуж за Аслака Эрлингссона из Сэлы.
Зато у Гуннхильд остались воспоминания об отце — конунге, о котором хорошо отзывались даже его враги. Он был тверд духом, но часто проигрывал сражения.
Так случилось и в сражении у Несьяра.
Олава Шведского Гуннхильд, напротив, почти не помнила. Он умер, когда ей было всего пять зим. Зато конунг Энунд Якоб занимал большое место в ее рассказах о детстве.
Приезжали в Свитьод и подолгу гостили там и королева Астрид, и епископ Сигурд.
В жизни Гуннхильд происходило много странного.
Когда она достигла совершеннолетия, ее выдали замуж за Энунда Якоба. Священники не сказали ни единого слова об их близком родстве и о том, что это противоречит церковным законам.
Она очень жалела, что у них не было детей. У конунга Энунда Якоба не было сыновей и от первого брака.
Он был очень добр с Гуннхильд и оказывал ей все почести, достойные королевы. Он знал, что ей будет неприятно, если с ней станут обходиться как с наложницей, и никогда не делал этого.
Внезапно Гуннхильд обернулась ко мне:
— Он был так добр и почтителен ко мне, так обо мне заботился, что я была готова убить его.
От удивления у меня раскрылся рот, но я тут же постарался взять себя в руки. Все мои мысли перемешались, и понадобилось некоторое время, чтобы привести их в порядок.
Я чувствовал, что Гуннхильд задыхалась в тихой бухте своего мирного существования. Она хотела жить полной жизнью, страдать и наслаждаться.
— Ну ты же ведь не сделала этого. Хотя говорят, что когда король данов Свейн Ульвссон был в изгнании и жил у вас в усадьбе, ты оказывала ему почести…
— А что ты знаешь о том времени? — резко перебила меня Гуннхильд.
— Ничего, только то, что говорили о ваших отношениях с конунгом Свейном…
Она ничего не ответила, а только улыбнулась.
Помолчала, а затем сказала:
— Свейн был для меня как дуновение свежего ветра. Он был теплым и холодным, спокойным и резким. Его смех подхватывал меня, как…
— Как быстрое течение горной реки, — подсказал я.
— Да, именно так. И когда хотел, он всегда добивался своего. Он был как горный поток. Неуправляемый и могучий.
— Да, думаю, он действительно всегда получал то, что хотел.
— Однажды все так чуть было и не случилось, — усмехнулась Гуннхильд, — но тут кто-то вошел, и мы поспешили отойти друг от друга.
— Как же вы могли! — возмутился я. — Ты же ведь была шведской королевой, а он — гостем твоего мужа.
— Я думала об этом, — серьезно ответила Гуннхильд, — я и сама не понимаю, как могла решиться на это. Может быть, потому что вокруг меня всегда было так тихо? Мне казалось, что меня разрывает на части, как будто стал прорастать лесной орех и его росточек стремился вырваться из тесной скорлупы. И Свейн — он никогда себе ни в чем не отказывал.
— Но откуда в тебе эта неукротимость? Разве твои родители не были мирными добрыми христианами?
Гуннхильд расхохоталась.
— Они-то были действительно мирными людьми, но разве ты не слышал о моей бабке, Сигрид Гордой, что сожгла своих женихов, когда они особенно стали ей надоедать?
— Я начинаю лучше тебя понимать, — ответил я, — так как же у тебя все получилось со Свейном и Энундом?
— Энунд прекрасно знал, что Свейн слаб до женщин. И он напрямую спросил Свейна, что у того на уме. Свейну нужна была дружба Энунда, да и на язык он был остер, поэтому тут же ответил, что ему приглянулась Гуда, дочь Энунда. Энунд поверил ему и выдал Гуду за него замуж.
— А вскоре Энунд умер, — задумчиво сказал я.
— Да, а вскоре после его смерти умерла и Гуда.
— Ее, кажется, отравила одна из наложниц Свейна? Ты мне об этом рассказывала. И Свейн не стал ее наказывать.
— Нет, — ответила Гуннхильд, — он не стал этого делать. А поскольку мы оба стали свободными, то Свейн не замедлил прислать ко мне гонца. Со дня смерти Энунда прошло всего три месяца, а со дня смерти Гуды — два, когда мы поженились. Эмунд, сводный брат Энунда, приехал в страну в то время и присутствовал на нашей свадьбе. Его только что провозгласили конунгом Швеции.
— Архиепископ возражал против вашего брака со Свейном. А ты никогда не думала, что могло послужить поводом для этого неудовольствия?
— Я ведь тебе уже говорила: вся эта ерунда по поводу близких родственных связей. Что я якобы была матерью Свейну по церковным законам. Глупость! И еще они говорили, что мы со Свейном никогда не были женаты, потому что наш брак был недействителен и противоречил церковным правилам.
— Но может, архиепископ думал совсем не об этом. Может, он считал, что это Свейн подговорил свою наложницу отравить Гуду.
Она посмотрела на меня с большим удивлением:
— И ты думаешь, что Свейн мог пойти на это?
— А почему бы и нет, — ответил я.
Гуннхильд замолчала.
— Нет! Хотя он мог и сделать это! Вполне! Он всегда стремился достичь цели во что бы то ни стало.
Она улыбнулась:
— И я чувствовала себя с ним совершенно счастливой.
— Твои слова достойны разве что язычника. Похоже, что все увещевания священника и угрозы гореть в вечном огне не произвели на тебя никакого впечатления.
— Да что ты? — улыбаясь, переспросила Гуннхильд, и в этот момент я понял, что она действительно прибыла за мной с берегов Острова Радости.
Но настроение королевы внезапно изменилось, и она сказала с яростью:
— Эти проклятые священники! Почему они так несправедливы ко мне и заставляют жить в воздержании, а Свейну разрешают делать, что ему только вздумается. Они с архиепископом стали не разлей вода. Так что этому высокочтимому Адальберту, как выражается наш Рудольф, пошло на пользу, что меня отослали в Ёталанд. И меня нисколько не удивит, если он постарается женить Свейна на дочери кого-нибудь из своих датских друзей, чтобы укрепить положение церкви и в Дании. Адальберт изо всех сил старается упрочить свою власть и делает для этого все возможное и невозможное.
— Меня это нисколько не удивляет, — спокойно ответил я и добавил:
— Ловите лисиц и лисинят, которые портят нам виноградники, а виноградники наши в цвету.
— О чем это ты? — удивилась Гуннхильд.
— Так просто, мне не подобает думать о любви между мужчиной и женщиной как о винограднике в цвету и о священниках как лисицах и лисинятах, что портят эти виноградники. Но, Господи, прости нас грешных, мне показалось уместным это сравнение, когда ты рассказывала о своем браке со Свейном.
Я прочел Гуннхильд все свои записи, вплоть до рассказа об Оттаре Черном в палатах Олава. Ей хотелось, чтобы я прочел и те записи, что касались се самой. Узнала она из этих записей и много нового.
Я рассказал о смерти Уродца, и Гуннхильд плакала.
Но когда я стал читать о Бригите, она захотела узнать о ней подробнее.
— Ты ее любил, — сказала королева.
— Да, но ведь и ты любила Свейна, — с неудовольствием ответил я.
Она подумала.
— Да, ты прав, во всяком случае, я сходила от него с ума, совсем как ты от Бригиты.
— Я не просто сходил с ума, — неуверенно ответил я, откинулся назад и закрыл глаза, — Она была в моей душе и в моем сердце, и ни о чем другом, кроме нее, я не мог думать. Я чувствовал ее присутствие везде, и мои мысли всегда были о ней. Я ощущал вкус ее губ на своих губах, запах ее тела был для меня подобен сладкому меду… Теперь ты понимаешь, Гуннхильд, как много она для меня значила? И что я должен был испытывать, когда перерезал ей горло собственной рукой? И когда видел, как ее белое тело выбрасывают за борт — тело, которое давало мне такое наслаждение?
— Да, — ответила она, — мне кажется, я тебя понимаю. Но ведь Кефсе этого не понимал?
— Кефсе вообще не мог думать ни о чем подобном. Он был обеспокоен спасением собственной души.
Она посмотрела на меня, а затем спросила:
— А ты думаешь, Бог обрек твою Бригиту на вечные муки?
— Мне не нужен такой Бог, — резко ответил я.
— Ты спас ее от рабства, хотя тебе и пришлось ради этого перерезать ей горло.
И это было правдой, хотя я все никак не мог успокоиться. Наша хрустальная лодка чуть было не разбилась.
— Тебе было с ней хорошо, — продолжила Гуннхильд, — и ты отмолил и свои, и ее грехи. Так почему ты сейчас так страдаешь?
— Не знаю, — ответил я. В душе моей царило смятение.
— Ниал, почему ты так часто говоришь о горе и страданиях? Зачем? Что тебе это дает?
— Страдание определяет душу человека, — ответил я, — так меня учили с детства. Может, мне поэтому так трудно забыть об этом. Конн, мой воспитатель, хотел, чтобы я стал монахом.
— Но ты не доставил ему этой радости, — улыбнулась Гуннхильд.
— Иногда я все же радовал его. Он всегда был доволен, когда видел, как я тянусь к знаниям.
— И еще ты рассказывал, что он все время молился?
— Да, он возносил молитву Богу несколько раз в день в определенные часы. Обычно такие молитвы возносятся один раз в день, но Конн делал это три раза. И последнюю молитву он произносил, сидя в бочке с ледяной водой.
Гуннхильд рассмеялась переливчатым смехом. Мне очень нравился ее смех, но на этот раз я обиделся за Конна.
— Он делал это во имя всех грешников. Он молился за них, — холодно сказал я.
— И кому он помог? — не унималась Гуннхильд.
— Надеюсь, что кому-то, — ответил я, и на этот раз сам не смог сдержать улыбки.
Куда делось мое ужасное настроение? Чему я так радовался? Отголосок памяти о страданиях таял в моей душе. Гуннхильд вела меня в страну наслаждения, и я следовал за ней.
Она была Гуннхильд из Тирнанег, она была женщиной, поющей Брану сыну Фебала:
Есть далекий-далекий остров,
Вкруг которого сверкают кони морей.
Прекрасен бег их по светлым склонам волн,
На четырех ногах стоит остров.
Радость для взоров, обитель славы,
Равнина, где сонм героев предается играм,
Стоит остров на ногах из белой бронзы,
Блистающих до конца времен,
Мы продолжили чтение моей рукописи.
Милая страна, во веки веков
Усыпанная множеством цветов.
Там неведома горесть, и неведом обман,
На земле родной, плодоносной,
Нет ни капли горечи, ни капли зла,
Все — сладкая музыка, нежащая слух.[21]
Когда же мы дошли до описания наложницы конунга Олава, то я сказал, что наверняка она не была так ужасна, как ее представила Астрид.
— Была, — ответила Гуннхильд, — я ее видела.
— Когда?
— После смерти короля Магнуса, двенадцать зим назад. Альвхильд приехала тогда к одному дану по имени Торкель. Когда-то давно она оказала ему большую услугу. И он хорошо принял ее, сделал все, чтобы она смогла забыть горе. Но перед Рождеством она загрустила.
— Что тебя печалит, мать короля? — спросил ее Торкель.
— Меня печалит, что я встречу это Рождество на дворе, не принадлежащем человеку королевской крови, — ответила Альвхильд.
— Это уж слишком, — сказал я, — а кто тебе это рассказал?
— Торкель. И сама Альвхильд. Потому что Торкель ответил ей, что Альвхильд лучше уехать к конунгу Свейну. Она так и сделала, а мне передала привет от Торкеля. Альвхильд долго гостила у Свейна, даже после того, как я уехала в Данию. И она стала совершенно невыносимой. Рассказывала всем, что ее отец никогда не был бондом, а в Англии у нее есть родственники высокого происхождения. И она хвасталась, как обошлась с Торкелем. Слава Богу, она наконец уехала в Англию.
Мы говорили и говорили, и никак не могли наговориться.
Я рассказывал ей о своем детстве и о смерти отца. И о поездках по миру. Я переводил ей песни, которые сложил сам и которые слышал от других. Я рассказывал предания о королях Тары и о героях Ирландии.
А Гуннхильд поведала мне северные сказания.
Я был удивлен, как много песен и вис она знала. Кроме того, пересказала она мне и многие королевские саги. О королях, правивших раньше в Свитьоде, и о языческих богах.
— Но ведь здесь наверняка было и капище? — спросил я.
— Да, в Скаре, — ответила она.
Я ответил, что слышал, что языческим богам продолжают приносить жертвы. Гуннхильд кивнула.
— А разве ты не обратил внимание, что многие дружинники что-то бормотали, когда пили пиво на Рождество? — спросила она. — Они специально говорили так тихо, чтобы священники их не услышали. Но они посвящали свои возлияния языческим богам — Одину или Тору.
— Так об этом ты не рассказываешь священникам? — спросил я.
— А зачем?
— Язычница!
— Ирландец! — тут же ответила Гуннхильд. — Уж не решил ли ты, что наш Рудольф похож на твоего Патрика?
И вскоре я уже не мог прожить без нее. Я скучал по ней каждую минуту, когда мы не были вместе. Каждой своей мыслью я стремился поделиться с Гуннхильд.
Такого чувства я не испытывал ни к одной из женщин.
Бригита была прекрасна, как Этайн, с ней я делил ложе, но не мысли.
