Сергей Михайлович Иванов
Утро вечера мудренее
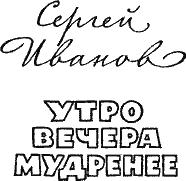

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЛЕЧЕНИЕ ПАНА ТОМАША
В 1741 году Ломоносов возвращался морем из Германии на родину и увидал во сне своего отца, выброшенного кораблекрушением на необитаемый остров. Остров, где на камнях лежало бездыханное тело, был Ломоносову знаком: в молодости его вместе с отцом туда иногда заносило бурею. Сон запечатлелся в его памяти. Прибыв в Петербург, бросился он искать кого-нибудь из земляков, чтобы разузнать об отце, и нашел своего родного брата. От него он услышал, что весной, едва только вскрылись воды, отец, по своему обыкновению, отправился в море на рыбный промысел. С тех пор минуло четыре месяца, а об отце и об его артели ни слуху ни духу. Слова брата наполнили его сильным беспокойством, он решил проситься в отпуск и ехать на тот самый остров, чтобы похоронить отца с честью, если сон подтвердится. Отпуска ему не дали, тогда он снарядил в Холмогоры брата, дав ему денег и письмо к тамошней рыбацкой артели. В письме Ломоносов просил земляков при первой же возможности заехать на остров, положение которого и вид берегов он подробно описал, поискать тело отца и, если оно найдется, предать земле. Осенью рыбаки нашли тело Василия Ломоносова на том пустынном острове, который и приснился его сыну, погребли его там, положив на могилу камень, и обо всем написали ему в Петербург.
История эта не сочинена нами: почти слово в слово переписали мы рассказ друга Ломоносова, секретаря Академии наук Якоба Штелина, которому тот про свой вещий сон поведал сам. Рассказ Штелина помещен в предисловии к изданию сочинений Ломоносова 1865 года. Никаких оснований не верить ему у нас нет. Ни солгать, ни пуститься в мистификацию Ломоносов не мог, не мог этого сделать и Штелин. С такими вещами, как смерть близких, не шутят. Ошибка памяти? И у того, и у другого память была превосходной. Мог ли Ломоносов забыть подробности этого столь рокового для него происшествия или перепутать что-нибудь? Нет, это немыслимо.
Перепутать мог Штелин. Но ошибиться здесь можно лишь в незначительных частностях: отец мог уйти в море не четыре, а три месяца назад, брат мог не сразу отыскаться в Петербурге и так далее. Сопоставим рассказ Штелина, который проверить невозможно, с хорошо всем известным рассказом профессора А. А. Иностранцева про сон Менделеева, который проверен полностью, и мы увидим, что в подобных случаях забывается, а что нет.
Про знаменитый сон первым узнал философ И. И. Лапшин, собиравший материал для своей книги «Философия изобретений и изобретения в философии». Иностранцев рассказал ему о сне в 1919 году — спустя полвека после того, как сам о нем услышал от Менделеева. Какое обширное поле для ошибок и искажений! И что же? Всего нашлась одна ошибка, да и то к содержанию сна не относящаяся. По словам Иностранцева, он зашел однажды проведать Менделеева и застал его стоящим у конторки в угнетенном состоянии. «Все в голове сложилось, а выразить таблицей не могу», — сказал Менделеев. «Немного позднее, — пишет Лапшин, — оказалось следующее. Менделеев три дня и три ночи, не ложась спать, проработал у конторки, пробуя скомбинировать результаты своей мысленной конструкции в таблицу, но попытки… оказались неудачными. Наконец, под влиянием крайнего утомления, Менделеев лег спать и тотчас заснул. „Вижу во сне таблицу, где элементы расставлены, как нужно, — рассказал он потом Иностранцеву. — Проснулся, тотчас записал на клочке бумаги, — только в одном месте впоследствии оказалась нужной поправка“.
Клочок этот нашелся, и из него видно, что случившееся было передано Иностранцевым, а вслед за ним и Лапшиным поразительно точно — за исключением одной-единственной детали. Перед тем как заснуть и увидеть во сне окончательный вариант таблицы, Менделеев работал без отдыха не трое суток, а часов семь или восемь. Таблица приснилась ему не ночью, а днем, когда он прилег отдохнуть на часок. Мы не знаем, кто из рассказчиков почувствовал, что «три дня и три ночи» звучат чересчур былинно, но явно неспроста Лапшин находит нужным сказать, что Менделеев «обладал совершенно исключительной работоспособностью, причем он мог 2 — 3 суток не спать и не отрываться от работы, как это было и в вышеприведенном случае. Но зато он мог спать подряд богатырским сном сутки». То ли Лапшин высказал сомнение насчет трех дней и Иностранцев поспешил рассеять его, то ли он сделал это, не дожидаясь вопросов Лапшина, — в конце концов, все это не важно. Важно, что Иностранцев не забыл главного, как не забыл, конечно, и Штелин, которому вообще-то нечего было ни забывать, ни перепутывать, настолько история с вещим сном жива и драматична.
Но, может быть, эта история все-таки не что иное, как редчайшее, случающееся раз в сто лет совпадение, в котором обе формы бытия связаны не прямой, как сказали бы теперь, информационной связью, а связью косвенной, когда воображение и память рисуют сновидцу то, что при определенных обстоятельствах может произойти с человеком, о котором он думает часто и с беспокойством, усиливающимся от долгой разлуки, и вот, по воле случая и тех же обстоятельств, действительно происходит? Сверхъестественно, скажете вы. Да, но не невозможно! И почему вам не кажется сверхъестественным сон, в котором человек видит с необыкновенной отчетливостью таблицу, где все химические элементы — а было их тогда открыто уже семьдесят с чем-то — расставлены «как нужно», и наоборот, кажется бесспорно сверхъестественной, нуждающейся в особых оправданиях способность три дня и три ночи не смыкать глаз и сохранить при этом если не телесную бодрость, то ясность ума? В самом деле, почему существует, например, лечебное голодание, но еще никто не слыхивал о лечебной бессоннице? «К леченью голодом пан Томаш приступил: леченье модное, и в нем источник сил», — писал Мицкевич в «Дзядах». Вон когда еще оно было модным, вон когда о нем уже злословили — полтораста лет назад! «Источник сил», — говорит поэт, источник сил — в отказе от еды, в отказе научно обоснованном, разумеется, с соблюдением врачебных предписаний и все такое, но в отказе! А попробуйте-ка отказаться от сна, и не на три дня и три ночи — куда там! — всего на сутки, и после этого займитесь умственной работой самого низкого ранга — нехватку сил, вот что вы почувствуете! Да можно ли вообще ставить в один ряд сон и еду, как это делаем мы подчас в разного рода перечислениях «условий существования»? Если и можно, то, наверное, лишь так, как это сделал Сервантес: «Да будет благословен тот, кто изобрел сон, этот покров, который скрывает все человеческие мысли, пища, которая насыщает голодных, влага, которая утоляет жаждущих, огонь, который согревает озябших, прохлада, которая спасает от жгучего зноя, — словом, всемирная монета, на которую можно купить все что угодно, и весы, на которых уравниваются император и пастух, мудрец и невежда».
Пища и влага, тепло и прохлада, всемирная монета, самая ценная из всех, — так что же он такое, этот сон, зачем дарован он нам природой, для чего мы спим и видим сны, почему мы нуждаемся в сне больше, чем в чем бы то ни было?

История эта не сочинена нами: почти слово в слово переписали мы рассказ друга Ломоносова, секретаря Академии наук Якоба Штелина, которому тот про свой вещий сон поведал сам. Рассказ Штелина помещен в предисловии к изданию сочинений Ломоносова 1865 года. Никаких оснований не верить ему у нас нет. Ни солгать, ни пуститься в мистификацию Ломоносов не мог, не мог этого сделать и Штелин. С такими вещами, как смерть близких, не шутят. Ошибка памяти? И у того, и у другого память была превосходной. Мог ли Ломоносов забыть подробности этого столь рокового для него происшествия или перепутать что-нибудь? Нет, это немыслимо.
Перепутать мог Штелин. Но ошибиться здесь можно лишь в незначительных частностях: отец мог уйти в море не четыре, а три месяца назад, брат мог не сразу отыскаться в Петербурге и так далее. Сопоставим рассказ Штелина, который проверить невозможно, с хорошо всем известным рассказом профессора А. А. Иностранцева про сон Менделеева, который проверен полностью, и мы увидим, что в подобных случаях забывается, а что нет.
Про знаменитый сон первым узнал философ И. И. Лапшин, собиравший материал для своей книги «Философия изобретений и изобретения в философии». Иностранцев рассказал ему о сне в 1919 году — спустя полвека после того, как сам о нем услышал от Менделеева. Какое обширное поле для ошибок и искажений! И что же? Всего нашлась одна ошибка, да и то к содержанию сна не относящаяся. По словам Иностранцева, он зашел однажды проведать Менделеева и застал его стоящим у конторки в угнетенном состоянии. «Все в голове сложилось, а выразить таблицей не могу», — сказал Менделеев. «Немного позднее, — пишет Лапшин, — оказалось следующее. Менделеев три дня и три ночи, не ложась спать, проработал у конторки, пробуя скомбинировать результаты своей мысленной конструкции в таблицу, но попытки… оказались неудачными. Наконец, под влиянием крайнего утомления, Менделеев лег спать и тотчас заснул. „Вижу во сне таблицу, где элементы расставлены, как нужно, — рассказал он потом Иностранцеву. — Проснулся, тотчас записал на клочке бумаги, — только в одном месте впоследствии оказалась нужной поправка“.
Клочок этот нашелся, и из него видно, что случившееся было передано Иностранцевым, а вслед за ним и Лапшиным поразительно точно — за исключением одной-единственной детали. Перед тем как заснуть и увидеть во сне окончательный вариант таблицы, Менделеев работал без отдыха не трое суток, а часов семь или восемь. Таблица приснилась ему не ночью, а днем, когда он прилег отдохнуть на часок. Мы не знаем, кто из рассказчиков почувствовал, что «три дня и три ночи» звучат чересчур былинно, но явно неспроста Лапшин находит нужным сказать, что Менделеев «обладал совершенно исключительной работоспособностью, причем он мог 2 — 3 суток не спать и не отрываться от работы, как это было и в вышеприведенном случае. Но зато он мог спать подряд богатырским сном сутки». То ли Лапшин высказал сомнение насчет трех дней и Иностранцев поспешил рассеять его, то ли он сделал это, не дожидаясь вопросов Лапшина, — в конце концов, все это не важно. Важно, что Иностранцев не забыл главного, как не забыл, конечно, и Штелин, которому вообще-то нечего было ни забывать, ни перепутывать, настолько история с вещим сном жива и драматична.
Но, может быть, эта история все-таки не что иное, как редчайшее, случающееся раз в сто лет совпадение, в котором обе формы бытия связаны не прямой, как сказали бы теперь, информационной связью, а связью косвенной, когда воображение и память рисуют сновидцу то, что при определенных обстоятельствах может произойти с человеком, о котором он думает часто и с беспокойством, усиливающимся от долгой разлуки, и вот, по воле случая и тех же обстоятельств, действительно происходит? Сверхъестественно, скажете вы. Да, но не невозможно! И почему вам не кажется сверхъестественным сон, в котором человек видит с необыкновенной отчетливостью таблицу, где все химические элементы — а было их тогда открыто уже семьдесят с чем-то — расставлены «как нужно», и наоборот, кажется бесспорно сверхъестественной, нуждающейся в особых оправданиях способность три дня и три ночи не смыкать глаз и сохранить при этом если не телесную бодрость, то ясность ума? В самом деле, почему существует, например, лечебное голодание, но еще никто не слыхивал о лечебной бессоннице? «К леченью голодом пан Томаш приступил: леченье модное, и в нем источник сил», — писал Мицкевич в «Дзядах». Вон когда еще оно было модным, вон когда о нем уже злословили — полтораста лет назад! «Источник сил», — говорит поэт, источник сил — в отказе от еды, в отказе научно обоснованном, разумеется, с соблюдением врачебных предписаний и все такое, но в отказе! А попробуйте-ка отказаться от сна, и не на три дня и три ночи — куда там! — всего на сутки, и после этого займитесь умственной работой самого низкого ранга — нехватку сил, вот что вы почувствуете! Да можно ли вообще ставить в один ряд сон и еду, как это делаем мы подчас в разного рода перечислениях «условий существования»? Если и можно, то, наверное, лишь так, как это сделал Сервантес: «Да будет благословен тот, кто изобрел сон, этот покров, который скрывает все человеческие мысли, пища, которая насыщает голодных, влага, которая утоляет жаждущих, огонь, который согревает озябших, прохлада, которая спасает от жгучего зноя, — словом, всемирная монета, на которую можно купить все что угодно, и весы, на которых уравниваются император и пастух, мудрец и невежда».
Пища и влага, тепло и прохлада, всемирная монета, самая ценная из всех, — так что же он такое, этот сон, зачем дарован он нам природой, для чего мы спим и видим сны, почему мы нуждаемся в сне больше, чем в чем бы то ни было?

ЧЕЛОВЕК НА ВЕСАХ
Такие вопросы люди начали задавать себе сравнительно недавно, лет двести назад. До тех пор если их что и занимало в сне, то разве одни сновидения — предмет, безусловно, почтенный, но, согласитесь, далеко не исчерпывающий такого сложного явления, как сон. «Вся наша история, — отмечает в конце XVIII века немецкий ученый и писатель Лихтенберг, — есть исключительно история бодрствующего человека, а об истории спящего еще никто не думал… Почему нельзя отвыкнуть от сна? — спрашивает он. — Почему человек спит? Что такое человек во сне?»
«Можно было бы предположить, — развивает он первый свои вопрос, — что поскольку важнейшие жизненные функции отправляются непрерывно и предназначенные для этого органы никогда не пребывают в покое и не засыпают, как, например, сердце, внутренности, лимфатические сосуды, — то и вообще спать не обязательно. Следовательно, прерывают свою деятельность те органы, которые больше всего необходимы для функций души… Сон представляется мне скорее отдыхом для органов мышления…»
А что же такое человек во сне? «Он растение, и ничего больше, а, следовательно, венец творения должен иногда становиться растением, чтобы днем в течение нескольких часов выступать в качестве венца творения. Рассматривал ли кто-нибудь сон как состояние, связывающее нас с растениями?»
Но неужели «растение, и ничего больше»? Нет, это всего-навсего метафора, и Лихтенберг обнаруживает редкую проницательность, замечая, что «в сонном состоянии человек, разумеется, действует меньше, нежели в бодрствующем, но зато именно здесь больше всего мог бы действовать бодрствующий психолог». Если бы человек был только растением, психологу было бы нечего делать около него. Даже те, кто исследует сегодня своеобразные проявления восприятия и эмоциональной памяти у растений, должны с этим согласиться.
Как ни странно, психологи так и не занялись спящим человеком. Может быть, они считали сон досадным недоразумением? Врачам же и физиологам сон сразу пришелся по душе, так что подход к нему с самого начала получился врачебно-физиологический. На заре XIX века появилась первая теория сна — гемодинамическая. Ее сторонники, среди которых был знаменитый врач и философ Кабанис, были убеждены, что сон проистекает от застоя крови в мозгу, а застой — от горизонтального положения тела, а горизонтальное положение — должно быть, оттого, что в нем всего удобнее отдыхать.
Затем те же врачи и физиологи выяснили, что в работающих органах сосуды расширяются и к ним притекает больше крови, а в неработающих, напротив, сужаются и крови к ним притекает меньше. Во сне мозг не работает, значит, сон — результат отлива крови. Что же тут совершается в первую очередь, а что во вторую — мозг ли перестает работать, иссякает ли приток крови? Итальянский физиолог Анжело Моссо смастерил специальную доску-весы, на нее укладывали человека, уравновешивали его и ждали, пока он заснет. Когда он задремывал, тот конец весов, где находилась его голова, поднимался. Это означало, что во сне кровь отхлынула от головы и голова стала легче. Через некоторое время Моссо таким же способом доказал, что как только человек начинает решать какую-нибудь умственную задачу, кровь у него приливает к голове.
После опытов Моссо исследователи разделились на два лагеря. Те, кого эти опыты убедили, связывали наступление сна с отливом крови от головы, а те, кого они не убедили, — с приливом. О приливе свидетельствовали сначала не экспериментальные данные, а чисто логические рассуждения, восходящие к одной мысли Шопенгауэра. Мозг, говорил этот философ, днем занят умственной работой и поглощен ею настолько, что питаться ему остается только ночью. А раз так, то ночью кровь, несущая с собой питательные вещества, должна усиленно приливать к мозгу. Экспериментальные данные не заставили себя ждать: сквозь трепанационное отверстие в черепе у больных врачи увидели, как кровь во время сна приливает к мозгу.
Впоследствии, уже в наше время, выяснилось, что отливы и приливы крови непосредственной причинной связью ни со сном, ни с бодрствованием не связаны. Сразу после засыпания кровь отливает от головы, а к утру приливает иногда даже больше, чем при самом деятельном бодрствовании. Голова у испытуемого, который засыпал на весах Моссо, поднималась вполне закономерно, но так же закономерно она очутилась бы ниже его ног часа через полтора после засыпания. Об этом во времена Моссо ничего не знали, а дождаться перемены в положении весов не догадались. Да ее и невозможно было дождаться: кому же удастся толком заснуть на качающейся доске? Опыт с трепанационным отверстием основательнее: там человек спал наверняка, но врач видел усиленный приток крови, свойственный не сонному состоянию вообще, а одной из фаз сна. Расставаясь наконец со всеми этими потоками крови, заметим попутно, что не ошибся Моссо и с умственными задачами: пользуясь методами реоэнцефалографии, нейропсихологи установили недавно, какой отдел мозга наполняется кровью, когда человек начинает решать проблемную задачу, а какой — когда задачу на чистое восприятие, скажем, на вычленение фигуры из фона.
По прошествии некоторого времени на сцену выступила гистологическая теория сна. Создатель ее, Дюваль, считал, что сон наступает оттого, что после продолжительного возбуждения нервные клетки в мозгу как бы сжимаются, их отростки сокращаются и между ними прерывается необходимая для бодрствования связь. То же самое, кстати, получается и от приема снотворных — морфия, хлороформа, хлорал-гидрата. Как говорил известный наш физиолог И. Р. Тарханов, для объяснения сна можно было бы соединить гистологическую теорию с химической, допустив, что накопляющиеся продукты усталости и есть как раз те самые раздражители, которые вызывают постепенное размыкание нейронных цепей. Но химическая теория заслуживает специального рассмотрения.
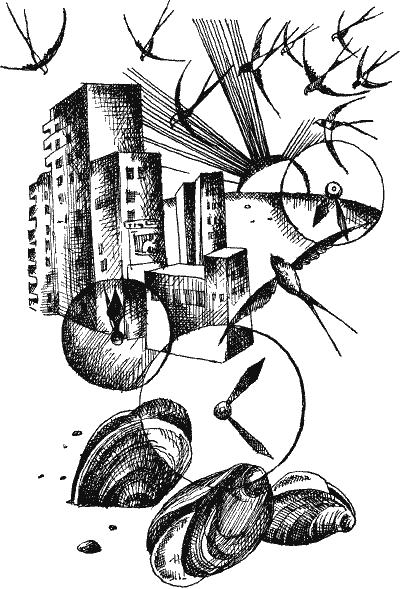
«Можно было бы предположить, — развивает он первый свои вопрос, — что поскольку важнейшие жизненные функции отправляются непрерывно и предназначенные для этого органы никогда не пребывают в покое и не засыпают, как, например, сердце, внутренности, лимфатические сосуды, — то и вообще спать не обязательно. Следовательно, прерывают свою деятельность те органы, которые больше всего необходимы для функций души… Сон представляется мне скорее отдыхом для органов мышления…»
А что же такое человек во сне? «Он растение, и ничего больше, а, следовательно, венец творения должен иногда становиться растением, чтобы днем в течение нескольких часов выступать в качестве венца творения. Рассматривал ли кто-нибудь сон как состояние, связывающее нас с растениями?»
Но неужели «растение, и ничего больше»? Нет, это всего-навсего метафора, и Лихтенберг обнаруживает редкую проницательность, замечая, что «в сонном состоянии человек, разумеется, действует меньше, нежели в бодрствующем, но зато именно здесь больше всего мог бы действовать бодрствующий психолог». Если бы человек был только растением, психологу было бы нечего делать около него. Даже те, кто исследует сегодня своеобразные проявления восприятия и эмоциональной памяти у растений, должны с этим согласиться.
Как ни странно, психологи так и не занялись спящим человеком. Может быть, они считали сон досадным недоразумением? Врачам же и физиологам сон сразу пришелся по душе, так что подход к нему с самого начала получился врачебно-физиологический. На заре XIX века появилась первая теория сна — гемодинамическая. Ее сторонники, среди которых был знаменитый врач и философ Кабанис, были убеждены, что сон проистекает от застоя крови в мозгу, а застой — от горизонтального положения тела, а горизонтальное положение — должно быть, оттого, что в нем всего удобнее отдыхать.
Затем те же врачи и физиологи выяснили, что в работающих органах сосуды расширяются и к ним притекает больше крови, а в неработающих, напротив, сужаются и крови к ним притекает меньше. Во сне мозг не работает, значит, сон — результат отлива крови. Что же тут совершается в первую очередь, а что во вторую — мозг ли перестает работать, иссякает ли приток крови? Итальянский физиолог Анжело Моссо смастерил специальную доску-весы, на нее укладывали человека, уравновешивали его и ждали, пока он заснет. Когда он задремывал, тот конец весов, где находилась его голова, поднимался. Это означало, что во сне кровь отхлынула от головы и голова стала легче. Через некоторое время Моссо таким же способом доказал, что как только человек начинает решать какую-нибудь умственную задачу, кровь у него приливает к голове.
После опытов Моссо исследователи разделились на два лагеря. Те, кого эти опыты убедили, связывали наступление сна с отливом крови от головы, а те, кого они не убедили, — с приливом. О приливе свидетельствовали сначала не экспериментальные данные, а чисто логические рассуждения, восходящие к одной мысли Шопенгауэра. Мозг, говорил этот философ, днем занят умственной работой и поглощен ею настолько, что питаться ему остается только ночью. А раз так, то ночью кровь, несущая с собой питательные вещества, должна усиленно приливать к мозгу. Экспериментальные данные не заставили себя ждать: сквозь трепанационное отверстие в черепе у больных врачи увидели, как кровь во время сна приливает к мозгу.
Впоследствии, уже в наше время, выяснилось, что отливы и приливы крови непосредственной причинной связью ни со сном, ни с бодрствованием не связаны. Сразу после засыпания кровь отливает от головы, а к утру приливает иногда даже больше, чем при самом деятельном бодрствовании. Голова у испытуемого, который засыпал на весах Моссо, поднималась вполне закономерно, но так же закономерно она очутилась бы ниже его ног часа через полтора после засыпания. Об этом во времена Моссо ничего не знали, а дождаться перемены в положении весов не догадались. Да ее и невозможно было дождаться: кому же удастся толком заснуть на качающейся доске? Опыт с трепанационным отверстием основательнее: там человек спал наверняка, но врач видел усиленный приток крови, свойственный не сонному состоянию вообще, а одной из фаз сна. Расставаясь наконец со всеми этими потоками крови, заметим попутно, что не ошибся Моссо и с умственными задачами: пользуясь методами реоэнцефалографии, нейропсихологи установили недавно, какой отдел мозга наполняется кровью, когда человек начинает решать проблемную задачу, а какой — когда задачу на чистое восприятие, скажем, на вычленение фигуры из фона.
По прошествии некоторого времени на сцену выступила гистологическая теория сна. Создатель ее, Дюваль, считал, что сон наступает оттого, что после продолжительного возбуждения нервные клетки в мозгу как бы сжимаются, их отростки сокращаются и между ними прерывается необходимая для бодрствования связь. То же самое, кстати, получается и от приема снотворных — морфия, хлороформа, хлорал-гидрата. Как говорил известный наш физиолог И. Р. Тарханов, для объяснения сна можно было бы соединить гистологическую теорию с химической, допустив, что накопляющиеся продукты усталости и есть как раз те самые раздражители, которые вызывают постепенное размыкание нейронных цепей. Но химическая теория заслуживает специального рассмотрения.
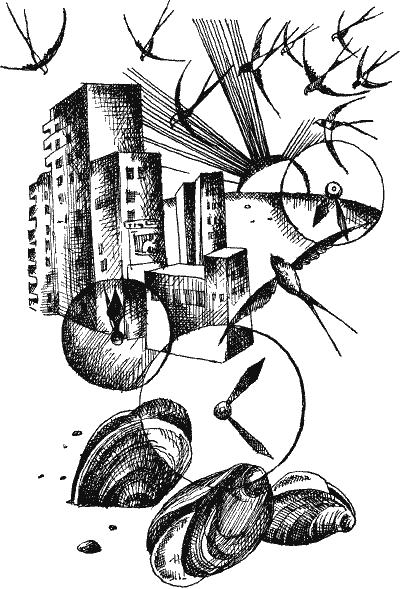
ФАБРИКА ЯДОВ
«Организм — это настоящая фабрика ядов… Мы отравлены с головы до ног продуктами наших собственных органов», — писал в своей книге «Сон», вышедшей в 1918 году, химик И. И. Остромысленский. Сон, говорил он, можно сравнить с остановкой машины, в которую прекратился доступ горючего, например, кислорода, вытесненного углекислым газом, или с прочисткой топки, куда набилась зола. Ночью организм очищается от накопившихся ядов и шлаков, а утром снова начинается засорение и отравление.
По мнению химика Прейера, во время бодрствования во всех клетках тела накапливаются продукты легко окисляющиеся, то есть с жадностью пожирающие кислород. На активные нервные процессы кислорода начинает не хватать, и мы засыпаем. Во сне продукты усталости почти не образуются, так как уставать не от чего; они окисляются, разлагаются и выводятся из организма. Кислород снова поступает к нервным центрам, и мы просыпаемся. К продуктам усталости относили мышечный креатин, так называемые мочевые яды Бушара, но больше всего молочную кислоту, образующуюся в сокращающихся мышцах. Впрыскивание в тело молочной кислоты и ее солей вызывает состояние, похожее на мышечную усталость и клонящее ко сну. Недаром ведь кислое молоко, простокваша и кефир обладают легким снотворным действием. Благодаря молоку вечно сонливы и грудные младенцы. Люди, занятые физическим трудом, спят крепко потому, что в их мышцах вырабатывается много молочной кислоты.
Засорение организма золой или ядами равносильно общему физическому и умственному утомлению, а очищение от них — отдыху. Сон — это очистительный отдых. Но мы ведь часто засыпаем, не будучи утомленными, возражает сторонникам химической теории швейцарский психиатр Эдмунд Клапаред, сильная-то усталость и не дает нам иногда заснуть. Выходит, сон вызывается не одними ядами, и даже большое количество яда не в состоянии усыпить нас. И неужели ежедневное отравление не наносит организму никакого вреда? А куда деваются яды при нашей бессоннице? И наконец, если бы мы действительно засыпали под влиянием яда, достигшего определенной концентрации, то почему мы не просыпаемся через час или через два, когда эта концентрация уменьшается до той степени, какая была у нас, допустим, в начале вечера и еще не клонила в сон?
Ну, насчет усталости, не дающей заснуть, все ясно, отвечает Клапареду И. И. Мечников в «Этюдах оптимизма». Сонного яда при бессоннице выделяется даже больше, чем обычно, но возбуждение, в котором при этом находится нервная система, лишает ее чувствительности ко всякого рода наркотикам. Сонный же яд, судя по его действию, несомненно, из их числа, так что нечего удивляться, если людям излишне возбудимым не спится.
Пока идут эти словопрения, французские физиологи Лежандр и Пьерон начинают свои знаменитые опыты на собаках. Привязанным к стене собакам не дают спать день за днем. На десятый день собаки уже не могут ни открыть глаз, ни пошевельнуть лапой; беспомощно висят они в своих ошейниках, оплетенные поддерживающими их лямками. Тут их умерщвляют и подвергают исследованию их мозг. В мозгу творится нечто немыслимое. «С пирамидными нейронами лобной коры происходят поистине страшные вещи, — повествует очевидец, — они словно только что перенесли нападение врагов. Форма их ядер изменилась до неузнаваемости, мембраны изъедены лейкоцитами». Но если собакам перед умерщвлением дают хоть немного поспать — в клетках никаких изменений! То же наблюдает в своей лаборатории и русский физиолог М. М. Манасеина. Щенки держатся у нее без сна не более пяти суток. У них падает температура, сгущается кровь. В коре головного мозга погибших животных Манасеина обнаруживает жировое перерождение нервных центров. Сосуды окружены густым слоем лейкоцитов и кое-где разорваны, будто их и впрямь пожирал какой-то яд. Лежандр и Пьерон так и назвали его: гипнотоксин, сонный яд.
Но существует ли гипнотоксин в действительности? Лежандр и Пьерон брали у долго не спавших собак кровь, спинномозговую жидкость и экстракт из вещества головного мозга и впрыскивали их бодрствующим собакам. Собаки тотчас обнаруживали все признаки утомления и засыпали беспробудным сном. В их нервных клетках появлялись те же изменения, что и у долго не спавших собак. Ясно, что гипнотоксин существует. Но что он собой представляет, Лежандру и Пьерону выяснить не удалось.
Их опыты были продолжены и доведены до наших дней. У больных патологической сонливостью брали спинномозговую жидкость, вводили ее бодрствующим собакам, и те сразу засыпали. Мозговой экстракт, взятый у находившихся в спячке сусликов, оказался превосходным снотворным для кошек. В 1965 году швейцарский нейрофизиолог Монье создал на собаках модель сиамских близнецов. У двух собак было налажено перекрестное кровообращение: кровь от мозга одной собаки текла к туловищу другой, и наоборот. Когда одной собаке раздражали отдел мозга, ведающий засыпанием, она погружалась в сон. Через несколько минут к ней присоединялась другая собака. Монье объяснял это тем, что вместе с кровью первой собаки ко второй прибывает какое-то вещество, стимулирующее сон. Наконец, в 1974 году Монье объявил, что он нашел это вещество. Это был низкомолекулярный пептид; выделен он был из крови спавших кроликов и бодрствующих кроликов погружал в сон в мгновение ока. Вещество было названо дельта-фактором (смысл этого названия читатель поймет, когда мы познакомимся с дельта-сном). Вскоре аналогичное вещество обнаружил в спинномозговой жидкости коз американский биохимик Паппенхаймер.
Так что же, прав был, выходит, Тарханов, говоривший в своей статье «Сон», что «физиологическое назначение сна заключается в том, чтобы дать различным органам отдых, во время которого они пополнили бы израсходованные запасы и избавились бы от продуктов усталости»? Ни то, ни другое во время бодрствования сделать невозможно, «так как запасы тогда расходуются быстрее, чем разрушаются». Трудно противопоставить что-нибудь этой простой идее. Даже если то, что нашли Монье и Паппенхаймер, и не продукт усталости, химическая теория сна ничуть не теряет от этого. На ее стороне логика всех экспериментов и логика самой жизни. Мы засыпаем, чтобы прочистились топки; пополнились запасы горючего, обновилась смазка на шатунах и шестеренках.
Да, но куда же все-таки деваются яды и шлаки при бессоннице? Не однодневной, а постоянной, скажем, у больных неврозом, которые годами спят по пяти часов в сутки, а то и по четыре, и спят на редкость неглубоким сном. Да что больные! Бывает, и здоровый человек вынужден иногда весьма продолжительное время вставать с петухами и ложиться за полночь. Где его яды и шлаки?
А как объяснить поведение настоящих сиамских близнецов, сросшихся боками? Каждый близнец спал когда ему вздумается. В одной московской клинике жили две пары близнецов, сросшихся грудными клетками и имевших общую систему кровообращения; часто и они спали в разное время — одна голова спала, другая бодрствовала. В другой клинике жили близнецы, сросшиеся головами, они тоже засыпали и просыпались независимо друг от друга. Отчего же гипнотоксин одного не усыплял другого и не побуждал соседний мозг к выработке такого же гипнотоксина? Отчего у них вообще гипнотоксин вырабатывался не одновременно?
Не в том ли секрет, что один близнец хотел спать, а другой не хотел? У них была одна кровеносная система, но не одна жизнь. Их эмоции не совпадали, и это оказывалось сильнее всякой химии. Гипнотоксин может быть одним из механизмов сна, но не единственной его причиной. «Мы засыпаем, — говорил Клапаред, пытаясь примириться с химической теорией, — не оттого, что мы отравлены или устали, а чтобы не отравиться и не устать». Сон — это инстинкт, а инстинктов у нас много, и они не всегда направлены к общей цели. Вот почему мы не спим и нам даже не хочется спать, пока не выполнено веление другого инстинкта, требующего от нас усиленного размышления или энергичных действий.
Хорошо, пусть будет инстинкт. Но тогда все дельта-факторы и гипнотоксины — всего-навсего химические спутники сна или, скорее, химические его регуляторы, а сам сон просто-напросто инстинктивный отдых. Отдых — и все, безо всяких там обязательных прочисток, смазок и заправок. Тарханов говорит нам о физиологическом назначении сна, но, может, у него есть не только физиологическое назначение, а, скажем, психологическое. От чего же мы в таком случае отдыхаем?
По мнению химика Прейера, во время бодрствования во всех клетках тела накапливаются продукты легко окисляющиеся, то есть с жадностью пожирающие кислород. На активные нервные процессы кислорода начинает не хватать, и мы засыпаем. Во сне продукты усталости почти не образуются, так как уставать не от чего; они окисляются, разлагаются и выводятся из организма. Кислород снова поступает к нервным центрам, и мы просыпаемся. К продуктам усталости относили мышечный креатин, так называемые мочевые яды Бушара, но больше всего молочную кислоту, образующуюся в сокращающихся мышцах. Впрыскивание в тело молочной кислоты и ее солей вызывает состояние, похожее на мышечную усталость и клонящее ко сну. Недаром ведь кислое молоко, простокваша и кефир обладают легким снотворным действием. Благодаря молоку вечно сонливы и грудные младенцы. Люди, занятые физическим трудом, спят крепко потому, что в их мышцах вырабатывается много молочной кислоты.
Засорение организма золой или ядами равносильно общему физическому и умственному утомлению, а очищение от них — отдыху. Сон — это очистительный отдых. Но мы ведь часто засыпаем, не будучи утомленными, возражает сторонникам химической теории швейцарский психиатр Эдмунд Клапаред, сильная-то усталость и не дает нам иногда заснуть. Выходит, сон вызывается не одними ядами, и даже большое количество яда не в состоянии усыпить нас. И неужели ежедневное отравление не наносит организму никакого вреда? А куда деваются яды при нашей бессоннице? И наконец, если бы мы действительно засыпали под влиянием яда, достигшего определенной концентрации, то почему мы не просыпаемся через час или через два, когда эта концентрация уменьшается до той степени, какая была у нас, допустим, в начале вечера и еще не клонила в сон?
Ну, насчет усталости, не дающей заснуть, все ясно, отвечает Клапареду И. И. Мечников в «Этюдах оптимизма». Сонного яда при бессоннице выделяется даже больше, чем обычно, но возбуждение, в котором при этом находится нервная система, лишает ее чувствительности ко всякого рода наркотикам. Сонный же яд, судя по его действию, несомненно, из их числа, так что нечего удивляться, если людям излишне возбудимым не спится.
Пока идут эти словопрения, французские физиологи Лежандр и Пьерон начинают свои знаменитые опыты на собаках. Привязанным к стене собакам не дают спать день за днем. На десятый день собаки уже не могут ни открыть глаз, ни пошевельнуть лапой; беспомощно висят они в своих ошейниках, оплетенные поддерживающими их лямками. Тут их умерщвляют и подвергают исследованию их мозг. В мозгу творится нечто немыслимое. «С пирамидными нейронами лобной коры происходят поистине страшные вещи, — повествует очевидец, — они словно только что перенесли нападение врагов. Форма их ядер изменилась до неузнаваемости, мембраны изъедены лейкоцитами». Но если собакам перед умерщвлением дают хоть немного поспать — в клетках никаких изменений! То же наблюдает в своей лаборатории и русский физиолог М. М. Манасеина. Щенки держатся у нее без сна не более пяти суток. У них падает температура, сгущается кровь. В коре головного мозга погибших животных Манасеина обнаруживает жировое перерождение нервных центров. Сосуды окружены густым слоем лейкоцитов и кое-где разорваны, будто их и впрямь пожирал какой-то яд. Лежандр и Пьерон так и назвали его: гипнотоксин, сонный яд.
Но существует ли гипнотоксин в действительности? Лежандр и Пьерон брали у долго не спавших собак кровь, спинномозговую жидкость и экстракт из вещества головного мозга и впрыскивали их бодрствующим собакам. Собаки тотчас обнаруживали все признаки утомления и засыпали беспробудным сном. В их нервных клетках появлялись те же изменения, что и у долго не спавших собак. Ясно, что гипнотоксин существует. Но что он собой представляет, Лежандру и Пьерону выяснить не удалось.
Их опыты были продолжены и доведены до наших дней. У больных патологической сонливостью брали спинномозговую жидкость, вводили ее бодрствующим собакам, и те сразу засыпали. Мозговой экстракт, взятый у находившихся в спячке сусликов, оказался превосходным снотворным для кошек. В 1965 году швейцарский нейрофизиолог Монье создал на собаках модель сиамских близнецов. У двух собак было налажено перекрестное кровообращение: кровь от мозга одной собаки текла к туловищу другой, и наоборот. Когда одной собаке раздражали отдел мозга, ведающий засыпанием, она погружалась в сон. Через несколько минут к ней присоединялась другая собака. Монье объяснял это тем, что вместе с кровью первой собаки ко второй прибывает какое-то вещество, стимулирующее сон. Наконец, в 1974 году Монье объявил, что он нашел это вещество. Это был низкомолекулярный пептид; выделен он был из крови спавших кроликов и бодрствующих кроликов погружал в сон в мгновение ока. Вещество было названо дельта-фактором (смысл этого названия читатель поймет, когда мы познакомимся с дельта-сном). Вскоре аналогичное вещество обнаружил в спинномозговой жидкости коз американский биохимик Паппенхаймер.
Так что же, прав был, выходит, Тарханов, говоривший в своей статье «Сон», что «физиологическое назначение сна заключается в том, чтобы дать различным органам отдых, во время которого они пополнили бы израсходованные запасы и избавились бы от продуктов усталости»? Ни то, ни другое во время бодрствования сделать невозможно, «так как запасы тогда расходуются быстрее, чем разрушаются». Трудно противопоставить что-нибудь этой простой идее. Даже если то, что нашли Монье и Паппенхаймер, и не продукт усталости, химическая теория сна ничуть не теряет от этого. На ее стороне логика всех экспериментов и логика самой жизни. Мы засыпаем, чтобы прочистились топки; пополнились запасы горючего, обновилась смазка на шатунах и шестеренках.
Да, но куда же все-таки деваются яды и шлаки при бессоннице? Не однодневной, а постоянной, скажем, у больных неврозом, которые годами спят по пяти часов в сутки, а то и по четыре, и спят на редкость неглубоким сном. Да что больные! Бывает, и здоровый человек вынужден иногда весьма продолжительное время вставать с петухами и ложиться за полночь. Где его яды и шлаки?
А как объяснить поведение настоящих сиамских близнецов, сросшихся боками? Каждый близнец спал когда ему вздумается. В одной московской клинике жили две пары близнецов, сросшихся грудными клетками и имевших общую систему кровообращения; часто и они спали в разное время — одна голова спала, другая бодрствовала. В другой клинике жили близнецы, сросшиеся головами, они тоже засыпали и просыпались независимо друг от друга. Отчего же гипнотоксин одного не усыплял другого и не побуждал соседний мозг к выработке такого же гипнотоксина? Отчего у них вообще гипнотоксин вырабатывался не одновременно?
Не в том ли секрет, что один близнец хотел спать, а другой не хотел? У них была одна кровеносная система, но не одна жизнь. Их эмоции не совпадали, и это оказывалось сильнее всякой химии. Гипнотоксин может быть одним из механизмов сна, но не единственной его причиной. «Мы засыпаем, — говорил Клапаред, пытаясь примириться с химической теорией, — не оттого, что мы отравлены или устали, а чтобы не отравиться и не устать». Сон — это инстинкт, а инстинктов у нас много, и они не всегда направлены к общей цели. Вот почему мы не спим и нам даже не хочется спать, пока не выполнено веление другого инстинкта, требующего от нас усиленного размышления или энергичных действий.
Хорошо, пусть будет инстинкт. Но тогда все дельта-факторы и гипнотоксины — всего-навсего химические спутники сна или, скорее, химические его регуляторы, а сам сон просто-напросто инстинктивный отдых. Отдых — и все, безо всяких там обязательных прочисток, смазок и заправок. Тарханов говорит нам о физиологическом назначении сна, но, может, у него есть не только физиологическое назначение, а, скажем, психологическое. От чего же мы в таком случае отдыхаем?
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
Да от всего! Если мы чувствуем себя усталыми, физически ли, умственно ли — все равно, мы мечтаем поскорее добраться до постели. Выспавшись, мы ощущаем прилив бодрости, мы полны сил — физических и умственных. Но это не только отдых от работы — это отдых от всяческих забот, которые одолевают человека, отдых и наслаждение. Макбет, зарезав спящего Дункана, «зарезал», как говорил Шекспир, вместе с ним и сон,
Превосходно сказано; но вот новорожденный младенец — откинув голову, приоткрыв рот, смежив в блаженстве веки, дремлет он сутки напролет. От каких терний, от каких злосчастий отдыхает он? Неужели это все молочная кислота? А что заставляет спать целый день дряхлого старца? Почему и мы с вами клюем носом в автобусе, вместо того чтобы наблюдать в окно быстротекущую жизнь, хотя проспали перед тем сном праведника всю ночь, а утром выпили для бодрости две чашки кофе по-турецки? Ни яду днем у нас взяться еще неоткуда, ни усталости? А от каких таких тягот отдыхает целый день наш кот, свернувшийся калачиком в кресле? А суслик, который и вовсе погружается в спячку на девять месяцев, не забывая и в оставшиеся три спать каждую ночь? Может быть, сон не отдохновение от терний и камней бодрствования, а просто другая форма жизни, имеющая на существование те же права, что и бодрствование, или нет, даже больше прав — не равноправная форма, а первичная: может быть, сон — это, так сказать, исходное состояние жизни, а бодрствование — состояние вторичное, вынужденное, а потому и не слишком-то и желанное?
Нечто подобное приходило в голову австрийскому психиатру Зигмунду Фрейду. Сон это такое состояние, в котором я ничего не хочу знать о внешнем мире, пишет он. Я ухожу от этого мира, говоря ему: я хочу спать, оставь меня в покое. Очевидно, психологическая цель сна — отдых, а его психологический признак — потеря интереса к внешнему миру. Мир, в который мы явились так неохотно, продолжает Фрейд, мы не в силах переносить долго, без перерыва, и мы время от времени возвращаемся в состояние, в котором находились до появления на свет. Мы создаем себе условия, сходные с теми, которые были во время нашего пребывания в материнской утробе: тепло, темно и тихо; а некоторые, чтобы заснуть, еще сворачиваются калачиком. Мир словно владеет нами, взрослыми, не вполне, на одну треть мы еще не родились, и всякое пробуждение утром подобно новому рождению. Будто заново родился, говорим мы, хорошенько выспавшись; в этом заключена и верная оценка, и ложная, ибо хотя новорожденный и не утомлен, сомнительно, чтобы он был доволен.
С вариаций на ту же тему начинается и написанное в том же 1909 году, что и статья Тарханова, эссе Томаса Манна «Блаженство сна»: «То, что на смену дню опускается ночь и благо сна простирает каждый вечер свой покров, гася и успокаивая все муки, злосчастья, страдания и тоску, то, что это исцеляющее, дающее забвение питье уготовано для наших запекшихся губ, и что всегда и вновь будто прохладная влага охватывает наше трепещущее после борьбы тело, омывает его от пота, пыли и крови, чтобы оно воспряло сильным, обновленным, помолодевшим, почти вернулось к изначальному своему неведению и простоте, обрело первозданную отвагу и радость бытия, — о друг, я всегда считал это одной из самых волнующих милостей, которые существуют среди великих фактов бытия. Исполненные смутных влечений, переходим мы из беспечальной ночи к дню, и начинаются наши скитания. Солнце опаляет нас, мы ступаем по терниям и острым камням, наши ноги кровоточат и грудь задыхается. Какое отчаяние охватило бы нас, если бы взору открылась лишенная цели, пышущая жаром дорога бедствий во всей своей слепящей беспредельности!». Но, к счастью, наступает ночь-избавительница, к счастью, у каждого дня есть своя цель: «Погруженная в зеленый полумрак роща ожидает нас, там слышится журчание ручья, мягкий мох, словно ограда, коснется наших ног, мирное дуновение будет охлаждать наше чело… с распростертыми, как для объятия, руками, откинув голову, приоткрыв рот, смежив в блаженстве веки, вступаем мы под ее сладостную сень…»
Который тихо сматывает нити
С клубка забот, хоронит с миром дни,
Дает усталым труженикам отдых,
Врачующий бальзам больной души,
Сон, это чудо матери-природы,
Вкуснейшее из блюд в земном пиру[1].
Превосходно сказано; но вот новорожденный младенец — откинув голову, приоткрыв рот, смежив в блаженстве веки, дремлет он сутки напролет. От каких терний, от каких злосчастий отдыхает он? Неужели это все молочная кислота? А что заставляет спать целый день дряхлого старца? Почему и мы с вами клюем носом в автобусе, вместо того чтобы наблюдать в окно быстротекущую жизнь, хотя проспали перед тем сном праведника всю ночь, а утром выпили для бодрости две чашки кофе по-турецки? Ни яду днем у нас взяться еще неоткуда, ни усталости? А от каких таких тягот отдыхает целый день наш кот, свернувшийся калачиком в кресле? А суслик, который и вовсе погружается в спячку на девять месяцев, не забывая и в оставшиеся три спать каждую ночь? Может быть, сон не отдохновение от терний и камней бодрствования, а просто другая форма жизни, имеющая на существование те же права, что и бодрствование, или нет, даже больше прав — не равноправная форма, а первичная: может быть, сон — это, так сказать, исходное состояние жизни, а бодрствование — состояние вторичное, вынужденное, а потому и не слишком-то и желанное?
Нечто подобное приходило в голову австрийскому психиатру Зигмунду Фрейду. Сон это такое состояние, в котором я ничего не хочу знать о внешнем мире, пишет он. Я ухожу от этого мира, говоря ему: я хочу спать, оставь меня в покое. Очевидно, психологическая цель сна — отдых, а его психологический признак — потеря интереса к внешнему миру. Мир, в который мы явились так неохотно, продолжает Фрейд, мы не в силах переносить долго, без перерыва, и мы время от времени возвращаемся в состояние, в котором находились до появления на свет. Мы создаем себе условия, сходные с теми, которые были во время нашего пребывания в материнской утробе: тепло, темно и тихо; а некоторые, чтобы заснуть, еще сворачиваются калачиком. Мир словно владеет нами, взрослыми, не вполне, на одну треть мы еще не родились, и всякое пробуждение утром подобно новому рождению. Будто заново родился, говорим мы, хорошенько выспавшись; в этом заключена и верная оценка, и ложная, ибо хотя новорожденный и не утомлен, сомнительно, чтобы он был доволен.
