Страница:
«К чести своего века, к бессмертной памяти будущих времян, ко украшению столичного града, к утехе и удовольствию своего народа. Баженов».
Проект грандиознейшего здания предусматривал расход пятидесяти миллионов рублей, суммы колоссальной и непосильной во времена царствования величайшей расточительницы Екатерины. Принимая эту смету, императрица преднамеренно ввела в заблуждение верхи общества и доверчивого архитектора. Как только было приступлено к строительству дворца, Екатерина не замедлила посоветоваться с иностранцами, и посыпались в Москву Баженову высочайшие указы, путаные, невразумительные, сбивающие его с пути истинного. Цель была одна: прекратить строительство дворца. Не понимая этого, Баженов надеялся на лучший исход, пытался через фаворита Екатерины графа Завадовского отписаться от бессмысленных указов императрицы. Чувствуя за собой правоту, веря в начатое им дело, Баженов не стеснялся вступать в резкие письменные пререкания с «высочайшими» особами, не боялся вызвать их гнев.
«…прошу о приказании, – (то есть о распорядке работ), – писал он вельможе, графу Завадовскому, – дабы Высочайший Е. и. в. указ был прислан в Экспедицию сколько можно без упущения времени для того, что по получении его я мог основательнее приняться за продолжение успешно начатого дела по Кремлевскому строению. А то я не успел по приезде моем из Петербурга показаться в Экспедиции, как атаковали меня новыми указами, которые тем только и важны, что они высочайшим Е. и. в. титулом изукрашены (а впрочем столько же разумны, как тридцатисаженные бревна). И так я не знаю, за работой ли мне смотреть или устремлять свои мысли на очень мне насланные указы, а оное бесконечное письменное упражнение уносит время, которое годилось бы к строевой работе».
Время уносилось, дело не двигалось, глохло и, наконец, было бесповоротно остановлено. Многолетние работы зодчего Баженова застыли в чертежах и прекрасно выполненной модели. Строительство дворца не состоялось. Труды архитектора были преданы забвению…
И снова Баженов, погруженный в горестные думы, садился за свой рабочий стол и, мысленно обращаясь к тому же графу Завадовскому, а через него и к самой царице, писал:
«…24 лет как я употребляюсь в моем художестве… учился с похвалой и отменными успехами… Во все оное время гоним судьбой, не видел ни одного дня, что был чем-либо порадован. 10 лет в теперешнем чине до 50 человек учил учеников без всякой корысти, из коих много таких, которые изрядными успехами оказались в службе Е. и. в., получали равные со мной чины, а другие и превзошли меня… Никогда бы меня оное не потревожило, если бы все вышеописанное по каким-либо отменным трудам и знаниям превзошли, но все от меня жадностью похищают где бы только могли разными происками увидеть и непозволительным образом на мои выдумки подписывать свои имена, только бы обманывать всех и через то получать титлы.
А более того стеснен дух мой 15000 рублев долгу, имеющемся на мне, которые я нажил не мотовством, ниже другим образом, кроме как усердствованием моим отечеству, набирав беднейших и для их обучения выписывал нужные книги, покупал эстампы, редкие картины, гипсы и все, что касается до художества, в уповании, что начатое великое здание в Кремле будет продолжаться, следовательно и должно быть иметь в прибавок Санкт-Петербургской Академии Художеств оных учеников, кои быв при начале столь славного здания могли и по смерти моей продолжать оное. Но зависть все отняла у меня – как столь важное для отечества нашего здание, так и моих потомков отняла имя и я, лет восемь проработавши, остался (без здоровья с повреждением зрения… И так рассудите, милостивый государь, художнику 25 лет упражнявшемуся с славой и не в одном своем отечестве, потом делавшему здесь с амбицией без всякой корысти. А наипаче оная славная закладка возобновленной древней столицы, коя в конец меня сразила, ибо напоследок заплачен ударом и если б не подкрепила моя неповинность с представлениями моими, то едва ли были бы моей жизни остатки и на поверхности земной…»
Так писал Баженов и чувствовал, что напрасны его слезницы и промемории.
Затея царицы преобразовать и возвеличить Московский Кремль на удивление всему свету не была лишена смысла, но не имела под собой материальной основы. А как хотелось архитектору и его помощникам, и ученикам, поверившим в возможность осуществления грандиозного строительства, совершить его!.. Был пущен слух, что Баженов нарушит, а то и разрушит весь ансамбль древнего Кремля, но зодчий с уважением смотрел на дивные создания древней русской культуры и предостерегал своих товарищей: «Стараться вам всячески надлежит, чтоб новым строением не повреждено было строение старое…»
Все труды и заботы, стремление отдать великому делу – служению родине ум, сердце, знания, покой и здравие, – как заверял он в своей речи при закладке Кремлевского дворца, – все осталось втуне. В одиночестве переживал эту тяжкую невзгоду Баженов. Покой и здравие были нарушены бесцельно и бесповоротно. Ум, сердце и знание были почти без остатка заключены в титанический труд составления проектов и бесчисленных «выдумок».
Иногда в семейном кругу навещал его близкий друг и помощник, человек большого ума и сердца – Федор Каржавин и вносил душевное успокоение, вселял уверенность в силу и разум ущемленного и униженного зодчего.
– Не все потеряно. Василий Иванович, – говорил Каржавин, – проекты, чертежи, модели, хотя в жизнь и не претворенные, будут жить как наглядная материя высокого искусства. И через сотни лет зодчие, ученики учеников ваших и другие отдаленные потомки воззрят, как на великое достижение, на труды ваши и по ним учиться будут, совершенствуя искусство строения зданий. Разве я сожалею, что затратил время на перевод десяти книг Витрувия по зодчеству и на словарь «Архитектурных речений». Пусть не вскоре будет напечатано, но когда-либо увидит свет – пригодится…
Баженов смотрел на друга благодарными глазами и укреплялся в надеждах на лучшее будущее. И Матвей Федорович Казаков, первый его помощник и самый даровитый из всей «Архитектурной команды», был в эти горестные дни его опорой и утешителем. Баженов продолжал заниматься составлением новых проектов. Но это были незначительные проекты загородных усадеб, церквей и частных домов. Главным теперь было преподавание архитектуры способным юношам.
В условиях для поступающих к нему учиться говорилось, что «…бедных и неимущих родителей дети могут приходить к нему обучаться без всякой платы, лишь бы только имели они нужные способности и были бы добронравны и неиспорченного какого-либо поведения». От других учителей, работавших с ним в «Архитектурной команде», он требовал постоянного общения с учениками, чего, разумеется, и сам никогда не избегал. Доказывал при этом, что если учитель сам не работает в классе, то и ученики не видят его действий и приемов, а одни эстампы, гипсы и картины суть «учителя» немы, глядя на оные, ученики станут доходить до искусства лишь ощупью, могут воспринять холодное подражательство и не осилят мастерства художника.
В учении молодых людей зодчеству Баженов в те годы находил себе удовлетворение.
Бывало, идя на занятия с папкой чертежей по улицам Москвы, он вдруг останавливался перед строением, привлекшим его внимание, осматривал его и сам с собою говорил:
– Надобно ребятам показать и втолковать им замысел зодчего, построившего сие здание. Почему оно такое и почему на этом месте и как бы выглядело в другом соседстве…
Иногда по пути на занятия Баженовым овладевала меланхолия. Все казалось погибшим, пропавшим. – «Был талант, вспыхнул и безнадежно, бесследно погас». – В такие минуты, не обращая внимания на прохожих, он шел, в забвении пошатываясь и ничего и никого не видя перед собой, шептал давно продуманные слова о великой и недостигнутой цели:
«Дворец! Милое сердцу создание. Каким бы украшением Москвы, всей России ты был… Вся Европа вздыхала бы от зависти вожделенной. Глядя на модель, иностранцы говаривали, что ты превзошел бы храм Соломона, пропилеи Амазиса, виллу Адриана и форум Траяна… И давно ли я торжественно уверял и обнадеживал москвичей в том, что народы Европы, узрев новый Кремль, изумятся красотой его и величавостью и померкнет в их глазах красота многих других великолепностей! И ничего этого нет. Да стоит ли после такой невзгоды отягощать собою землю?..»
Баженов вытирал холодный, выступивший на лбу пот. Потом, тряхнув головой, смотрел на часы-луковицу и ускоренной походкой шел в школу своих любимцев.
Его встречали шумно, приветливо, радостно.
– Садитесь, друзья мои. Итак, что у нас сегодня, о чем разговор и какие понятия должны отсель мы вынести? Посмотрим на эстампах изображенные образцы и поясним словесно, что означают три ордера – дорический, ионический и коринфский, в древней Греции возникшие из несовершенной египетской архитектуры? Как и почему они стали правилами вполне совершенными и на долгие, вероятно, на вечные времена? И пусть будет вам, друзья мои, ведомо из учения великих мастеров и деятелей искусств о том, что зодчество, подобно точным наукам – физике и математике, имеет также свои правила. Вспомним Виньолу, Витрувия и других, весьма большую пользу принесших этой славной науке и делу…
Здесь у Баженова, в Московской школе архитектуры, Андрей Воронихин жадно впитывал в себя науку о зодчестве. Многое раскрылось перед его пытливым взором из того, что имела в то время Москва. Многое узнал он из книг, овладев латынью; многое услышал незнаемого из уст Баженова. За четыре года учения и пребывания на строительных работах Андрей Воронихин приобрел не только понятие об архитектуре как о науке, но и опыт в составлении планов отдельных частей и целых зданий. В то же время Андрей не оставлял и живописи. В часы, свободные от занятий архитектурой, писал миниатюрные портреты на эмали, делал зарисовки архитектурных пейзажей и в целях заработка выполнял мелкие заказы в Троице-Сергиевой лавре по росписи и реставрации фресковой живописи.
Наступило время самостоятельного учения на примерах новых построек служебных, дворцовых, усадебных и культовых. На недостаток работы в Москве в ту пору жаловаться не приходилось. Баженов, видя радение и способности Воронихина, похвально отзывался о нем и Матвею Казакову говаривал:
– Смотри, Матвей, и после нас с тобой не голое место останется: воронихины на смену идут. Наша обязанность показать им верную дорогу, шире раскрыть им двери в искусство…
В последний год учения у Баженова в тот самый день, когда Василий Иванович водил своих учеников по закоулкам и площадям Москвы, показывая примечательные творения древних зодчих, – подъехал посланец графа Строганова с бумагой на имя Баженова. Зодчий даже не счел нужным ее развернуть и прочесть сразу, сказал нарочному:
– Поезжайте и передайте графу – на письмо буду ответствовать позднее, а сейчас я занят с моими учениками смотрением той архитектуры, что допреж нас Москва украшена. – И, засунув письмо за обшлаг камзола, Баженов повел учеников своих от церкви Успенья на Покровке к дому князя Гагарина на Тверской и к древним дворцам и храмам Кремля.
Под вечер вся «Архитектурная команда» остановилась у знаменитой, особенно любимой Баженовым, Меншиковой башни и полукругом обступила своего учителя.
– Многим из вас, друзья мои, доведется строить в разных городах империи нашей. И если кому колокольни воздвигать будет надобность, поучитесь на этом образце, – говорил Баженов, любовно взирая на построенную в стиле барокко колокольню. – Эта башня – знамение нашего времени! – восторгался Баженов. – В ней положен замысел зодчего Зарудного создать свою, новую манеру – московского барокко, включающую в самое существо барокко европейское. Башня не древняя: построена семь десятков лет назад по желанию государева любимца князя Меншикова. Мы видим чудесное многоярусное создание, легкое, стройное и богатое в своем изысканном убранстве А как изящен и прост в своем решении малый портал при входе, и на какие мощные контрфорсы опирается подножие башни с фасада!. Но мы только мысленно можем представить себе все величие творения, каким оно было до пожара, случившегося в семьсот двадцать третьем году. Башня в том пожаре лишилась одного яруса, на коем возвышался высоченный шпиль в изрядной и правильной пропорции, а на нем медный ангел. В том виде на полторы сажени башня обогнала Ивана Великого и была самой высокой в Москве… И надо вам сказать, друзья мои, – продолжал вдохновенно Баженов, – Зарудный, зодчий петровского времени, был весьма даровит и на выдумки изобретателен. Он прекрасно владел кистью, резцом, это же творение говорит самое за себя и обещает бессмертие создавшему. Многие из вас, молодых зодчих, преуспевают в понимании не только архитектуры, но и ваяния, и живописи, им будет больше удач в архитектуре, нежели тем, кои не сведущи в скульптуре и иных художествах. Вот вам образец – Меншикова башня – сосредоточие тонкого вкуса и понимания всех знатнейших искусств…
Андрей Воронихин бывал и раньше с Баженовым на обходах и осмотрах архитектурных памятников Москвы и каждый раз чутко внимал пояснениям учителя. Нынче же Андрей думал о том, что скоро, и быть может навсегда, придется расстаться с «Архитектурной командой» и ее руководителем. Так думалось не только одному Воронихину. И другие ученики, прошедшие четырехгодичную школу зодчества, с печалью смотрели на знаменитого архитектора, потерявшего здоровье, распродавшего свой дом, имущество и даже чертежи и рисунки, лишь бы не опуститься до окончательного обнищания. И всем казалось, что Василий Иванович приближается к концу своей жизни.
После осмотра Меншиковой башни Баженов сказал, обращаясь к ученикам:
– Помните, друзья мои, для работы над подобными строениями нужны не только ум и талант, но и прилежание души; художество, всякое художество требует, чтобы творцы были люди, вольные в своих упражнениях, не отягощены посторонними заботами, а пуще всего бедностью, этим ужасным бичом, поражающим свободу таланта. Об этом когда-то я писал в своей реляции Екатерине, но к прискорбью бесплодно. Мыслю, что Петр Первый по-иному ценил Зарудного и ему подобных…
От Меншиковой башни медленной усталой походкой возвращался Баженов в сопровождении учеников домой на недавно нанятую квартиру. Вспомнил о письме, полученном от графа Александра Сергеевича Строганова, прибывшего в Петербург после длительного пребывания в Париже. Развернул пакет и немало удивился: граф в вежливых, изысканных словах справлялся о самочувствии и здоровье зодчего и запрашивал о преуспеяниях ученика, Андрея Воронихина, коему предписывалось по окончание курса наук отправиться в столицу в распоряжение графа Строганова. Препятствовать графскому хотению не было, надобности.
Перед Воронихиным раскрываюсь новые, неведомые ему жизненные пути-дороги.
В ДОМЕ СТРОГАНОВЫХ
Проект грандиознейшего здания предусматривал расход пятидесяти миллионов рублей, суммы колоссальной и непосильной во времена царствования величайшей расточительницы Екатерины. Принимая эту смету, императрица преднамеренно ввела в заблуждение верхи общества и доверчивого архитектора. Как только было приступлено к строительству дворца, Екатерина не замедлила посоветоваться с иностранцами, и посыпались в Москву Баженову высочайшие указы, путаные, невразумительные, сбивающие его с пути истинного. Цель была одна: прекратить строительство дворца. Не понимая этого, Баженов надеялся на лучший исход, пытался через фаворита Екатерины графа Завадовского отписаться от бессмысленных указов императрицы. Чувствуя за собой правоту, веря в начатое им дело, Баженов не стеснялся вступать в резкие письменные пререкания с «высочайшими» особами, не боялся вызвать их гнев.
«…прошу о приказании, – (то есть о распорядке работ), – писал он вельможе, графу Завадовскому, – дабы Высочайший Е. и. в. указ был прислан в Экспедицию сколько можно без упущения времени для того, что по получении его я мог основательнее приняться за продолжение успешно начатого дела по Кремлевскому строению. А то я не успел по приезде моем из Петербурга показаться в Экспедиции, как атаковали меня новыми указами, которые тем только и важны, что они высочайшим Е. и. в. титулом изукрашены (а впрочем столько же разумны, как тридцатисаженные бревна). И так я не знаю, за работой ли мне смотреть или устремлять свои мысли на очень мне насланные указы, а оное бесконечное письменное упражнение уносит время, которое годилось бы к строевой работе».
Время уносилось, дело не двигалось, глохло и, наконец, было бесповоротно остановлено. Многолетние работы зодчего Баженова застыли в чертежах и прекрасно выполненной модели. Строительство дворца не состоялось. Труды архитектора были преданы забвению…
И снова Баженов, погруженный в горестные думы, садился за свой рабочий стол и, мысленно обращаясь к тому же графу Завадовскому, а через него и к самой царице, писал:
«…24 лет как я употребляюсь в моем художестве… учился с похвалой и отменными успехами… Во все оное время гоним судьбой, не видел ни одного дня, что был чем-либо порадован. 10 лет в теперешнем чине до 50 человек учил учеников без всякой корысти, из коих много таких, которые изрядными успехами оказались в службе Е. и. в., получали равные со мной чины, а другие и превзошли меня… Никогда бы меня оное не потревожило, если бы все вышеописанное по каким-либо отменным трудам и знаниям превзошли, но все от меня жадностью похищают где бы только могли разными происками увидеть и непозволительным образом на мои выдумки подписывать свои имена, только бы обманывать всех и через то получать титлы.
А более того стеснен дух мой 15000 рублев долгу, имеющемся на мне, которые я нажил не мотовством, ниже другим образом, кроме как усердствованием моим отечеству, набирав беднейших и для их обучения выписывал нужные книги, покупал эстампы, редкие картины, гипсы и все, что касается до художества, в уповании, что начатое великое здание в Кремле будет продолжаться, следовательно и должно быть иметь в прибавок Санкт-Петербургской Академии Художеств оных учеников, кои быв при начале столь славного здания могли и по смерти моей продолжать оное. Но зависть все отняла у меня – как столь важное для отечества нашего здание, так и моих потомков отняла имя и я, лет восемь проработавши, остался (без здоровья с повреждением зрения… И так рассудите, милостивый государь, художнику 25 лет упражнявшемуся с славой и не в одном своем отечестве, потом делавшему здесь с амбицией без всякой корысти. А наипаче оная славная закладка возобновленной древней столицы, коя в конец меня сразила, ибо напоследок заплачен ударом и если б не подкрепила моя неповинность с представлениями моими, то едва ли были бы моей жизни остатки и на поверхности земной…»
Так писал Баженов и чувствовал, что напрасны его слезницы и промемории.
Затея царицы преобразовать и возвеличить Московский Кремль на удивление всему свету не была лишена смысла, но не имела под собой материальной основы. А как хотелось архитектору и его помощникам, и ученикам, поверившим в возможность осуществления грандиозного строительства, совершить его!.. Был пущен слух, что Баженов нарушит, а то и разрушит весь ансамбль древнего Кремля, но зодчий с уважением смотрел на дивные создания древней русской культуры и предостерегал своих товарищей: «Стараться вам всячески надлежит, чтоб новым строением не повреждено было строение старое…»
Все труды и заботы, стремление отдать великому делу – служению родине ум, сердце, знания, покой и здравие, – как заверял он в своей речи при закладке Кремлевского дворца, – все осталось втуне. В одиночестве переживал эту тяжкую невзгоду Баженов. Покой и здравие были нарушены бесцельно и бесповоротно. Ум, сердце и знание были почти без остатка заключены в титанический труд составления проектов и бесчисленных «выдумок».
Иногда в семейном кругу навещал его близкий друг и помощник, человек большого ума и сердца – Федор Каржавин и вносил душевное успокоение, вселял уверенность в силу и разум ущемленного и униженного зодчего.
– Не все потеряно. Василий Иванович, – говорил Каржавин, – проекты, чертежи, модели, хотя в жизнь и не претворенные, будут жить как наглядная материя высокого искусства. И через сотни лет зодчие, ученики учеников ваших и другие отдаленные потомки воззрят, как на великое достижение, на труды ваши и по ним учиться будут, совершенствуя искусство строения зданий. Разве я сожалею, что затратил время на перевод десяти книг Витрувия по зодчеству и на словарь «Архитектурных речений». Пусть не вскоре будет напечатано, но когда-либо увидит свет – пригодится…
Баженов смотрел на друга благодарными глазами и укреплялся в надеждах на лучшее будущее. И Матвей Федорович Казаков, первый его помощник и самый даровитый из всей «Архитектурной команды», был в эти горестные дни его опорой и утешителем. Баженов продолжал заниматься составлением новых проектов. Но это были незначительные проекты загородных усадеб, церквей и частных домов. Главным теперь было преподавание архитектуры способным юношам.
В условиях для поступающих к нему учиться говорилось, что «…бедных и неимущих родителей дети могут приходить к нему обучаться без всякой платы, лишь бы только имели они нужные способности и были бы добронравны и неиспорченного какого-либо поведения». От других учителей, работавших с ним в «Архитектурной команде», он требовал постоянного общения с учениками, чего, разумеется, и сам никогда не избегал. Доказывал при этом, что если учитель сам не работает в классе, то и ученики не видят его действий и приемов, а одни эстампы, гипсы и картины суть «учителя» немы, глядя на оные, ученики станут доходить до искусства лишь ощупью, могут воспринять холодное подражательство и не осилят мастерства художника.
В учении молодых людей зодчеству Баженов в те годы находил себе удовлетворение.
Бывало, идя на занятия с папкой чертежей по улицам Москвы, он вдруг останавливался перед строением, привлекшим его внимание, осматривал его и сам с собою говорил:
– Надобно ребятам показать и втолковать им замысел зодчего, построившего сие здание. Почему оно такое и почему на этом месте и как бы выглядело в другом соседстве…
Иногда по пути на занятия Баженовым овладевала меланхолия. Все казалось погибшим, пропавшим. – «Был талант, вспыхнул и безнадежно, бесследно погас». – В такие минуты, не обращая внимания на прохожих, он шел, в забвении пошатываясь и ничего и никого не видя перед собой, шептал давно продуманные слова о великой и недостигнутой цели:
«Дворец! Милое сердцу создание. Каким бы украшением Москвы, всей России ты был… Вся Европа вздыхала бы от зависти вожделенной. Глядя на модель, иностранцы говаривали, что ты превзошел бы храм Соломона, пропилеи Амазиса, виллу Адриана и форум Траяна… И давно ли я торжественно уверял и обнадеживал москвичей в том, что народы Европы, узрев новый Кремль, изумятся красотой его и величавостью и померкнет в их глазах красота многих других великолепностей! И ничего этого нет. Да стоит ли после такой невзгоды отягощать собою землю?..»
Баженов вытирал холодный, выступивший на лбу пот. Потом, тряхнув головой, смотрел на часы-луковицу и ускоренной походкой шел в школу своих любимцев.
Его встречали шумно, приветливо, радостно.
– Садитесь, друзья мои. Итак, что у нас сегодня, о чем разговор и какие понятия должны отсель мы вынести? Посмотрим на эстампах изображенные образцы и поясним словесно, что означают три ордера – дорический, ионический и коринфский, в древней Греции возникшие из несовершенной египетской архитектуры? Как и почему они стали правилами вполне совершенными и на долгие, вероятно, на вечные времена? И пусть будет вам, друзья мои, ведомо из учения великих мастеров и деятелей искусств о том, что зодчество, подобно точным наукам – физике и математике, имеет также свои правила. Вспомним Виньолу, Витрувия и других, весьма большую пользу принесших этой славной науке и делу…
Здесь у Баженова, в Московской школе архитектуры, Андрей Воронихин жадно впитывал в себя науку о зодчестве. Многое раскрылось перед его пытливым взором из того, что имела в то время Москва. Многое узнал он из книг, овладев латынью; многое услышал незнаемого из уст Баженова. За четыре года учения и пребывания на строительных работах Андрей Воронихин приобрел не только понятие об архитектуре как о науке, но и опыт в составлении планов отдельных частей и целых зданий. В то же время Андрей не оставлял и живописи. В часы, свободные от занятий архитектурой, писал миниатюрные портреты на эмали, делал зарисовки архитектурных пейзажей и в целях заработка выполнял мелкие заказы в Троице-Сергиевой лавре по росписи и реставрации фресковой живописи.
Наступило время самостоятельного учения на примерах новых построек служебных, дворцовых, усадебных и культовых. На недостаток работы в Москве в ту пору жаловаться не приходилось. Баженов, видя радение и способности Воронихина, похвально отзывался о нем и Матвею Казакову говаривал:
– Смотри, Матвей, и после нас с тобой не голое место останется: воронихины на смену идут. Наша обязанность показать им верную дорогу, шире раскрыть им двери в искусство…
В последний год учения у Баженова в тот самый день, когда Василий Иванович водил своих учеников по закоулкам и площадям Москвы, показывая примечательные творения древних зодчих, – подъехал посланец графа Строганова с бумагой на имя Баженова. Зодчий даже не счел нужным ее развернуть и прочесть сразу, сказал нарочному:
– Поезжайте и передайте графу – на письмо буду ответствовать позднее, а сейчас я занят с моими учениками смотрением той архитектуры, что допреж нас Москва украшена. – И, засунув письмо за обшлаг камзола, Баженов повел учеников своих от церкви Успенья на Покровке к дому князя Гагарина на Тверской и к древним дворцам и храмам Кремля.
Под вечер вся «Архитектурная команда» остановилась у знаменитой, особенно любимой Баженовым, Меншиковой башни и полукругом обступила своего учителя.
– Многим из вас, друзья мои, доведется строить в разных городах империи нашей. И если кому колокольни воздвигать будет надобность, поучитесь на этом образце, – говорил Баженов, любовно взирая на построенную в стиле барокко колокольню. – Эта башня – знамение нашего времени! – восторгался Баженов. – В ней положен замысел зодчего Зарудного создать свою, новую манеру – московского барокко, включающую в самое существо барокко европейское. Башня не древняя: построена семь десятков лет назад по желанию государева любимца князя Меншикова. Мы видим чудесное многоярусное создание, легкое, стройное и богатое в своем изысканном убранстве А как изящен и прост в своем решении малый портал при входе, и на какие мощные контрфорсы опирается подножие башни с фасада!. Но мы только мысленно можем представить себе все величие творения, каким оно было до пожара, случившегося в семьсот двадцать третьем году. Башня в том пожаре лишилась одного яруса, на коем возвышался высоченный шпиль в изрядной и правильной пропорции, а на нем медный ангел. В том виде на полторы сажени башня обогнала Ивана Великого и была самой высокой в Москве… И надо вам сказать, друзья мои, – продолжал вдохновенно Баженов, – Зарудный, зодчий петровского времени, был весьма даровит и на выдумки изобретателен. Он прекрасно владел кистью, резцом, это же творение говорит самое за себя и обещает бессмертие создавшему. Многие из вас, молодых зодчих, преуспевают в понимании не только архитектуры, но и ваяния, и живописи, им будет больше удач в архитектуре, нежели тем, кои не сведущи в скульптуре и иных художествах. Вот вам образец – Меншикова башня – сосредоточие тонкого вкуса и понимания всех знатнейших искусств…
Андрей Воронихин бывал и раньше с Баженовым на обходах и осмотрах архитектурных памятников Москвы и каждый раз чутко внимал пояснениям учителя. Нынче же Андрей думал о том, что скоро, и быть может навсегда, придется расстаться с «Архитектурной командой» и ее руководителем. Так думалось не только одному Воронихину. И другие ученики, прошедшие четырехгодичную школу зодчества, с печалью смотрели на знаменитого архитектора, потерявшего здоровье, распродавшего свой дом, имущество и даже чертежи и рисунки, лишь бы не опуститься до окончательного обнищания. И всем казалось, что Василий Иванович приближается к концу своей жизни.
После осмотра Меншиковой башни Баженов сказал, обращаясь к ученикам:
– Помните, друзья мои, для работы над подобными строениями нужны не только ум и талант, но и прилежание души; художество, всякое художество требует, чтобы творцы были люди, вольные в своих упражнениях, не отягощены посторонними заботами, а пуще всего бедностью, этим ужасным бичом, поражающим свободу таланта. Об этом когда-то я писал в своей реляции Екатерине, но к прискорбью бесплодно. Мыслю, что Петр Первый по-иному ценил Зарудного и ему подобных…
От Меншиковой башни медленной усталой походкой возвращался Баженов в сопровождении учеников домой на недавно нанятую квартиру. Вспомнил о письме, полученном от графа Александра Сергеевича Строганова, прибывшего в Петербург после длительного пребывания в Париже. Развернул пакет и немало удивился: граф в вежливых, изысканных словах справлялся о самочувствии и здоровье зодчего и запрашивал о преуспеяниях ученика, Андрея Воронихина, коему предписывалось по окончание курса наук отправиться в столицу в распоряжение графа Строганова. Препятствовать графскому хотению не было, надобности.
Перед Воронихиным раскрываюсь новые, неведомые ему жизненные пути-дороги.
В ДОМЕ СТРОГАНОВЫХ
Из Москвы на попутных подводах две недели пробирался Андрей Воронихин в Петербург. К этому времени он закончил учение в «Архитектурной команде» у зодчего Баженова. По науке Андрей знал, что подобает знать молодому строителю, работающему под наблюдением, опытного архитектора, однако на самостоятельном подряде еще не был испытан, и потому он не очень уверенно смотрел в свое будущее. В пути он с волнением думал о том, куда будет определен в Петербурге, к какому делу пристроен. И как было не задуматься ему, двадцатилетнему, подготовленному для вступления в жизнь? Но жизнь и впредь не представлялась вольной, ожидалась зависимость от властного петербургского барина. И какие тягости ни ожидали его, оставалось только мириться и идти по вызову графа навстречу неопределившейся, неразгаданной судьбе.
После длительного пребывания в Москве Петербург Воронихину не показался городом диковинным, он увидел его таким, каким знал по многим рассказам и описаниям.
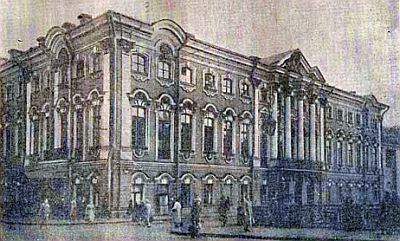 Бывший Строгановский дворец (Ленинград. Невский проспект).
Бывший Строгановский дворец (Ленинград. Невский проспект).
Граф Александр Сергеевич Строганов жил тогда в роскошном, богато обставленном дворце на углу Мойки и Невского проспекта. Он еще тогда был не так стар, полон сил, облечен доверием императрицы и вниманием высшего петербургского света. Граф принял Андрея любезно, расспросил, чему он обучился в Москве, посмотрел чертежи и рисунки, остался весьма ими доволен. При этом Александр Сергеевич как бы мимоходом сообщил Андрею, что барон Александр Николаевич (Андрей должен был догадаться, что речь идет об отце) находится в управлении приуральскими вотчинами и что сам он, граф Александр Сергеевич, как лицо главенствующее, собирается в скором времени тоже поехать в Соликамск на открытие присутственных мест.
– Что до вас, Андре, – так назвал граф Воронихина, – то вы будете жить при нашем доме и на первых порах заниматься с моим сыном Попо, – так называл он Павла, родившегося в Париже. – Будете обучать его рисованию, а главное – русскому языку. Ибо ни Попо, ни его гувернер Жильбер Ромм не понимают по-русски. Полагаю, что и вам занятия эти будут полезны: обучая языку русскому, вы совершеннее постигнете французский. Не возбраняются вам и работы по ремонту зданий, если в том окажется надобность. Кров и пища для вас и месье Жильбера будут в достатке, обид претерпевать не от кого. А мой шалун весь в распоряжении гувернера. Он ему и учитель и рассудитель. Живите, Андре, привыкайте. И скажите мне, что желали бы вы от нас для совершенствования вашего и для пользы дела? – спросил граф.
– Благодарю, ваше сиятельство, за доброту вашу. Прошу предоставить мне право пользоваться библиотекой.
– Что вас интересует?
– Искусство всех видов, описание чужеземных стран, предпочтение – книгам, к архитектуре относящимся.
– Я вам это дозволю. Еще что?
Даже какой-нибудь час назад Воронихин не думал, что осмелится при первом знакомстве, при первой встрече с графом высказать желание и просьбу. Но раз такой удобный случай представился, он решился сказать:
– Будете, ваше сиятельство, в наших Соликамских краях, ваших вотчинах, поклон мой передайте и спасибо сердечное за попечительство барону Александру Николаевичу, да покорнейше прошу, ваше сиятельство, отпустить на волю мою матушку, Чероеву Марфу… – Сказав это, Воронихин покраснел и, опустив глаза, стал разглядывать паркетный пол, составленный ромбовидными фигурами из разноцветных пород дерева.
Граф улыбнулся, помолчал, поглядел на Андрея.
– Что же, естественна и похвальна ваша просьба. Скажу об этом барону и сам препятствовать не стану. Пусть матушка ваша будет на свободе, а если пожелает, может и в Петербург на иждивение приехать.
– Покорнейше благодарю, ваше сиятельство.
– А теперь, Андре, я познакомлю вас с сыном моим Павлом и его гувернером. Желаю, чтобы вы трое составили честную и тесную компанию…
Граф повел за собой Воронихина через большой кабинет, потом через «минеральную» комнату, заставленную образцами горных пород, и по длинным светлым залам картинной галереи. Граф шел медленно, останавливался против некоторых картин и, показывая их Воронихину, пояснял:
– В моей галерее, Андре, и ты, пристрастный к живописи, найдешь немало для себя поучительного. Здесь, как видишь, полотна крупнейших мастеров кисти; подобных вещей в Москве ты видеть не мог. Ван-Дейк, Рубенс, Карл Лотт… А это вот большая картина – «Аллегория искусств» художника Строцци.
Они прошли через столовую в коридор, свернули еще в какой-то зал отдыха и через анфилады малых комнат с лепными фигурами над дверями вышли в комнаты, обращенные окнами на Мойку.
– Где вы? – громко выкрикнул граф и трижды похлопал ладонями. – Попо! Ау!..
Из комнаты, расположенной между библиотекой и лабораторией, выбежал Павел – сын графа. Юноша был красив лицом, белокурый, со светящимися веселыми глазами, строен и роста немалого для своего юного возраста.
– Папа, мы здесь, занимаемся. Мсье Ромм заставляет меня пересказывать сказки Мармонтеля. Это интересней жизнеописаний Плутарха…
Следом за Павлом скрипучей неловкой походкой вышел из комнаты Жильбер Ромм. При виде его Воронихин, содрогнувшись, подумал: «Да может ли статься, чтобы такое чудище было гувернером в доме графа? Быть может, это шут какой?..»
– Попо и вы, Жильбер, будьте друзьями этому молодому человеку. Имя его Андре. Он разбирается в архитектуре, искусен в живописи. Знание языка русского привилось ему с младенческих дней. Общение ваше с Андре, дружба с ним принесут всем вам взаимную пользу.
Павел задорно и браво, с оттенком высокомерия взглянул на Воронихина. Ромм всей своей сутуловатой, нескладной до уродливости фигурой подался вперед и первый протянул руку Воронихину.
– Будем друзьями, – сказал он.
Те же слова покорно повторил Павел.
Граф Александр Сергеевич, меценат и деятель, долгое время был президентом Академии художеств, собирателем богатейшей коллекции живописи, страстным любителем искусств. Среди екатерининских вельмож он был одним из самых выдающихся и наиболее общительных. Несметные богатства позволили графу не только жить расточительно, на широкую ногу, – в этом себе он не отказывал, – но и приумножать эти богатства в своих необъятных вотчинах на северо-востоке. Граф хотел, чтобы и сын его, Павел, не был бездельником. Требовательный к себе, Александр Сергеевич был требователен до суровости и к своему любимцу Попо. Из Франции он привез Жильбера Ромма. – человека с отталкивающей на первый взгляд внешностью, но с широкой доброй душой и блестящими познаниями во многих областях науки. В договоре, заключенном между русским вельможей графом Строгоновым и бедным, но умным и ученым французом, говорилось, что воспитание Павла будет вестись по строго продуманному плану, дабы дать молодому графу разностороннее образование, воспитать в нем характер человека, стремящегося к высокой деятельности, закалить его в длительных поездках по России и Европе. За это положено было Жильберу Ромму жалование – сотня луидоров в год, одежда и питание, проезд и жилье за счет графа. Этими условиями предусматривалось пробыть гувернеру в обществе своего воспитанника десять лет, пока не станет Павел вполне совершеннолетним.
 Жильбер Ромм – друг и учитель А. Н. Воронихина (С миниатюры князя П. П. Голицына в Марьине).
Жильбер Ромм – друг и учитель А. Н. Воронихина (С миниатюры князя П. П. Голицына в Марьине).
Уезжая по делам из Петербурга, граф с полной уверенностью оставлял своего Попо на попечении Жильбера Ромма и достойного доверия скромного и благовоспитанного Андрея Воронихина. Не прошло и полугода с той поры, как Андрей поселился в доме Строганова, он достаточно свыкся с Павлом и стал любимцем Ромма; он овладел французским языком не хуже, нежели Павел и Жильбер овладели русским. Неожиданно для самого себя стал Андре своим человеком, быть может гласно и непризнанным родственником, но не чужим в доме графа. Ему отвели комнату для жилья и комнату для работы над чертежами и рисунками. Во время занятий его охотно посещал наследник графа, и с восхищением следил за ним ученый гувернер. Воронихин вскоре был допущен к графской галерее, к библиотеке и кабинету минералогии. Он приглашался даже на балы и званые обеды, которые устраивались в залах Строгановского дворца. Случалось ему бывать и на сборищах любителей искусств и литературы, нередко происходивших по желанию Александра Сергеевича. Обычно на такие собрания Воронихин приходил с Павлом и Роммом. Садились они поодаль от знаменитостей и учтиво слушали умные речи Гаврилы Романовича Державина, веселые басни Ивана Крылова, музыку Бортнянского и споры Федота Шубина с Гордеевым…
Каждый день, прожитый в доме графа Строганова, приносил Воронихину что-то новое, неизведанное, но ничему не привык удивляться Андрей. Не удивлялся он и тому, что супруга графа Александра Сергеевича, урожденная княжна Трубецкая, вступила в греховную связь с фаворитом Екатерины Второй Корсаковым. Граф тяжело переживал измену супруги; недовольна была и Екатерина выходкой Корсакова. Императрица распорядилась высечь розгами влюбленную пару, а Строганов отправил супругу с глаз долой да от стыда подальше – в подмосковное имение. Там и прожила свой долгий век графиня, окруженная поклонниками.
Граф оставался безнадежным холостяком, увлеченный делами и любованием домашней картинной галереей, где находились полотна пятидесяти пяти французских, фламандских и итальянских мастеров и редчайшие коллекции эстампов, моделей и монет.
Младший Строганов был моложе Воронихина на десять лет; уроки гувернера он воспринимал отнюдь не с таким рвением, как это старательно делал любознательный, ненасытный в знаниях Андрей. Втроем изучали они русские исторические древности, жизнеописания великих людей – Сократа, Александра Македонского, Юлия Цезаря и многих других. Жизнь великих людей далекого прошлого увлекала Павла и Воронихина.
Воспитатель Павла Строганова в петербургском свете был хорошо известен. Жильбер Ромм неизменно встречался с французскими знаменитостями, проживающими в России, бывал в гостях у посла Сегюра, присутствовал на заседаниях Академии наук и своими суждениями приводил в восторг графа Кирилла Разумовского, особенно увлекавшегося минералогией. Находили в лице Жильбера Ромма приятного собеседника и такие светила ученого мира, как Эйлер и Паллас и знаменитый скульптор Фальконе. Не раз Жильбер Ромм встречался с самой Екатериной. Однажды он подарил ей собственного изделия изящный письменный прибор с изображенной на крышке чернильницы вселенной с планетами, с часами, показывающими месяцы, дни, часы и минуты… Не ведала Екатерина, кем станет Жильбер Ромм лет через десять. Да и как было знать, что рукою строгановского гувернера будет подписан смертный приговор Людовику XVI. Подарок этого невзрачного скуластого человечка с головою, наполненной энциклопедическими знаниями и зарядом революционных идей, был впоследствии исключен из коллекции дворцовых безделушек и ценных редкостей, в гневе с хрустом и звоном был растоптан ногой самой государыни, пришедшей в неистовство при известиях о казни короля в мятежной Франции. Но это случилось спустя годы, и речь об этом будет поздней… А тем временем строгановский гувернер аккуратно и добросовестно, в нарочито спартанских условиях воспитывал Попо и просвещал Андре.
После длительного пребывания в Москве Петербург Воронихину не показался городом диковинным, он увидел его таким, каким знал по многим рассказам и описаниям.
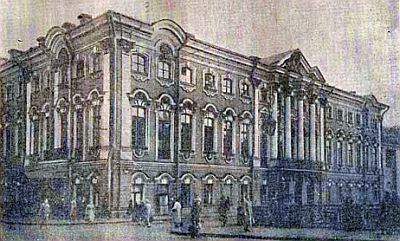
Граф Александр Сергеевич Строганов жил тогда в роскошном, богато обставленном дворце на углу Мойки и Невского проспекта. Он еще тогда был не так стар, полон сил, облечен доверием императрицы и вниманием высшего петербургского света. Граф принял Андрея любезно, расспросил, чему он обучился в Москве, посмотрел чертежи и рисунки, остался весьма ими доволен. При этом Александр Сергеевич как бы мимоходом сообщил Андрею, что барон Александр Николаевич (Андрей должен был догадаться, что речь идет об отце) находится в управлении приуральскими вотчинами и что сам он, граф Александр Сергеевич, как лицо главенствующее, собирается в скором времени тоже поехать в Соликамск на открытие присутственных мест.
– Что до вас, Андре, – так назвал граф Воронихина, – то вы будете жить при нашем доме и на первых порах заниматься с моим сыном Попо, – так называл он Павла, родившегося в Париже. – Будете обучать его рисованию, а главное – русскому языку. Ибо ни Попо, ни его гувернер Жильбер Ромм не понимают по-русски. Полагаю, что и вам занятия эти будут полезны: обучая языку русскому, вы совершеннее постигнете французский. Не возбраняются вам и работы по ремонту зданий, если в том окажется надобность. Кров и пища для вас и месье Жильбера будут в достатке, обид претерпевать не от кого. А мой шалун весь в распоряжении гувернера. Он ему и учитель и рассудитель. Живите, Андре, привыкайте. И скажите мне, что желали бы вы от нас для совершенствования вашего и для пользы дела? – спросил граф.
– Благодарю, ваше сиятельство, за доброту вашу. Прошу предоставить мне право пользоваться библиотекой.
– Что вас интересует?
– Искусство всех видов, описание чужеземных стран, предпочтение – книгам, к архитектуре относящимся.
– Я вам это дозволю. Еще что?
Даже какой-нибудь час назад Воронихин не думал, что осмелится при первом знакомстве, при первой встрече с графом высказать желание и просьбу. Но раз такой удобный случай представился, он решился сказать:
– Будете, ваше сиятельство, в наших Соликамских краях, ваших вотчинах, поклон мой передайте и спасибо сердечное за попечительство барону Александру Николаевичу, да покорнейше прошу, ваше сиятельство, отпустить на волю мою матушку, Чероеву Марфу… – Сказав это, Воронихин покраснел и, опустив глаза, стал разглядывать паркетный пол, составленный ромбовидными фигурами из разноцветных пород дерева.
Граф улыбнулся, помолчал, поглядел на Андрея.
– Что же, естественна и похвальна ваша просьба. Скажу об этом барону и сам препятствовать не стану. Пусть матушка ваша будет на свободе, а если пожелает, может и в Петербург на иждивение приехать.
– Покорнейше благодарю, ваше сиятельство.
– А теперь, Андре, я познакомлю вас с сыном моим Павлом и его гувернером. Желаю, чтобы вы трое составили честную и тесную компанию…
Граф повел за собой Воронихина через большой кабинет, потом через «минеральную» комнату, заставленную образцами горных пород, и по длинным светлым залам картинной галереи. Граф шел медленно, останавливался против некоторых картин и, показывая их Воронихину, пояснял:
– В моей галерее, Андре, и ты, пристрастный к живописи, найдешь немало для себя поучительного. Здесь, как видишь, полотна крупнейших мастеров кисти; подобных вещей в Москве ты видеть не мог. Ван-Дейк, Рубенс, Карл Лотт… А это вот большая картина – «Аллегория искусств» художника Строцци.
Они прошли через столовую в коридор, свернули еще в какой-то зал отдыха и через анфилады малых комнат с лепными фигурами над дверями вышли в комнаты, обращенные окнами на Мойку.
– Где вы? – громко выкрикнул граф и трижды похлопал ладонями. – Попо! Ау!..
Из комнаты, расположенной между библиотекой и лабораторией, выбежал Павел – сын графа. Юноша был красив лицом, белокурый, со светящимися веселыми глазами, строен и роста немалого для своего юного возраста.
– Папа, мы здесь, занимаемся. Мсье Ромм заставляет меня пересказывать сказки Мармонтеля. Это интересней жизнеописаний Плутарха…
Следом за Павлом скрипучей неловкой походкой вышел из комнаты Жильбер Ромм. При виде его Воронихин, содрогнувшись, подумал: «Да может ли статься, чтобы такое чудище было гувернером в доме графа? Быть может, это шут какой?..»
– Попо и вы, Жильбер, будьте друзьями этому молодому человеку. Имя его Андре. Он разбирается в архитектуре, искусен в живописи. Знание языка русского привилось ему с младенческих дней. Общение ваше с Андре, дружба с ним принесут всем вам взаимную пользу.
Павел задорно и браво, с оттенком высокомерия взглянул на Воронихина. Ромм всей своей сутуловатой, нескладной до уродливости фигурой подался вперед и первый протянул руку Воронихину.
– Будем друзьями, – сказал он.
Те же слова покорно повторил Павел.
Граф Александр Сергеевич, меценат и деятель, долгое время был президентом Академии художеств, собирателем богатейшей коллекции живописи, страстным любителем искусств. Среди екатерининских вельмож он был одним из самых выдающихся и наиболее общительных. Несметные богатства позволили графу не только жить расточительно, на широкую ногу, – в этом себе он не отказывал, – но и приумножать эти богатства в своих необъятных вотчинах на северо-востоке. Граф хотел, чтобы и сын его, Павел, не был бездельником. Требовательный к себе, Александр Сергеевич был требователен до суровости и к своему любимцу Попо. Из Франции он привез Жильбера Ромма. – человека с отталкивающей на первый взгляд внешностью, но с широкой доброй душой и блестящими познаниями во многих областях науки. В договоре, заключенном между русским вельможей графом Строгоновым и бедным, но умным и ученым французом, говорилось, что воспитание Павла будет вестись по строго продуманному плану, дабы дать молодому графу разностороннее образование, воспитать в нем характер человека, стремящегося к высокой деятельности, закалить его в длительных поездках по России и Европе. За это положено было Жильберу Ромму жалование – сотня луидоров в год, одежда и питание, проезд и жилье за счет графа. Этими условиями предусматривалось пробыть гувернеру в обществе своего воспитанника десять лет, пока не станет Павел вполне совершеннолетним.

Уезжая по делам из Петербурга, граф с полной уверенностью оставлял своего Попо на попечении Жильбера Ромма и достойного доверия скромного и благовоспитанного Андрея Воронихина. Не прошло и полугода с той поры, как Андрей поселился в доме Строганова, он достаточно свыкся с Павлом и стал любимцем Ромма; он овладел французским языком не хуже, нежели Павел и Жильбер овладели русским. Неожиданно для самого себя стал Андре своим человеком, быть может гласно и непризнанным родственником, но не чужим в доме графа. Ему отвели комнату для жилья и комнату для работы над чертежами и рисунками. Во время занятий его охотно посещал наследник графа, и с восхищением следил за ним ученый гувернер. Воронихин вскоре был допущен к графской галерее, к библиотеке и кабинету минералогии. Он приглашался даже на балы и званые обеды, которые устраивались в залах Строгановского дворца. Случалось ему бывать и на сборищах любителей искусств и литературы, нередко происходивших по желанию Александра Сергеевича. Обычно на такие собрания Воронихин приходил с Павлом и Роммом. Садились они поодаль от знаменитостей и учтиво слушали умные речи Гаврилы Романовича Державина, веселые басни Ивана Крылова, музыку Бортнянского и споры Федота Шубина с Гордеевым…
Каждый день, прожитый в доме графа Строганова, приносил Воронихину что-то новое, неизведанное, но ничему не привык удивляться Андрей. Не удивлялся он и тому, что супруга графа Александра Сергеевича, урожденная княжна Трубецкая, вступила в греховную связь с фаворитом Екатерины Второй Корсаковым. Граф тяжело переживал измену супруги; недовольна была и Екатерина выходкой Корсакова. Императрица распорядилась высечь розгами влюбленную пару, а Строганов отправил супругу с глаз долой да от стыда подальше – в подмосковное имение. Там и прожила свой долгий век графиня, окруженная поклонниками.
Граф оставался безнадежным холостяком, увлеченный делами и любованием домашней картинной галереей, где находились полотна пятидесяти пяти французских, фламандских и итальянских мастеров и редчайшие коллекции эстампов, моделей и монет.
Младший Строганов был моложе Воронихина на десять лет; уроки гувернера он воспринимал отнюдь не с таким рвением, как это старательно делал любознательный, ненасытный в знаниях Андрей. Втроем изучали они русские исторические древности, жизнеописания великих людей – Сократа, Александра Македонского, Юлия Цезаря и многих других. Жизнь великих людей далекого прошлого увлекала Павла и Воронихина.
Воспитатель Павла Строганова в петербургском свете был хорошо известен. Жильбер Ромм неизменно встречался с французскими знаменитостями, проживающими в России, бывал в гостях у посла Сегюра, присутствовал на заседаниях Академии наук и своими суждениями приводил в восторг графа Кирилла Разумовского, особенно увлекавшегося минералогией. Находили в лице Жильбера Ромма приятного собеседника и такие светила ученого мира, как Эйлер и Паллас и знаменитый скульптор Фальконе. Не раз Жильбер Ромм встречался с самой Екатериной. Однажды он подарил ей собственного изделия изящный письменный прибор с изображенной на крышке чернильницы вселенной с планетами, с часами, показывающими месяцы, дни, часы и минуты… Не ведала Екатерина, кем станет Жильбер Ромм лет через десять. Да и как было знать, что рукою строгановского гувернера будет подписан смертный приговор Людовику XVI. Подарок этого невзрачного скуластого человечка с головою, наполненной энциклопедическими знаниями и зарядом революционных идей, был впоследствии исключен из коллекции дворцовых безделушек и ценных редкостей, в гневе с хрустом и звоном был растоптан ногой самой государыни, пришедшей в неистовство при известиях о казни короля в мятежной Франции. Но это случилось спустя годы, и речь об этом будет поздней… А тем временем строгановский гувернер аккуратно и добросовестно, в нарочито спартанских условиях воспитывал Попо и просвещал Андре.
