В обеденный перерыв Миядзаки направился к дому директора, вслед за ним потянулись и его одноклассники. И что вы думаете?! Он едва не ввалился в комнату прямо в ботинках! «Обувь надо снимать!» – объяснили ему. Вконец смущенный, Миядзаки снял ботинки и извинился: «Прошу прощения!» А ребята наперебой принялись учить его японским обычаям: «Когда входишь в дом, где живут, надо снимать обувь, а вот в класс или библиотеку можно входить в ботинках» или «Во дворе храма Кухомбуцу можно не снимать, а вот внутри храма – обязательно».
А вообще детям было интересно сравнивать обычаи, которым следовали в Японии и за границей. Всюду они разные.
На следующий день Миядзаки принес в школу большую книжку на английском языке. На переменке его окружили и стали разглядывать картинки. Все были просто поражены, так как никогда еще не видели такой замечательной книжки. В тех, которыми они до сих пор пользовались, краски были самые обычные – красные, зеленые, желтые, – а тут такое богатство оттенков – розоватый, светло-синий с белой и серой примесью. Да и карандашей таких цветов ни у кого не было – ни в стандартном наборе из двадцати четырех карандашей, ни даже у Та-тяна, у которого их было сорок восемь штук. И наконец, вообще ребята никогда не видели такой большой детской книжки, как эта, напечатанная на плотной, гладкой и блестящей бумаге. Все были просто восхищены. Из картинок особенно понравилась та, где собака тащила младенца, ухватившись зубами за пеленку. Причем малыш с его бледно-розовым тельцем был точно живой. Тотто-тян, как всегда, находилась в гуще событий – рядом с удивительной книжкой и ее счастливым обладателем.
Сначала Миядзаки ознакомил всех с английским текстом, читая так гладко и выразительно, что все просто заслушались. А потом началось его сражение с родным языком. Короче говоря, Миядзаки внес в жизнь новую струю.
– Ака-тян значит бейби[25], – начал он.
– Ака-тян – это бейби, – повторили все хором.
– Уцукуси значит бьютифул[26], – продолжал Миядзаки.
– Уцукусии значит бьютифул, – поправили его. Мальчик, почувствовав свою ошибку – не хватало одного «и» и интонация была не та, переспросил:
– Кажется, я ошибся? – И поправился: – Уцукусии – так ведь?
Все очень быстро подружились с новичком. А тот приносил в школу все новые и новые книжки и на большой перемене читал их, обучая товарищей английскому. И сам он с каждым днем все лучше и лучше говорил по-японски. И больше уже не садился на ступенечку в токонома[27].
Тотто-тян и ее друзья многое узнали об Америке. Но совсем иначе обстояли дела за стенами «Томоэ»: с Америкой шла война, и английский был исключен из всех школьных программ как язык неприятеля.
«Все американцы – дьяволы!» – твердила официальная пропаганда. Но в школе «Томоэ» дети продолжали повторять: «Красивый значит бьютифул!»
Ветры, дувшие над «Томоэ», были легкими и теплыми, и дети росли в ней с красивой душой.
Школьный спектакль
Мел
Смерть Ясуаки-тяна
Разведчица
Папина скрипка
Обещание
А вообще детям было интересно сравнивать обычаи, которым следовали в Японии и за границей. Всюду они разные.
На следующий день Миядзаки принес в школу большую книжку на английском языке. На переменке его окружили и стали разглядывать картинки. Все были просто поражены, так как никогда еще не видели такой замечательной книжки. В тех, которыми они до сих пор пользовались, краски были самые обычные – красные, зеленые, желтые, – а тут такое богатство оттенков – розоватый, светло-синий с белой и серой примесью. Да и карандашей таких цветов ни у кого не было – ни в стандартном наборе из двадцати четырех карандашей, ни даже у Та-тяна, у которого их было сорок восемь штук. И наконец, вообще ребята никогда не видели такой большой детской книжки, как эта, напечатанная на плотной, гладкой и блестящей бумаге. Все были просто восхищены. Из картинок особенно понравилась та, где собака тащила младенца, ухватившись зубами за пеленку. Причем малыш с его бледно-розовым тельцем был точно живой. Тотто-тян, как всегда, находилась в гуще событий – рядом с удивительной книжкой и ее счастливым обладателем.
Сначала Миядзаки ознакомил всех с английским текстом, читая так гладко и выразительно, что все просто заслушались. А потом началось его сражение с родным языком. Короче говоря, Миядзаки внес в жизнь новую струю.
– Ака-тян значит бейби[25], – начал он.
– Ака-тян – это бейби, – повторили все хором.
– Уцукуси значит бьютифул[26], – продолжал Миядзаки.
– Уцукусии значит бьютифул, – поправили его. Мальчик, почувствовав свою ошибку – не хватало одного «и» и интонация была не та, переспросил:
– Кажется, я ошибся? – И поправился: – Уцукусии – так ведь?
Все очень быстро подружились с новичком. А тот приносил в школу все новые и новые книжки и на большой перемене читал их, обучая товарищей английскому. И сам он с каждым днем все лучше и лучше говорил по-японски. И больше уже не садился на ступенечку в токонома[27].
Тотто-тян и ее друзья многое узнали об Америке. Но совсем иначе обстояли дела за стенами «Томоэ»: с Америкой шла война, и английский был исключен из всех школьных программ как язык неприятеля.
«Все американцы – дьяволы!» – твердила официальная пропаганда. Но в школе «Томоэ» дети продолжали повторять: «Красивый значит бьютифул!»
Ветры, дувшие над «Томоэ», были легкими и теплыми, и дети росли в ней с красивой душой.
Школьный спектакль
«Мы будем ставить пьесу!» – эта новость мгновенно облетела всю школу. Ничего подобного еще не случалось в «Томоэ». Выступления в час обеда по-прежнему продолжались – каждый день по очереди один из учеников выходил на середину и рассказывал свою историю. Тут же речь шла о совершенно ином – выступать перед гостями на небольшой сцене с роялем, на котором обычно играл директор во время уроков ритмики. Кстати сказать, в школе не было ни одного ученика, который мог похвастаться тем, что побывал в театре. Даже Тотто-тян, дочь музыканта, кроме «Лебединого озера», ничего не видела. И все же решили поставить пьесу к концу учебного года, а что именно – это решалось в каждом классе.
Класс, где училась Тотто-тян, выбрал «Кандзинтё» («Лист пожертвований») – старинную пьесу из репертуара Кабуки. Она не совсем соответствовала новаторскому духу «Томоэ», но о ней писали в учебниках и, кроме того, ее очень хотел поставить учитель Маруяма, большой поклонник классики.
Было решено, что на роль силача Бэнкэя лучше всего подходит высокая и крепкая Айко Сайсё, а роль начальника заставы Тогаси отдали Амадэре, мальчику с громким голосом, умевшему принимать очень важный вид. И, наконец, посоветовавшись, решили, что роль благородного полководца Ёсицунэ, который по ходу пьесы притворяется носильщиком, будет играть Тотто-тян. Все же остальные станут странствующими монахами.
Перед началом репетиций каждый должен был затвердить свою роль. Тотто-тян и «монахам» повезло в том смысле, что им не надо было произносить никаких реплик. Единственное, что требовалось от «монахов», это стоять и молчать, а Тотто-тян, изображавшая Ёсицунэ, должна была сидеть на корточках и прятать голову под большой соломенной шляпой. Бэнкэй для маскировки выдает себя за главного в группе монахов, а на самом деле он слуга Ёсицунэ, за которым идет погоня. Чтобы благополучно провести его через заставу Атака, которую охраняет Тогаси, Бэнкэй бьет, погоняет «носильщика» – своего хозяина, а слуг его выдает за странствующих монахов, которые собирают пожертвования. Самая трудная задача стояла перед Сайсё, которая играла Бэнкэя. По ходу пьесы Бэнкэй вступает в перебранку с преградившим им дорогу Тогаси, начальником заставы, а когда тот, чтобы проверить Бэнкэя, приказывает ему читать «Лист пожертвований», то хитроумный богатырь делает вид, что читает по свитку (хотя это просто лист чистой бумаги, где ничего не написано). Он фантазирует, придумывает слова, призывающие жертвовать деньги: «Прежде всего для реставрации храма, именуемого Тодайдзи…» Импровизирует настолько удачно, что даже бдительный начальник заставы начинает верить ему. Поэтому, чтобы запомнить свою роль, Сайсё целыми днями твердила: «Прежде всего…»
Не менее сложная задача выпала на долю Амадэры – Тогаси, который решил во что бы то ни стало переспорить Бэнкэя, и ему стоило немалых усилий запомнить длиннющие монологи.
И вот наконец началась репетиция. Тогаси и Бэнкэй стояли друг против друга, а за Бэнкэем выстроились в ряд странствующие монахи. Впереди них расположилась Тотто-тян. Но вся беда в том, что маленькая девочка никак не могла смириться с тем, что происходило с ее героем на сцене. Поэтому, когда Бэнкэй свалил Ёсицунэ наземь и принялся «избивать» его палкой, Тотто-тян оказала ему самое яростное сопротивление. Она брыкалась и царапала Сайсё. Поэтому неудивительно, что Сайсё плакала, а «монахи» хихикали.
В пьесе Ёсицунэ, чтобы усыпить бдительность начальника заставы, смиренно выдерживает все побои и издевательства, которым подвергает его Бэнкэй. Тогаси уже понял, что здесь что-то нечисто, но, видя самоотверженность Бэнкэя, который с болью в сердце вынужден дурно обращаться со своим благородным хозяином, пропускает их через заставу Атака. Вот почему сопротивление Ёсицунэ – Тотто-тян сводило на нет весь замысел. Это-то и пытался учитель Маруяма разъяснить Тотто-тян. Но та упорствовала: «Пусть только Сайсё-сан попробует меня тронуть, сразу получит сдачи!» Так что они никак не могли сдвинуться с этой точки.
Сколько ни повторяли сцену, Тотто-тян каждый раз ожесточенно отбивалась, хоть и сидела в неудобной позе – на корточках. Наконец учитель Маруяма не выдержал:
– Мне очень жаль, но придется отдать роль Ёсицунэ Тай-тяну.
Такое решение вполне устраивало Тотто-тян: получать безответные удары оказалось ей не по нраву.
– Сыграй странствующего монаха, – предложил учитель Маруяма.
И вот уже Тотто-тян стоит в шеренге «монахов», правда, позади всех.
Учитель Маруяма и ученики решили, что теперь уже все будет в порядке, но не тут-то было. Давать Тотто-тян длинный посох, с которым странствующие монахи ходили по горным тропам, явно не следовало. Вскоре ей наскучило стоять на одном месте, и она стала «развлекаться»: то ткнет посохом в ногу стоящего рядом «монаха», то пощекочет другого, стоящего впереди, под мышкой. А еще хуже – она попыталась дирижировать им, это было не только опасно для окружающих, но и вообще лишало всякого смысла сцену спора Бэнкэя с Тогаси.
Таким образом, Тотто-тян осталась и без этой роли.
Зато Тай-тян в роли Ёсицунэ вел себя мужественно. Стиснув зубы, он стойко выдерживал любые оплеухи, поэтому тому, кто наблюдал со стороны, становилось искренне жаль его. Между тем без Тотто-тян репетиция пошла без сучка без задоринки.
Оказавшись не у дел, та вышла на школьный двор. Она сняла туфельки и принялась исполнять свой оригинальный танец в «духе Тотто-тян». До чего же приятно танцевать, давая волю безудержной фантазии! То ты белая лебедь, то ветер, то какое-нибудь странное создание или даже дерево. Одна на опустевшем дворе, она танцевала и танцевала.
И все же где-то в глубине души таилась мысль: «Хорошо все-таки было бы сыграть Ёсицунэ…» Но если бы ей вернули роль, она все равно не дала бы спуску Айко Сайсё.
Вот так, к сожалению, и получилось, что Тотто-тян не смогла принять участие в первом и последнем любительском спектакле в «Томоэ».
Класс, где училась Тотто-тян, выбрал «Кандзинтё» («Лист пожертвований») – старинную пьесу из репертуара Кабуки. Она не совсем соответствовала новаторскому духу «Томоэ», но о ней писали в учебниках и, кроме того, ее очень хотел поставить учитель Маруяма, большой поклонник классики.
Было решено, что на роль силача Бэнкэя лучше всего подходит высокая и крепкая Айко Сайсё, а роль начальника заставы Тогаси отдали Амадэре, мальчику с громким голосом, умевшему принимать очень важный вид. И, наконец, посоветовавшись, решили, что роль благородного полководца Ёсицунэ, который по ходу пьесы притворяется носильщиком, будет играть Тотто-тян. Все же остальные станут странствующими монахами.
Перед началом репетиций каждый должен был затвердить свою роль. Тотто-тян и «монахам» повезло в том смысле, что им не надо было произносить никаких реплик. Единственное, что требовалось от «монахов», это стоять и молчать, а Тотто-тян, изображавшая Ёсицунэ, должна была сидеть на корточках и прятать голову под большой соломенной шляпой. Бэнкэй для маскировки выдает себя за главного в группе монахов, а на самом деле он слуга Ёсицунэ, за которым идет погоня. Чтобы благополучно провести его через заставу Атака, которую охраняет Тогаси, Бэнкэй бьет, погоняет «носильщика» – своего хозяина, а слуг его выдает за странствующих монахов, которые собирают пожертвования. Самая трудная задача стояла перед Сайсё, которая играла Бэнкэя. По ходу пьесы Бэнкэй вступает в перебранку с преградившим им дорогу Тогаси, начальником заставы, а когда тот, чтобы проверить Бэнкэя, приказывает ему читать «Лист пожертвований», то хитроумный богатырь делает вид, что читает по свитку (хотя это просто лист чистой бумаги, где ничего не написано). Он фантазирует, придумывает слова, призывающие жертвовать деньги: «Прежде всего для реставрации храма, именуемого Тодайдзи…» Импровизирует настолько удачно, что даже бдительный начальник заставы начинает верить ему. Поэтому, чтобы запомнить свою роль, Сайсё целыми днями твердила: «Прежде всего…»
Не менее сложная задача выпала на долю Амадэры – Тогаси, который решил во что бы то ни стало переспорить Бэнкэя, и ему стоило немалых усилий запомнить длиннющие монологи.
И вот наконец началась репетиция. Тогаси и Бэнкэй стояли друг против друга, а за Бэнкэем выстроились в ряд странствующие монахи. Впереди них расположилась Тотто-тян. Но вся беда в том, что маленькая девочка никак не могла смириться с тем, что происходило с ее героем на сцене. Поэтому, когда Бэнкэй свалил Ёсицунэ наземь и принялся «избивать» его палкой, Тотто-тян оказала ему самое яростное сопротивление. Она брыкалась и царапала Сайсё. Поэтому неудивительно, что Сайсё плакала, а «монахи» хихикали.
В пьесе Ёсицунэ, чтобы усыпить бдительность начальника заставы, смиренно выдерживает все побои и издевательства, которым подвергает его Бэнкэй. Тогаси уже понял, что здесь что-то нечисто, но, видя самоотверженность Бэнкэя, который с болью в сердце вынужден дурно обращаться со своим благородным хозяином, пропускает их через заставу Атака. Вот почему сопротивление Ёсицунэ – Тотто-тян сводило на нет весь замысел. Это-то и пытался учитель Маруяма разъяснить Тотто-тян. Но та упорствовала: «Пусть только Сайсё-сан попробует меня тронуть, сразу получит сдачи!» Так что они никак не могли сдвинуться с этой точки.
Сколько ни повторяли сцену, Тотто-тян каждый раз ожесточенно отбивалась, хоть и сидела в неудобной позе – на корточках. Наконец учитель Маруяма не выдержал:
– Мне очень жаль, но придется отдать роль Ёсицунэ Тай-тяну.
Такое решение вполне устраивало Тотто-тян: получать безответные удары оказалось ей не по нраву.
– Сыграй странствующего монаха, – предложил учитель Маруяма.
И вот уже Тотто-тян стоит в шеренге «монахов», правда, позади всех.
Учитель Маруяма и ученики решили, что теперь уже все будет в порядке, но не тут-то было. Давать Тотто-тян длинный посох, с которым странствующие монахи ходили по горным тропам, явно не следовало. Вскоре ей наскучило стоять на одном месте, и она стала «развлекаться»: то ткнет посохом в ногу стоящего рядом «монаха», то пощекочет другого, стоящего впереди, под мышкой. А еще хуже – она попыталась дирижировать им, это было не только опасно для окружающих, но и вообще лишало всякого смысла сцену спора Бэнкэя с Тогаси.
Таким образом, Тотто-тян осталась и без этой роли.
Зато Тай-тян в роли Ёсицунэ вел себя мужественно. Стиснув зубы, он стойко выдерживал любые оплеухи, поэтому тому, кто наблюдал со стороны, становилось искренне жаль его. Между тем без Тотто-тян репетиция пошла без сучка без задоринки.
Оказавшись не у дел, та вышла на школьный двор. Она сняла туфельки и принялась исполнять свой оригинальный танец в «духе Тотто-тян». До чего же приятно танцевать, давая волю безудержной фантазии! То ты белая лебедь, то ветер, то какое-нибудь странное создание или даже дерево. Одна на опустевшем дворе, она танцевала и танцевала.
И все же где-то в глубине души таилась мысль: «Хорошо все-таки было бы сыграть Ёсицунэ…» Но если бы ей вернули роль, она все равно не дала бы спуску Айко Сайсё.
Вот так, к сожалению, и получилось, что Тотто-тян не смогла принять участие в первом и последнем любительском спектакле в «Томоэ».
Мел
Ученики «Томоэ» никогда не рисовали на заборах и на тротуарах. Все это можно было делать в самой школе.
На музыкальных занятиях в актовом зале директор вручал каждому по мелку. Затем дети усаживались, а некоторые даже ложились на пол, где им понравится, и директор начинал играть на рояле. Слушая музыку, дети изображали на полу ее ритм нотными знаками, обозначающими протяженность звука.
Писать белым мелом на гладком светло-коричневом полу было огромным удовольствием. В классе Тотто-тян всего лишь десять учеников, а места в просторном зале сколько угодно, поэтому рисовали ноты размашисто, не рискуя залезть на чужой участок. Не было нужды и в нотных линейках, пбскольку обозначался только ритм. Причем в «Томоэ» ноты имели свои, особенные названия. Посовещавшись с директором, ученики придумали их сами. Вот такие:
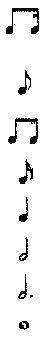 – прыжок (под этот ритм хорошо получаются легкие подскоки то на одной, то на другой ноге, с последующим переходом на высокий прыжок);
– прыжок (под этот ритм хорошо получаются легкие подскоки то на одной, то на другой ноге, с последующим переходом на высокий прыжок);
– флажок (знак, похожий на флаг);
– флаг-флаг;
– двойной флаг;
– черный;
– белый;
– белый с точкой;
– кружок (целая нота).
Легко и просто запоминались такие ноты, поэтому все очень любили эти уроки.
Идея писать мелом на полу принадлежала директору. Он считал, что раз для нот маловато места на бумаге и черных досках, то лучше превратить пол в актовом зале в огромную классную доску. Тогда, говорил он, «дети получат свободу движений» и «смогут записывать ритм, даже самый быстрый, знаками любой величины».
Но главное, конечно, заключалось в том, что дети без помех слушали музыку. Если же от урока оставалось время, они просто рисовали: самолеты, куклы – словом, все, что вздумается, подчас так крупно, что залезали на территорию соседа и соединяли свои рисунки – и тогда на полу в актовом зале возникала огромная картина.
В паузах на уроке музыки директор спускался со сцены и проверял, как кто записал ритм. Он говорил: «У тебя все правильно». Или делал замечание: «Здесь я играл „прыжки“, а вовсе не „флаг-флаг“.
После того как дети исправляли свои ошибки, директор возвращался на сцену и снова проигрывал ту же мелодию, чтобы каждый мог проверить себя. И как бы ни был он занят, он никогда не доверял другим учителям уроки музыки. И ученики тоже любили уроки директора, с ним так интересно!
Но вот убирать в зале после уроков музыки было делом нелегким. Сначала каждый стирал свои ноты, потом все вместе тщательно протирали пол с помощью швабры и мокрой тряпки. Словом, трудиться приходилось до седьмого пота. Зато каждый в «Томоэ» знал, как хлопотно избавляться от всяких надписей, поэтому ребята не мазали стен и не писали на них карандашом или мелом. Им было вполне достаточно двух веселых уроков музыки в неделю.
Ученики «Томоэ» были большими знатоками мела: какой мелок лучше, как его держать в руке, как лучше им рисовать, как сделать так, чтобы он не ломался.
На музыкальных занятиях в актовом зале директор вручал каждому по мелку. Затем дети усаживались, а некоторые даже ложились на пол, где им понравится, и директор начинал играть на рояле. Слушая музыку, дети изображали на полу ее ритм нотными знаками, обозначающими протяженность звука.
Писать белым мелом на гладком светло-коричневом полу было огромным удовольствием. В классе Тотто-тян всего лишь десять учеников, а места в просторном зале сколько угодно, поэтому рисовали ноты размашисто, не рискуя залезть на чужой участок. Не было нужды и в нотных линейках, пбскольку обозначался только ритм. Причем в «Томоэ» ноты имели свои, особенные названия. Посовещавшись с директором, ученики придумали их сами. Вот такие:
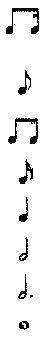
– флажок (знак, похожий на флаг);
– флаг-флаг;
– двойной флаг;
– черный;
– белый;
– белый с точкой;
– кружок (целая нота).
Легко и просто запоминались такие ноты, поэтому все очень любили эти уроки.
Идея писать мелом на полу принадлежала директору. Он считал, что раз для нот маловато места на бумаге и черных досках, то лучше превратить пол в актовом зале в огромную классную доску. Тогда, говорил он, «дети получат свободу движений» и «смогут записывать ритм, даже самый быстрый, знаками любой величины».
Но главное, конечно, заключалось в том, что дети без помех слушали музыку. Если же от урока оставалось время, они просто рисовали: самолеты, куклы – словом, все, что вздумается, подчас так крупно, что залезали на территорию соседа и соединяли свои рисунки – и тогда на полу в актовом зале возникала огромная картина.
В паузах на уроке музыки директор спускался со сцены и проверял, как кто записал ритм. Он говорил: «У тебя все правильно». Или делал замечание: «Здесь я играл „прыжки“, а вовсе не „флаг-флаг“.
После того как дети исправляли свои ошибки, директор возвращался на сцену и снова проигрывал ту же мелодию, чтобы каждый мог проверить себя. И как бы ни был он занят, он никогда не доверял другим учителям уроки музыки. И ученики тоже любили уроки директора, с ним так интересно!
Но вот убирать в зале после уроков музыки было делом нелегким. Сначала каждый стирал свои ноты, потом все вместе тщательно протирали пол с помощью швабры и мокрой тряпки. Словом, трудиться приходилось до седьмого пота. Зато каждый в «Томоэ» знал, как хлопотно избавляться от всяких надписей, поэтому ребята не мазали стен и не писали на них карандашом или мелом. Им было вполне достаточно двух веселых уроков музыки в неделю.
Ученики «Томоэ» были большими знатоками мела: какой мелок лучше, как его держать в руке, как лучше им рисовать, как сделать так, чтобы он не ломался.
Смерть Ясуаки-тяна
В первое утро после весенних каникул дети собрались на школьном дворе. Директор Кобаяси стоял перед ними в своей обычной позе – заложив руки в карманы. Какое-то время он молчал, а потом вынул руки и оглядел ребят. Лицо его было грустным, казалось, он вот-вот заплачет.
– Ясуаки-тян умер… – медленно проговорил учитель. – Сегодня мы все пойдем на похороны. Я знаю, вы все любили Ясуаки-тяна. Такое горе… Мне так жалко его… – Учителю было трудно продолжать, на глазах выступили слезы.
Дети стояли потрясенные, никто не произнес ни слова. Каждый вспоминал Ясуаки-тяна. Скорбная тишина воцарилась на школьном дворе: такой глубокой печали он еще не знал.
«Отчего он умер так быстро? – подумала Тотто-тян. – Ведь я даже не дочитала до конца „Хижину дяди Тома“, которую он дал мне почитать перед каникулами. Сам предложил…»
Тотто-тян вспомнила его изуродованную полиомиелитом руку, в которой он держал книгу, – это была их последняя встреча перед каникулами. Вспомнила его застенчивую улыбку, его добрый, мягкий голос, свой нелепый вопрос: «Почему ты так ходишь?» Он не рассердился и просто ответил: «У меня полиомиелит». А их общий секрет – приключение прошлого лета, когда они сидели на дереве!.. Хоть и тяжел он был, но все-таки она втащила его… Ясуаки-тян был старше Тотто-тян, но доверился ей. Наконец, именно он, Ясуаки-тян, рассказал ей, что в Америке появилась такая штука, которую называют телевидением.
Тотто-тян любила Ясуаки-тяна. Они всегда были вместе – и на переменках, и на обеде, и на станцию после школы шли вместе. Ей так будет недоставать его…
Но Тотто-тян знала: раз Ясуаки-тян умер, он никогда больше не придет в школу. Вот и цыплята: сколько она их ни просила, они так и не ожили.
Прощание с Ясуаки-тяном должно было состояться в церкви. От Дзиюгаоки шли молча, вытянувшись длинной цепочкой. Тотто-тян, которая не могла обычно ходить спокойно, не озираясь по сторонам, на этот раз всю дорогу шла понурив голову. Теперь она испытывала иные чувства, чем в первый момент, когда директор сообщил печальную весть. «Не могу поверить! Бедный Ясуаки-тян!» – думала она тогда. Ей отчаянно хотелось еще разочек встретиться с живым Ясуаки-тяном и перемолвиться с ним в последний раз.
У входа в церковь, убранную белыми лилиями, стояли одетые в черное близкие Ясуаки-тяна: его мама, красавица старшая сестра, родственники. Завидев Тотто-тян и ее одноклассников, они заплакали еще горше, утирая слезы платочками. Впервые в жизни Тотто-тян присутствовала на похоронах и сразу же осознала, какое это грустное событие. Тихо и печально звучал орган, в скорбном молчании стояли люди. Внутри церковь была залита лучами солнца, но это лишь обостряло чувство печали. Человек с траурной повязкой на руке вручил каждому ученику «Томоэ» по белому цветку и объяснил, что входить в церковь надо поодиночке, а подойдя к гробу, где лежит Ясуаки-тян, следует положить цветы рядом с ним.
Ясуаки-тян лежал, усыпанный цветами. Хоть и мертвый, он казался таким же добрым и серьезным, как при жизни. Тотто-тян опустилась на колени и положила цветок к руке Ясуаки-тяна. Потом тихонько коснулась ее, той самой дорогой ей руки, за которую она столько раз держала мальчика. По сравнению с чумазыми ручонками Тотто-тян, его иссиня-белые руки с длинными пальцами, казалось, принадлежали взрослому человеку.
– Прощай! – прошептала она. – Возможно, еще встретимся, когда станем большими. Было б хорошо, если б к тому времени ты вылечил свой полио…
Тотто-тян встала и взглянула последний раз на Ясуаки-тяна.
– Как же я забыла! – сказала она. – Я же не могу отдать тебе «Хижину дяди Тома». Но ты не беспокойся, я буду хранить ее у себя до нашей встречи.
Когда она направилась к выходу, ей почудилось, что Ясуаки-тян шепчет ей вдогонку: «Тотто-тян! Нам было так хорошо вдвоем. Я никогда не забуду тебя, никогда!»
Уже у самого выхода Тотто-тян обернулась и ответила ему:
– Я тоже никогда не забуду тебя, Ясуаки-тян!
…Весеннее солнце светило столь же ласково, как в тот день, когда она впервые встретилась с Ясуаки-тяном в вагоне-классе. Но сегодня, в отличие от того светлого дня, ее лицо было мокро от слез.
– Ясуаки-тян умер… – медленно проговорил учитель. – Сегодня мы все пойдем на похороны. Я знаю, вы все любили Ясуаки-тяна. Такое горе… Мне так жалко его… – Учителю было трудно продолжать, на глазах выступили слезы.
Дети стояли потрясенные, никто не произнес ни слова. Каждый вспоминал Ясуаки-тяна. Скорбная тишина воцарилась на школьном дворе: такой глубокой печали он еще не знал.
«Отчего он умер так быстро? – подумала Тотто-тян. – Ведь я даже не дочитала до конца „Хижину дяди Тома“, которую он дал мне почитать перед каникулами. Сам предложил…»
Тотто-тян вспомнила его изуродованную полиомиелитом руку, в которой он держал книгу, – это была их последняя встреча перед каникулами. Вспомнила его застенчивую улыбку, его добрый, мягкий голос, свой нелепый вопрос: «Почему ты так ходишь?» Он не рассердился и просто ответил: «У меня полиомиелит». А их общий секрет – приключение прошлого лета, когда они сидели на дереве!.. Хоть и тяжел он был, но все-таки она втащила его… Ясуаки-тян был старше Тотто-тян, но доверился ей. Наконец, именно он, Ясуаки-тян, рассказал ей, что в Америке появилась такая штука, которую называют телевидением.
Тотто-тян любила Ясуаки-тяна. Они всегда были вместе – и на переменках, и на обеде, и на станцию после школы шли вместе. Ей так будет недоставать его…
Но Тотто-тян знала: раз Ясуаки-тян умер, он никогда больше не придет в школу. Вот и цыплята: сколько она их ни просила, они так и не ожили.
Прощание с Ясуаки-тяном должно было состояться в церкви. От Дзиюгаоки шли молча, вытянувшись длинной цепочкой. Тотто-тян, которая не могла обычно ходить спокойно, не озираясь по сторонам, на этот раз всю дорогу шла понурив голову. Теперь она испытывала иные чувства, чем в первый момент, когда директор сообщил печальную весть. «Не могу поверить! Бедный Ясуаки-тян!» – думала она тогда. Ей отчаянно хотелось еще разочек встретиться с живым Ясуаки-тяном и перемолвиться с ним в последний раз.
У входа в церковь, убранную белыми лилиями, стояли одетые в черное близкие Ясуаки-тяна: его мама, красавица старшая сестра, родственники. Завидев Тотто-тян и ее одноклассников, они заплакали еще горше, утирая слезы платочками. Впервые в жизни Тотто-тян присутствовала на похоронах и сразу же осознала, какое это грустное событие. Тихо и печально звучал орган, в скорбном молчании стояли люди. Внутри церковь была залита лучами солнца, но это лишь обостряло чувство печали. Человек с траурной повязкой на руке вручил каждому ученику «Томоэ» по белому цветку и объяснил, что входить в церковь надо поодиночке, а подойдя к гробу, где лежит Ясуаки-тян, следует положить цветы рядом с ним.
Ясуаки-тян лежал, усыпанный цветами. Хоть и мертвый, он казался таким же добрым и серьезным, как при жизни. Тотто-тян опустилась на колени и положила цветок к руке Ясуаки-тяна. Потом тихонько коснулась ее, той самой дорогой ей руки, за которую она столько раз держала мальчика. По сравнению с чумазыми ручонками Тотто-тян, его иссиня-белые руки с длинными пальцами, казалось, принадлежали взрослому человеку.
– Прощай! – прошептала она. – Возможно, еще встретимся, когда станем большими. Было б хорошо, если б к тому времени ты вылечил свой полио…
Тотто-тян встала и взглянула последний раз на Ясуаки-тяна.
– Как же я забыла! – сказала она. – Я же не могу отдать тебе «Хижину дяди Тома». Но ты не беспокойся, я буду хранить ее у себя до нашей встречи.
Когда она направилась к выходу, ей почудилось, что Ясуаки-тян шепчет ей вдогонку: «Тотто-тян! Нам было так хорошо вдвоем. Я никогда не забуду тебя, никогда!»
Уже у самого выхода Тотто-тян обернулась и ответила ему:
– Я тоже никогда не забуду тебя, Ясуаки-тян!
…Весеннее солнце светило столь же ласково, как в тот день, когда она впервые встретилась с Ясуаки-тяном в вагоне-классе. Но сегодня, в отличие от того светлого дня, ее лицо было мокро от слез.
Разведчица
В «Томоэ» еще долго с грустью вспоминали Ясуаки-тяна, особенно по утрам, когда начинался первый урок. Потребовалось немало времени, чтобы дети свыклись с мыслью, что Ясуаки-тян не опаздывает, а больше никогда не придет. Может, и хорошо, когда в классе мало учеников – всего лишь десяток, но отсутствие одного из них ощущается особенно остро. А отсутствие Ясуаки-тяна сразу бросалось в глаза. Спасало, пожалуй, только то, что места в классе, как мы знаем, не были закреплены за учениками. Трудно представить, как горько было бы изо дня в день видеть пустой стул Ясуаки-тяна…
В последнее время Тотто-тян стала задумываться над тем, кем она станет, когда вырастет. Кем она только не мечтала стать, когда была поменьше: и уличным музыкантом, и балериной, а в тот день, когда впервые поехала в «Томоэ», ей захотелось быть контролером на станции. Но теперь ее одолевали куда более честолюбивые мечты: она решила заняться каким-нибудь более интересным, но все-таки подходящим для женщины делом. «Почему бы мне не стать медицинской сестрой?!» Но тут же вспоминала сестричку из военного госпиталя и то, как она делала раненым уколы. «Я, пожалуй, так не смогу…» Кем же еще можно стать? И тут вспомнила: «Вот глупая! Я же давно решила!»
Тотто-тян тут же направилась к Тай-тяну. Тот только что зажег спиртовку.
– Я решила стать разведчицей! – торжествующе сообщила она.
Тай-тян оторвался от спиртовки и испытующе посмотрел на Тотто-тян. Потом поглядел в окно, словно обдумывая услышанное, повернулся к девочке и размеренно, четко, так чтобы у Тотто-тян не оставалось никаких сомнений, сказал:
– У разведчика должна быть голова на плечах. И еще он должен уметь говорить на разных языках. – Тай-тян перевел дыхание и, глядя Тотто-тян прямо в глаза, добавил: – А самое главное, шпионки бывают только красивые!
Тотто-тян медленно отвела глаза и понурила голову. После минутной паузы Тай-тян тоже отвернулся и тихо, задумчиво заметил:
– К тому же, мне кажется, с таким длинным языком нельзя быть разведчицей…
Тотто-тян была ошеломлена. И вовсе не потому, что Тай-тян не согласился с ее идеей. Он просто попал в точку: все верно, она и сама могла бы сообразить. Тотто-тян вдруг осознала, что начисто лишена необходимых качеств. Ясно было и то, что Тай-тян сказал ей это вовсе не назло. Ничего не остается, как отказаться от затеи.
«Поразительно! – подумала она. – Тай-тяну столько же, сколько и мне, а он все знает…»
Ну а если бы Тай-тян сказал, что собирается стать химиком, как бы она ответила? Скорее всего, сказала бы, что, по ее мнению, человек, который так здорово зажигает огонь в спиртовке, вполне может им стать.
Хотя это, пожалуй, чересчур по-детски. Может, сказать, что раз уж он знает несколько английских слов, то быть ему химиком?
Но и это, пожалуй, не лучше. Как бы там ни было, она была уверена, что «большому кораблю» предстоит «большое плавание».
Потому-то она так незлобиво и сказала молча наблюдавшему за кипящей колбой Тай-тяну:
– Спасибо тебе. Разведчицей я не буду. А ты, Тай-тян, обязательно станешь важным человеком.
Тай-тян что-то пробормотал и, смущенно почесав затылок, уткнулся в лежащую перед ним раскрытую книгу.
«Если не разведчицей, то кем же?» – Тотто-тян, стоя рядышком с Тай-тяном и вглядываясь в пламя, горевшее под колбой, погрузилась в раздумья.
В последнее время Тотто-тян стала задумываться над тем, кем она станет, когда вырастет. Кем она только не мечтала стать, когда была поменьше: и уличным музыкантом, и балериной, а в тот день, когда впервые поехала в «Томоэ», ей захотелось быть контролером на станции. Но теперь ее одолевали куда более честолюбивые мечты: она решила заняться каким-нибудь более интересным, но все-таки подходящим для женщины делом. «Почему бы мне не стать медицинской сестрой?!» Но тут же вспоминала сестричку из военного госпиталя и то, как она делала раненым уколы. «Я, пожалуй, так не смогу…» Кем же еще можно стать? И тут вспомнила: «Вот глупая! Я же давно решила!»
Тотто-тян тут же направилась к Тай-тяну. Тот только что зажег спиртовку.
– Я решила стать разведчицей! – торжествующе сообщила она.
Тай-тян оторвался от спиртовки и испытующе посмотрел на Тотто-тян. Потом поглядел в окно, словно обдумывая услышанное, повернулся к девочке и размеренно, четко, так чтобы у Тотто-тян не оставалось никаких сомнений, сказал:
– У разведчика должна быть голова на плечах. И еще он должен уметь говорить на разных языках. – Тай-тян перевел дыхание и, глядя Тотто-тян прямо в глаза, добавил: – А самое главное, шпионки бывают только красивые!
Тотто-тян медленно отвела глаза и понурила голову. После минутной паузы Тай-тян тоже отвернулся и тихо, задумчиво заметил:
– К тому же, мне кажется, с таким длинным языком нельзя быть разведчицей…
Тотто-тян была ошеломлена. И вовсе не потому, что Тай-тян не согласился с ее идеей. Он просто попал в точку: все верно, она и сама могла бы сообразить. Тотто-тян вдруг осознала, что начисто лишена необходимых качеств. Ясно было и то, что Тай-тян сказал ей это вовсе не назло. Ничего не остается, как отказаться от затеи.
«Поразительно! – подумала она. – Тай-тяну столько же, сколько и мне, а он все знает…»
Ну а если бы Тай-тян сказал, что собирается стать химиком, как бы она ответила? Скорее всего, сказала бы, что, по ее мнению, человек, который так здорово зажигает огонь в спиртовке, вполне может им стать.
Хотя это, пожалуй, чересчур по-детски. Может, сказать, что раз уж он знает несколько английских слов, то быть ему химиком?
Но и это, пожалуй, не лучше. Как бы там ни было, она была уверена, что «большому кораблю» предстоит «большое плавание».
Потому-то она так незлобиво и сказала молча наблюдавшему за кипящей колбой Тай-тяну:
– Спасибо тебе. Разведчицей я не буду. А ты, Тай-тян, обязательно станешь важным человеком.
Тай-тян что-то пробормотал и, смущенно почесав затылок, уткнулся в лежащую перед ним раскрытую книгу.
«Если не разведчицей, то кем же?» – Тотто-тян, стоя рядышком с Тай-тяном и вглядываясь в пламя, горевшее под колбой, погрузилась в раздумья.
Папина скрипка
Война со всеми ее невзгодами как-то исподволь вошла в жизнь семьи Тотто-тян. Каждый день где-нибудь по соседству, размахивая флагами с красным кругом на белом фоне и с криками «Банзай!»[28], провожали на фронт то одного, то другого, подчас совсем безусого, юнца. С магазинных полок исчезли продукты. Все труднее становилось наполнять, как это было принято в школе «Томоэ», «дарами моря» и «дарами гор» коробочки с завтраком. Первое время обходились сушеными водорослями и маринованными сливами, но и их было все труднее и труднее купить. Все выдавали только по карточкам, о сластях и говорить не приходилось – дело безнадежное.
Тотто-тян помнила, что на станции Оокаяма, не доезжая одной остановки до дома, под лестницей был автомат. На нем была изображена очень соблазнительная на вид конфета. Стоило, раньше бросить в щель монетку, как выскакивал пакетик с карамельками. За пять сэн можно было получить маленькую коробочку, и побольше – за десять. Но уже давным-давно автомат стоял пустой. Сколько ни суй денежек, сколько ни стучи – ничего не выскочит. Но Тотто-тян превзошла всех в своем упорстве.
«Может, хоть одна коробочка осталась? Вдруг да выскочит? – думала она. – Что, если застряла где-нибудь?» Поэтому изо дня в день, возвращаясь домой, она выходила на одну остановку раньше и бросала монетку в отверстие автомата. Но, увы, каждый раз со звоном монетка возвращалась обратно.
Пока Тотто-тян тщетно охотилась за карамельками, папа получил заманчивое по тем временам предложение: съездить на военный завод, где, говорили, делают оружие и еще что-то в этом роде для войны, и сыграть военные марши. За выступление ему выдадут сахар или фасолевую пастилу. Приятель, который предложил ему это, не преминул добавить, что папа вправе рассчитывать на щедрый паек, ведь он известный скрипач, недаром ему недавно выдали диплом Отличного Музыканта. Мама спросила:
– Ну как, поедешь?
Надо сказать, концерты организовывались все реже и реже, да и сам оркестр поредел: музыкантов одного за другим отправляли на фронт.
По радио передавали одни военные сводки, для музыки оставалось совсем мало места, так что работы у папы и других оркестрантов было маловато. Предложение сыграть на военном заводе пришлось, стало быть, весьма кстати.
Тем не менее после некоторой паузы папа решительно ответил:
– Я не стану играть военную музыку на своей скрипке.
– Что ж, пожалуй, ты прав. Как-нибудь перебьемся с продуктами, – согласилась мама.
Папа, конечно, знал, как ей приходится изворачиваться, чтобы накормить дочку. Знал он и о том, что Тотто-тян каждый день бегает к пустому автомату. Как повеселело бы в их доме, сыграй он пару-другую военных маршей и добыв паек! Как радовалась бы дочка, поев досыта!
Но еще больше папа уважал музыку, а мама отлично понимала его и потому уговаривать не стала.
– Прости меня, Тотто-скэ! – грустно сказал он дочери.
Тотто-тян была слишком мала, чтобы разбираться в каких-то «принципах», не знала она и того, как плохо быть без работы. Но она видела, как любит папа скрипку; ей тоже было известно, что именно за музыку его изгнали из родительского дома и многие родственники порвали с ним отношения. Что только он не испытал, но так и не расстался со скрипкой. Поэтому и Тотто-тян согласилась с тем, что папа не должен играть то, что ему вовсе не нравится. Весело прыгая вокруг отца, она бодро приговаривала:
– Ты, папочка, не беспокойся. Ведь я тоже люблю твою скрипку!
Правда, на следующий день Тотто-тян снова сошла на станции Оокаяма и заглянула в отверстие, откуда должны были выскакивать конфеты.
Должны были, но не выскакивали. И все же надежда не покидала ее.
Тотто-тян помнила, что на станции Оокаяма, не доезжая одной остановки до дома, под лестницей был автомат. На нем была изображена очень соблазнительная на вид конфета. Стоило, раньше бросить в щель монетку, как выскакивал пакетик с карамельками. За пять сэн можно было получить маленькую коробочку, и побольше – за десять. Но уже давным-давно автомат стоял пустой. Сколько ни суй денежек, сколько ни стучи – ничего не выскочит. Но Тотто-тян превзошла всех в своем упорстве.
«Может, хоть одна коробочка осталась? Вдруг да выскочит? – думала она. – Что, если застряла где-нибудь?» Поэтому изо дня в день, возвращаясь домой, она выходила на одну остановку раньше и бросала монетку в отверстие автомата. Но, увы, каждый раз со звоном монетка возвращалась обратно.
Пока Тотто-тян тщетно охотилась за карамельками, папа получил заманчивое по тем временам предложение: съездить на военный завод, где, говорили, делают оружие и еще что-то в этом роде для войны, и сыграть военные марши. За выступление ему выдадут сахар или фасолевую пастилу. Приятель, который предложил ему это, не преминул добавить, что папа вправе рассчитывать на щедрый паек, ведь он известный скрипач, недаром ему недавно выдали диплом Отличного Музыканта. Мама спросила:
– Ну как, поедешь?
Надо сказать, концерты организовывались все реже и реже, да и сам оркестр поредел: музыкантов одного за другим отправляли на фронт.
По радио передавали одни военные сводки, для музыки оставалось совсем мало места, так что работы у папы и других оркестрантов было маловато. Предложение сыграть на военном заводе пришлось, стало быть, весьма кстати.
Тем не менее после некоторой паузы папа решительно ответил:
– Я не стану играть военную музыку на своей скрипке.
– Что ж, пожалуй, ты прав. Как-нибудь перебьемся с продуктами, – согласилась мама.
Папа, конечно, знал, как ей приходится изворачиваться, чтобы накормить дочку. Знал он и о том, что Тотто-тян каждый день бегает к пустому автомату. Как повеселело бы в их доме, сыграй он пару-другую военных маршей и добыв паек! Как радовалась бы дочка, поев досыта!
Но еще больше папа уважал музыку, а мама отлично понимала его и потому уговаривать не стала.
– Прости меня, Тотто-скэ! – грустно сказал он дочери.
Тотто-тян была слишком мала, чтобы разбираться в каких-то «принципах», не знала она и того, как плохо быть без работы. Но она видела, как любит папа скрипку; ей тоже было известно, что именно за музыку его изгнали из родительского дома и многие родственники порвали с ним отношения. Что только он не испытал, но так и не расстался со скрипкой. Поэтому и Тотто-тян согласилась с тем, что папа не должен играть то, что ему вовсе не нравится. Весело прыгая вокруг отца, она бодро приговаривала:
– Ты, папочка, не беспокойся. Ведь я тоже люблю твою скрипку!
Правда, на следующий день Тотто-тян снова сошла на станции Оокаяма и заглянула в отверстие, откуда должны были выскакивать конфеты.
Должны были, но не выскакивали. И все же надежда не покидала ее.
Обещание
После обеда, когда дети убирали столы и стулья, расставленные в кружок, актовый зал становился гораздо просторнее.
«Сегодня я буду первой!» – решила Тотто-тян.
Она уже не раз пыталась сделать это, но каждый раз чуть-чуть опаздывала и кто-то другой опережал ее. А директор сидел посреди актового зала в своей излюбленной позе – скрестив ноги, в то время как дети, отталкивая друг друга, забирались ему на спину. Каждому хотелось поговорить с ним.
– А ну-ка слезайте, слезайте! – отбивался директор, побагровев от хохота.
Однако дети ни за что не хотели слезать. Так что если ты не успевал вовремя подобраться, то свободного местечка для тебя не находилось, тем более что директор не отличался высоким ростом.
Но сегодня Тотто-тян решила во что бы то ни стало быть первой, поэтому она поджидала директора в самом центре актового зала. Как только он подошел, Тотто-тян закричала:
– Нам надо поговорить, сэнсэй!
Директор уселся поудобнее и весело спросил:
– Ну что там? Выкладывай…
Тотто-тян уже несколько дней подряд обдумывала то, что она скажет сейчас директору. Когда тот скрестил ноги, она вдруг решила, что не станет карабкаться на него. Предстоящий разговор настолько важен, что лучше, если они будут видеть друг друга в лицо. Поэтому Тотто-тян опустилась рядом с директором, но не скрестила ноги, как он, а села на пятки. Хотя от этого немеют ноги, только так приличествует сидеть девочке. После этого Тотто-тян наклонила головку и слегка улыбнулась. «Сделай милое лицо», – говорила ей мама, еще когда она была маленькой. Именно таким должно было быть ее «праздничное» выражение лица. Да и сама она ощущала себя хорошей девочкой, когда улыбалась, слегка приоткрыв ротик.
«Сегодня я буду первой!» – решила Тотто-тян.
Она уже не раз пыталась сделать это, но каждый раз чуть-чуть опаздывала и кто-то другой опережал ее. А директор сидел посреди актового зала в своей излюбленной позе – скрестив ноги, в то время как дети, отталкивая друг друга, забирались ему на спину. Каждому хотелось поговорить с ним.
– А ну-ка слезайте, слезайте! – отбивался директор, побагровев от хохота.
Однако дети ни за что не хотели слезать. Так что если ты не успевал вовремя подобраться, то свободного местечка для тебя не находилось, тем более что директор не отличался высоким ростом.
Но сегодня Тотто-тян решила во что бы то ни стало быть первой, поэтому она поджидала директора в самом центре актового зала. Как только он подошел, Тотто-тян закричала:
– Нам надо поговорить, сэнсэй!
Директор уселся поудобнее и весело спросил:
– Ну что там? Выкладывай…
Тотто-тян уже несколько дней подряд обдумывала то, что она скажет сейчас директору. Когда тот скрестил ноги, она вдруг решила, что не станет карабкаться на него. Предстоящий разговор настолько важен, что лучше, если они будут видеть друг друга в лицо. Поэтому Тотто-тян опустилась рядом с директором, но не скрестила ноги, как он, а села на пятки. Хотя от этого немеют ноги, только так приличествует сидеть девочке. После этого Тотто-тян наклонила головку и слегка улыбнулась. «Сделай милое лицо», – говорила ей мама, еще когда она была маленькой. Именно таким должно было быть ее «праздничное» выражение лица. Да и сама она ощущала себя хорошей девочкой, когда улыбалась, слегка приоткрыв ротик.
