Страница:
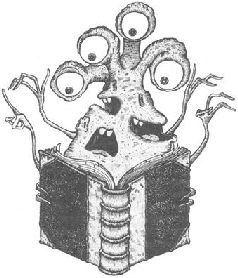
Все мастера-чтецы Книгорода принадлежали к гильдии, которая существовала уже несколько столетий и наряду с педантичным уставом и инструкциями имела строжайшие правила приема. Кто читал в Книгороде профессионально, прошел суровую школу и в совершенстве владел своим ремеслом. Зачастую чтецами подвизались бывшие актеры и певцы с мощными голосовыми связками и развитой мимикой. Что книгородские чтецы — самые лучшие, знала вся Замония. Когда того требовал текст, их голоса с легкостью взмывали высочайшими сопрано и обрушивались в самые нижние басовые ноты. Экспромтом они пели как соловьи или выли как волкодлаки, умели нагнать на публику жутчайший страх или рассмешить до слез. Каждый писатель Замонии мечтал, чтобы его произведения читали книгородские мастера, но не всякому выпадало такое счастье. Ведь здешние чтецы бьши капризны и придирчивы, и кем они пренебрегли, тот считался второсортным, сколько бы ни получил премий или какими тиражами ни продавался.
Я стоял перед черной грифельной доской с афишей на сегодняшний вечер. Можно было выбрать между чтениями из «Лодка, груженная горошинами» Хетлебема Горха, «Воздушное лицо» Бегемота Оркана, «Мои секунды длиннее ваших волос» Коконуса Нусгоко и «Спасенное спасибо» Голиата Вчерашнего. Кроме того, будут отрывки из «Дома с сотней ног», «Дуновения и теней», «Где растет ветер», «Если уж, то вчера» и «Несмеянный анекдот» — и все на одной единственной улице, и это не говоря уже о дюжине прочих представлений рангом пониже, и все бесплатно, а иногда даже с дармовым пивом!
Переходя от витрины к витрине, я смотрел, как собираются у потрескивающих каминов люди — с чайными чашками и винными бокалами, смеясь и болтая, исполнившись предвкушения. Неужели я пропущу такое? Ради какого-то трубамбонового концерта?
«А… каминный час»! — эхом прозвучал у меня в голове голос червякула. — «Каминный час» в Книгороде бывает каждый вечер! Но трубамбоновый оркестр нибелунгов дает концерты не часто». Верно: «Каминный час» действительно каждый вечер, а я непременно предполагал еще здесь задержаться. Намеки Фистоме-феля Смайка разбередили мое любопытство. «Изюминка», — сказал он и: «не для туристов», что меня особенно привлекало — как раз потому, что я сам был туристом. «Каминный час» — для недотеп, а меня ждет кое-что позначительнее. К тому же по личному приглашению именитого книгородца. Я отвернулся от витрин, и ноги почти сами собой понесли меня к городскому парку.
Солнце уже давно зашло, воздух был прохладным и свежим, мне стало немного зябко, так как я забыл последовать совету в приглашении и захватить шарф. И действительно почти все посетители были укутаны в теплые одежды, и я почувствовал себя тем более чужим. Среди слушателей я был единственным драконгор-цем. Длинные ряды садовых стульев стояли под открытым небом перед эстрадой-раковиной. Я мог бы сидеть в каком-нибудь теплом букинистическом перед потрескивающим камином, со стаканом бесплатного глинтвейна в руках и слушать, как легендарный мастер-чтец читает отрывок из «Если уж, то вчера», романа, в котором тема «упущенных возможностей» раскрыта с особым изяществом.
Упущенные возможности, ха! Среди всего прочего я сейчас упускаю чтение на три голоса из «Несмеянного анекдота», сказочно комичного жизнеописания великого юмориста Анекдотьона Пекки. Или поэтический вечер со стихами Ксеппа Юпо, моего кумира в поэзии. А вместо этого я, всем телом дрожа от холода, жду исполнения скорее всего тягомотной духовой музыки. Если концерт не начнется сию минуту, я просто встану и… Ага, наконец-то, музыканты вышли на сцену! И мое сердце тут же упало… Нибелунги! Про это я совсем забыл! И, пожалуйста вам, нибелунги! Нет, я не сторонник расхожих предрассудков против жителей Нибелунгии. Нет, просто известно, что из-за туманного климата своей родины они более других склонны к меланхолии и потому сплошь депрессивные типы с глубоко укоренившейся тягой к смерти. Еще им приписывали преступные заговоры, грабеж жертв кораблекрушений и тому подобное. От этих веселья не жди.
Сам вид нибелунгов не способствовал поднятию настроения: пористые, одутловатые лица, бесцветная кожа и меланхоличные глаза, и вообще они походили на затянутые в черные костюмы дождевые тучи. На публику они уставились так горестно, точно вот-вот расплачутся или совершат коллективное самоубийство. Неприятное ощущение, что я попал на поминки, усилилось, и я нетерпеливо скользнул взглядом по аудитории. И в первом ряду обнаружил Хахмеда бен Кибитцера. Он с упреком зыркнул на меня желтыми глазами… а рядом с ним оказалась Инацея Анацаци, ужаска из книжной лавки хоррора! Она что-то говорила Кибитцеру и обвиняюще указывала на меня тонким пальцем. Я съежился на неудобном садовом стуле. М-да, вот так влип.
Концерт начался с мучительной увертюры: музыканты надули щеки, от чего их лица стали еще более лягушачьими, и из инстру-ментов пробились первые нескладные ноты, неблагозвучное, сдавленное гуденье безо всякой гармонии [8]. Они как будто умышленно играли, кто в лес, кто по дрова, а некоторые мучители издавали самые обычные хрипы. Я ушам своим не верил. Это было не просто плохо, это было ужасно наглое, умышленное издевательство над публикой. Адля меня последняя капля.
Подобрав плащ, я уже хотел попросить соседей пропустить меня, но тут в ледяном воздухе зазвенела первая гармония — музыканта сыграли дуэтом. Только тогда я понял, что музыкантам, наверное, надо было сперва разогреться. Я решил дать им еще один шанс.
Какой-то трубамбонист завел легкомысленную и игривую мелодию, и постепенно ее подхватили остальные. Теперь оркестр зазвучал как единое целое. Я огляделся по сторонам, чтобы проверить реакцию публики, и обнаружил, что все сидят с закрытыми глазами и слегка покачиваются в такт. Возможно, здесь такое считается хорошим тоном, по крайней мере, избавляет от необходимости смотреть на горестные лягушачьи физиономии нибелунгов, поэтому я тоже закрыл глаза и сосредоточился на музыке.


Трубамбоновый концерт
Встал особо толстый нибелунг, набрал в грудь побольше воздуха и, выдув чистую ноту, задержал ее.
Долго.
Очень долго.
Почти сенсационно долго — технически, с точки зрения дыхания, почти невозможно. Не набирая еще воздуха, не давая звуку ослабнуть или задрожать, он держал его долгие минуты. Не слишком блестящий тон: ни высокий, ни низкий — средний.
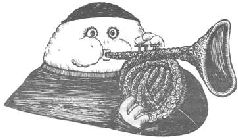 Я снова закрыл глаза и увидел черный луч, тянувшийся бесконечно и прямо как стрела через белую пустоту. И тут же понял (не спрашивайте, друзья мои, почему!), что это легендарный бухтингский пратон, первый официально принятый тон в истории замо-нийской музыки.
Я снова закрыл глаза и увидел черный луч, тянувшийся бесконечно и прямо как стрела через белую пустоту. И тут же понял (не спрашивайте, друзья мои, почему!), что это легендарный бухтингский пратон, первый официально принятый тон в истории замо-нийской музыки.
Тепло гудел он у меня в ушах, и в моем сознании сложилась история. Была ли она воспоминанием из школьных лет? Или поблекшими образами из какой-то книги? Это была старинная бухтингская легенда о пратоне, который тогдашний правитель, князь Ориан Бухтингский повелел отыскать своим музыкантам. По его распоряжению этот тон должен был лечь в основу всей замонийс-кой музыки, стать мерилом, сообразуясь с которым будут сочинять и исполнять музыку в грядущие века. Звучание у него должно быть не слишком экспрессивное, но и не слишком сдержанное, ничего радикального, никаких пограничных звуков, но такое, чтобы по нему расценивать все остальные, и чтобы он не звучал обывательски. Ориан приказал немедленно сыскать ему такую ноту.
Слетелись бухтингские музыканты и стали измерять и взвешивать все возможные тона и звуки: от оглушительного грохота кузнечных молотов по наковальне до еле слышного вопля ужаса устрицы, когда вскрывают ее домик. Но все они были или слишком громкими, или слишком тихими, слишком пронзительными или слишком глухими, слишком визгливыми или слишком низкими, слишком жидкими или лишенными объема, слишком чистыми или слишком смазанными. Музыканты отчаялись, ведь князь славился своей беспощадностью. И тем, что если подданные не исполняли его приказы достаточно быстро, заставлял их съедать флоринфские стеклянные клинки.
Уже совершенно отчаявшись, главный дирижер как-то проходил мимо одного домика, из окна которого раздалась та самая нота, которую так искали: не слишком высокая, не слишком низкая, чистая, длительная и основательная. Невинный, прямолинейный тон, из которого можно создавать целые симфонии.
Дирижер (молодой неженатый наттиффтофф хорошей наружности) вошел в дом и увидел там наттиффтоффскую девушку (также безупречного телосложения), которая играла на блок-флейте. Дирижер без памяти влюбился в девушку, а девушка — в него. Он привел возлюбленную к князю, которому она сыграла на блок-флейте свою ноту, и князь официально возвестил, что пратон, наконец, найден.
Но уже можно предположить, что это еще не конец, ведь легенда, как почти все замонийские истории, должна закончиться печально. Итак, князь тоже влюбился в девушку и приказал своему счастливому сопернику съесть тарелку стеклянных ножей, от чего тот, хрипя, скончался. Затем девушка от любовной тоски тоже проглотила несколько предметов с острыми краями и — по вполне понятным причинам — почила в ужасных муках. И, нако-нец, сам граф Ориан Бухтингский пообедал бриллиантами короны, так как не смог снести вины, и умер тяжкой смертью от множества обильных внутренних кровотечений. Но пратон с тех пор составляет основу всей замонийской музыки.
Эта крайне драматичная история промелькнула перед моим внутренним взором так выразительно, будто театральный спектакль, воплощенный в одной длящейся ноте трубамбона, которая теперь понемногу стихала.
Я открыл глаза. Толстый трубамбонист отнял ото рта свой инструмент и сел. Я откинулся на спинку стула. Невероятно! Музыка, способная без пения и слов передавать повествование! Это много лучше чтения вслух. И лучше любой традиционной музыки. Да это же новый вид искусства! Литературная музыка!
Слушатели возбужденно переговаривались. Я увидел, как ужаска вытирает Кибитцеру пот со лба.
— Грандиозно! — с трудом переводя дух, проговорил гном рядом со мной. — Я слышал эту вещь уже с десяток раз, но все равно так переживаю, так переживаю! Да что там… Дальше станет только лучше.
— У меня самого было такое ощущение, будто я стекла наелся! — сказал голос у меня за спиной.
Как в такое поверить?! У всех присутствующих здесь было одно й то же видение. По всей видимости, слушатели были тесным кружком, который раз за разом приходит на такие концерты. И при этом видит те же картины, переживает те же истории. Я счел бы такую форму передачи содержания невозможной, если бы сам при том не присутствовал. Вот теперь я точно не жалел, что послушался Фистомефеля Смайка. Завтра обязательно надо будет поблагодарить червякула.
Музыканты снова встали, их инструменты звучали теперь переливисто, чуть заунывно, будто шарманка, и я с готовностью закрыл глаза. Передо мной возникли каменные крепости на фоне грозовых туч. Флаги развеваются над горами тел поверженных воинов в бурых от запекшейся крови доспехах. Сварливые вороны опускаются на виселицы, где покачиваются повешенные. Дымящиеся костры с прикованными к столбам обгорелыми скелетами. Очевидно, я перенесся в замонийское средневековье. Для меня оставалось загадкой, как музыканты извлекают из трубамбонов звуки примитивных духовых и струнных инструментов того времени: крякающих дудок и монотонных шарманок, способный разжалобить камень вой волынок и переливы расстроенных скрипочек. Теперь передо мной простерлась любимая всеми долина, край бесконечных зеленых виноградников под сияющими солнечными небесами. А посреди виноградников высилась полая, полная черной воды гора, похожая на вскрытый череп великана.
Да, это Винная долина, самая большая область виноградарства в Замонии, раскинувшаяся вокруг Гаргулльянского Черепа. И снова, сам не понимая откуда и почему, я догадался: это история Гиццарда фон Ульфо и его легендарного кометного вина. До сих пор я сталкивался с ней лишь в поэтическом варианте, в стихотворении «Снежное вино кометы» Сандрока Алексба. Но сейчас меня захлестнули события той ужасной средневековой драмы. Каждые несколько тысяч лет через нашу Солнечную систему проходит комета Линденхупа и оказывается к нам так близко, что целое лето превращается в единый непрерывный день.
Гиццард фон Ульфо, самый могущественный виноградарь за-монийского средневековья, владелец многочисленных виноградников и алхимик-любитель, был убежден, что посаженные весной того невероятного лета лозы дадут такое вино, которое по вкусу превзойдет все, что когда-либо наливали из бутылки. Иными словами, он хотел создать кометное вино.
Комета приближалась, дни становились все длиннее, и жар солнца и свет небесного тела придали лозе Гиццарда фон Ульфо такие свойства, каких даже не ждали. Лозы росли гораздо быстрее, виноградины напоминали дыни, их приходилось обеими руками рвать по одной и, покряхтывая, тащить к прессу. Их сок был густым и тяжелым, насыщающим и вкусным, а полученное из него вино стало лучшим во всей Замонии. И у Гиццарда фон Ульфо было его тысячи бочек. Однажды фон Ульфо велел созвать в усадьбу всех виноградарей, бочаров и давильщиков, садовников и сборщиков урожая, а после запереть ворота. С топором в руках он выступил перед своими людьми и без единого слова начал рубить в бочках дыры. Все решили, что он лишилсярассудка, и попытались его удержать, но Гиццард фон Ульфо не дал себя остановить и не успокоился, пока не разбил последнюю бочку, пока последние капли не ушли в землю, и вся усадьба не напиталась вином кометы.
Тогда Гиццард фон Ульфо поднял повыше одну бутылку и, ликуя, возвестил:
— Вот, люди, это последняя и единственная бутылка кометно-го вина. Самого вкусного, самого лучшего, самого редкого и дорогого вина Замонии. Мне не нужно больше складировать и хранить бутылки и бочки, мне не нужно больше платить налоги и зарплаты, меня не будет терроризировать Алкогольное Ведомство Замонии. Мне достаточно лишь одной этой бутылки, которая теперь стала бесценной, и день ото дня будет все дороже. Я ухожу на покой.
— А как же мы? — спросил один из работников. — Что будет с нами?
Гиццард фон Ульфо поглядел на него с жалостью.
— С вами? — переспросил он. — А что должно быть с вами? С сего момента вы уволены.
Только в это мгновение, когда с бутылкой самого дорогого на свете вина в руках он стоял в окружении сотен уволенных рабочих, Гиццард запоздало сообразил, что об увольнении лучше было бы сообщить письменно. Глаза работников горели жаждой крови — а еще алчностью, желанием заполучить ту бесценную бутылку. Круг стал понемногу сжиматься.
«Будь что будет, — подумал Гиццард фон Ульфо, который пусть и был никудышным работодателем, но ни в коем случае не трусом. — Если уж умирать, то хотя бы пьяным! Никто, кроме меня, не будет обладать кометным вином!»
Отбив горлышко бутылки, он выпил ее залпом, а после на него навалились работники. Но он недооценил алчность, которую разбередила его речь. Работники отнесли Гиццарда фон Ульфо к самому большому прессу в усадьбе, бросили его туда — и выдавили все соки. Они выжимали его, пока не вышла последняя капля кометного вина, смешанная с кровью фон Ульфо, а после слили ужасный напиток в двойную бутыль. Теперь это и вправду было самое редкое и дорогое вино Замонии. Но поистине страшная история кометного вина только начиналась, поскольку своим меняющимся владельцам оно приносило лишь несчастья и беды.
Работников казнили за убийство Гиццарда фон Ульфо, следующего владельца бутыли расплющил метеорит, а третий был съеден во сне муравьями. Куда бы ни попадала бутыль, всюду вскоре воцарялись ненависть и смертоубийство, безумие и война. Напитку приписывали всевозможные свойства и качества. Кое-кто даже считал, что оно способно пробуждать к жизни мертвецов, и особенно его ценили алхимики. Кометное вино переходило из рук в руки, оставляя за собой кровавый след по Замонии, пока однажды он не оборвался, и бутыль с вином Гиццарда фон Ульфо не исчезла, будто ее поглотила земля.
Эпилогом подрагивало долгое тремоло, воплотившее весь ужас этой трагедии. За ним — полная тишина.
Я очнулся. Повсюду вокруг — возбужденное перешептывание. Трубамбонисты с довольными минами чистили мундштуки.
— Это нечто новенькое, — удивился гном рядом со мной. — На прошлой неделе истории про кометное вино не было.
Ага, значит, здесь не каждый раз играют одно и то же. Я почувствовал себя польщенным, что попал на премьеру, а также что становлюсь ближе к кружку почитателей нибелунгской музыки. Теперь меня не утащили бы отсюда и десять мидгардских змеев. Я хотел еще. Еще трубамбоновой музыки.
Слушатели успокоились, и музыканты снова подняли инстру-. менты.
— Надо полагать, теперь будет жуть-музыка, — с явным предвкушением сказал гном. — Недурное продолжение кровавой истории кометного вина.
— Жуть-музыка? — переспросил я.
— Пусть для вас будет сюрприз, — загадочно ответил гном. — Вот сейчас мурашки по коже побегут, ха-ха! Но скажите, разве вы не принесли с собой плед? Вы же до смерти замерзнете!
Но теперь мне это было безразлично. Ради трубамбоновой музыки я готов был на любые жертвы.
Часть трубачей выпустила в ночное небо сверкающие переливчатые ноты, остальные раскатисто басили. Я снова закрыл гла-за, но на сей раз не увидел никакой захватывающей панорамы. Зато мне в голову полились фундаментальные сведения о жуть-музыке дервишей на закате замонийского средневековья — до сих пор я и понятия не имел о ее существовании.
А знание появилось доподлинное и внезапное: в основе музыки дервишей лежит шестиступенчатая гамма, тона в которой измеряли по интервалу под названием «шрути»: два «шрути» давали полутон, четыре «шрути» полный тон, а двадцать четыре — октаву. Чтобы интервал назвали по имени музыканта — небывалый случай в истории замонийской музыки. Хулиаеебденер Шрути, легендарный дервиш-композитор позднего средневековья, создал систему музыкальных шорохов и шумов, которые можно было привносить в любую композицию. Эта система основывается на вызывающих ужас звуках: собачий вой в ночи, скрип дверных петель, уханье филина, шепот голосов в пустоте, пол-тергейсты под лестницей в подвале, гаденькое хихиканье под крышей, плач женщины на болоте, вопли из бедлама, скребущие по грифельной доске ногти — да что угодно, лишь бы у слушателя волосы вставали дыбом и лишь бы звук можно было сымитировать на музыкальном инструменте. Свою жуть-музыку Шрути подмешивал в популярные песенки того времени, что принесло ему невероятный успех. Тогда на концерты ходили почти исключительно ради того, чтобы испугаться до полусмерти. Овации приняли форму воплей ужаса, потеря чувств приравнивалась к крикам «бис», и если публика плача ломилась к выходу, то концерт считался удачным. Вошли в моду прически «волосы дыбом» и обкусанные ногти, и, случайно встретив на улице знакомых, их приветствовали аффектированным «Бу-ууу!» и поднятыми руками. В ту эпоху возник целый ряд новых музыкальных инструментов: виселичная арфа, жутьлынка, варгановая дрожалка, двуво-пилка, смертепила, двенадцатирычажковая подвальная трещотка и рогудавка. Не зря эпоха Хулиасебденера Шрути была названа «Зловещей эпохой».
Музыка снова смолкла, и я открыл глаза. Гном рядом со мной усмехнулся.
— Теперь вы знаете, что такое жуть-музыка. Но это еще что! Приготовьтесь к худшему. Откинувшись на спинку стула, он закрыл глаза и удовлетворенно вздохнул.
Теперь четверо музыкантов завели своими трубамбонами визг и скулеж, от чего мне на ум невольно пришли легавые, которых топят в замковом рве. Еще два трубача выдули блеющий смех,, которым злобные горные демоны вызывают лавины. Самый толстый трубамбонист в середине оркестра извлек из своего инструмента безнадежный тон, прозвучавший как последний вздох существа, которое душат гарротой. Мне показалось, я услышал также причитания заживо погребенных и стоны сжигаемых ужасок.
Не без страха я закрыл глаза: какие жуткие картины нарисует мне такая музыка? Какую зловещую историю расскажет?
Но поначалу я видел только книги. Насколько хватало глаз, вдаль уходил бесконечный коридор, по обеим сторонам которого тянулись шкафы с древними томами… Это букинистический магазин? Но что такогострашного может случиться в букинистическом магазине? Я присмотрелся к корешкам книг. Силы небесные! Это не просто старые книги, это антикварные книги, настолько древние, что я не смог разобрать шрифт в названиях. Несколько, странных ламп под потолком лили призрачный, пульсирующий свет, внутри их что-то шевелилось. Неужели те самые медузосве-ты, которые описывал Дождесвет?
И тут я наконец понял: это катакомбы Книгорода! Ну, разумеется, лабиринт под городом, и я в самой его середине! Невероятно: путешествие под землю, в таинственный опасный мир, но сам я ничем не рискую! Я должен только слушать музыку и внимать картинам.
Я открыл глаза и тут же закрыл их снова, несколько раз повторил эти действия — и в самом деле без каких-либо усилий переносился из городского парка в катакомбы и назад. Глаза открыты — парк. Глаза закрыты — катакомбы.
Парк.
Катакомбы.
Парк.
Катакомбы.
Парк.
Катакомбы. В конце концов я так и остался с закрытыми глазами. Сидя на неудобном садовом стуле в книгородском парке, я одновременно медленно крался по скудно освещенному туннелю, полному книг и находящемуся глубоко под землей. Удивительно, на что способна трубамбоновая музыка. И все выглядит таким настоящим! Сильно пахло старой бумагой… Невероятно, но эту историю можно даже обонять! Не все медузосветы в потолке горели, а заключенные в них существа распространяли лишь неверный свет, у кое-каких ламп стекло треснуло, и звери сбежали. Я даже видел несколько светящихся тварей, которые в бегстве прилепились к потолку, и еще несколько валялись засохшие на полу.
Что за жуткое место! Повсюду шуршало и потрескивало, — вероятно, книжные черви прожирают себе дорогу через страницы. Я слышал попискивание крыс и шебуршание жуков. И за этими шумами я слышал еще кое-что… Как будто бы слабое придыхание. Внезапно меня осенило: трубамбоновая музыка смолкла. Мне захотелось снова отрыть глаза, успокоиться, увидев перед собой мирный парк, но… не удалось. Веки были словно зашиты. Но удручающие катакомбы я видел ясно. Странное, скажу я вам, ощущение: видеть с закрытыми глазами. Но теперь это была не приятная, не уютная жуть, нет, мной овладел неподдельный ужас.
Я попытался успокоиться, уговаривая себя, что это всего лишь очередная вариация на музыкальную тему, лишь произведение концертной программы. Только на сей раз я сам оказался внутри истории. Возможно, я даже главный герой. Но что это за история? Кем я оказался?
Я крался по проходу, нервно озирался. Потом меня захлестнуло вдруг своеобразное ощущение: я на нюх могу различать, что за книги стоят здесь на полках. Мне незачем терять время на их осмотр, я уловил лимонный запах исчезнувшего собрания книж-нокнязя Агу Гааца Начитанного, чья библиотека не имела в данный момент для меня значения, потому что… И теперь я понял, в чьей истории и в чьей шкуре очутился: я был Канифолием Дож-десветом, охотником за книгами.
Невероятно! Нет, напротив, слишком уж достоверно, удручающе достоверно. Я больше не мог отличить фантазии от реальности. Я превратился в иное существо, думал, как он, испытывал егострах. Теперь я также знал, почему эти ценные книги кругом решительно меня не интересуют: я, Дождесвет, спасаюсь бегством. Я, Дождесвет, в этом лабиринте не один. Я, Дождесвет, уже больше не охотник, а добыча. На меня охотится Тень-Король.
Я слышал, как он шуршит и шелестит страницами, а иногда у меня возникало ощущение, будто я чувствую его жаркое дыхание у себя на шее, краем глаза вижу тянущиеся ко мне острые когти. В панике я снова попытался открыть глаза, но не сумел. Я был заперт в теле охотника за книгами, попавшего в ловушку книгород-ских катакомб.
Возможно ли умереть в придуманной истории? Способна ли фантазия убить? Так оборвалась жизнь Дождесвета? Да и вообще, история ли это? Или действительность? Я уже не мог разобрать. Я знал только, что всеми фибрами души чувствовал усталость Дождесвета, его ноющие мышцы, горящие легкие, дико бьющееся сердце. Внезапно туннель закончился, и я оказался перед стеной из бумаги. Путь преградили громоздящиеся до потолка, в беспорядке набросанные рукописи. Тупик.
Долго.
Очень долго.
Почти сенсационно долго — технически, с точки зрения дыхания, почти невозможно. Не набирая еще воздуха, не давая звуку ослабнуть или задрожать, он держал его долгие минуты. Не слишком блестящий тон: ни высокий, ни низкий — средний.
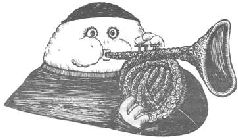
Тепло гудел он у меня в ушах, и в моем сознании сложилась история. Была ли она воспоминанием из школьных лет? Или поблекшими образами из какой-то книги? Это была старинная бухтингская легенда о пратоне, который тогдашний правитель, князь Ориан Бухтингский повелел отыскать своим музыкантам. По его распоряжению этот тон должен был лечь в основу всей замонийс-кой музыки, стать мерилом, сообразуясь с которым будут сочинять и исполнять музыку в грядущие века. Звучание у него должно быть не слишком экспрессивное, но и не слишком сдержанное, ничего радикального, никаких пограничных звуков, но такое, чтобы по нему расценивать все остальные, и чтобы он не звучал обывательски. Ориан приказал немедленно сыскать ему такую ноту.
Слетелись бухтингские музыканты и стали измерять и взвешивать все возможные тона и звуки: от оглушительного грохота кузнечных молотов по наковальне до еле слышного вопля ужаса устрицы, когда вскрывают ее домик. Но все они были или слишком громкими, или слишком тихими, слишком пронзительными или слишком глухими, слишком визгливыми или слишком низкими, слишком жидкими или лишенными объема, слишком чистыми или слишком смазанными. Музыканты отчаялись, ведь князь славился своей беспощадностью. И тем, что если подданные не исполняли его приказы достаточно быстро, заставлял их съедать флоринфские стеклянные клинки.
Уже совершенно отчаявшись, главный дирижер как-то проходил мимо одного домика, из окна которого раздалась та самая нота, которую так искали: не слишком высокая, не слишком низкая, чистая, длительная и основательная. Невинный, прямолинейный тон, из которого можно создавать целые симфонии.
Дирижер (молодой неженатый наттиффтофф хорошей наружности) вошел в дом и увидел там наттиффтоффскую девушку (также безупречного телосложения), которая играла на блок-флейте. Дирижер без памяти влюбился в девушку, а девушка — в него. Он привел возлюбленную к князю, которому она сыграла на блок-флейте свою ноту, и князь официально возвестил, что пратон, наконец, найден.
Но уже можно предположить, что это еще не конец, ведь легенда, как почти все замонийские истории, должна закончиться печально. Итак, князь тоже влюбился в девушку и приказал своему счастливому сопернику съесть тарелку стеклянных ножей, от чего тот, хрипя, скончался. Затем девушка от любовной тоски тоже проглотила несколько предметов с острыми краями и — по вполне понятным причинам — почила в ужасных муках. И, нако-нец, сам граф Ориан Бухтингский пообедал бриллиантами короны, так как не смог снести вины, и умер тяжкой смертью от множества обильных внутренних кровотечений. Но пратон с тех пор составляет основу всей замонийской музыки.
Эта крайне драматичная история промелькнула перед моим внутренним взором так выразительно, будто театральный спектакль, воплощенный в одной длящейся ноте трубамбона, которая теперь понемногу стихала.
Я открыл глаза. Толстый трубамбонист отнял ото рта свой инструмент и сел. Я откинулся на спинку стула. Невероятно! Музыка, способная без пения и слов передавать повествование! Это много лучше чтения вслух. И лучше любой традиционной музыки. Да это же новый вид искусства! Литературная музыка!
Слушатели возбужденно переговаривались. Я увидел, как ужаска вытирает Кибитцеру пот со лба.
— Грандиозно! — с трудом переводя дух, проговорил гном рядом со мной. — Я слышал эту вещь уже с десяток раз, но все равно так переживаю, так переживаю! Да что там… Дальше станет только лучше.
— У меня самого было такое ощущение, будто я стекла наелся! — сказал голос у меня за спиной.
Как в такое поверить?! У всех присутствующих здесь было одно й то же видение. По всей видимости, слушатели были тесным кружком, который раз за разом приходит на такие концерты. И при этом видит те же картины, переживает те же истории. Я счел бы такую форму передачи содержания невозможной, если бы сам при том не присутствовал. Вот теперь я точно не жалел, что послушался Фистомефеля Смайка. Завтра обязательно надо будет поблагодарить червякула.
Музыканты снова встали, их инструменты звучали теперь переливисто, чуть заунывно, будто шарманка, и я с готовностью закрыл глаза. Передо мной возникли каменные крепости на фоне грозовых туч. Флаги развеваются над горами тел поверженных воинов в бурых от запекшейся крови доспехах. Сварливые вороны опускаются на виселицы, где покачиваются повешенные. Дымящиеся костры с прикованными к столбам обгорелыми скелетами. Очевидно, я перенесся в замонийское средневековье. Для меня оставалось загадкой, как музыканты извлекают из трубамбонов звуки примитивных духовых и струнных инструментов того времени: крякающих дудок и монотонных шарманок, способный разжалобить камень вой волынок и переливы расстроенных скрипочек. Теперь передо мной простерлась любимая всеми долина, край бесконечных зеленых виноградников под сияющими солнечными небесами. А посреди виноградников высилась полая, полная черной воды гора, похожая на вскрытый череп великана.
Да, это Винная долина, самая большая область виноградарства в Замонии, раскинувшаяся вокруг Гаргулльянского Черепа. И снова, сам не понимая откуда и почему, я догадался: это история Гиццарда фон Ульфо и его легендарного кометного вина. До сих пор я сталкивался с ней лишь в поэтическом варианте, в стихотворении «Снежное вино кометы» Сандрока Алексба. Но сейчас меня захлестнули события той ужасной средневековой драмы. Каждые несколько тысяч лет через нашу Солнечную систему проходит комета Линденхупа и оказывается к нам так близко, что целое лето превращается в единый непрерывный день.
Гиццард фон Ульфо, самый могущественный виноградарь за-монийского средневековья, владелец многочисленных виноградников и алхимик-любитель, был убежден, что посаженные весной того невероятного лета лозы дадут такое вино, которое по вкусу превзойдет все, что когда-либо наливали из бутылки. Иными словами, он хотел создать кометное вино.
Комета приближалась, дни становились все длиннее, и жар солнца и свет небесного тела придали лозе Гиццарда фон Ульфо такие свойства, каких даже не ждали. Лозы росли гораздо быстрее, виноградины напоминали дыни, их приходилось обеими руками рвать по одной и, покряхтывая, тащить к прессу. Их сок был густым и тяжелым, насыщающим и вкусным, а полученное из него вино стало лучшим во всей Замонии. И у Гиццарда фон Ульфо было его тысячи бочек. Однажды фон Ульфо велел созвать в усадьбу всех виноградарей, бочаров и давильщиков, садовников и сборщиков урожая, а после запереть ворота. С топором в руках он выступил перед своими людьми и без единого слова начал рубить в бочках дыры. Все решили, что он лишилсярассудка, и попытались его удержать, но Гиццард фон Ульфо не дал себя остановить и не успокоился, пока не разбил последнюю бочку, пока последние капли не ушли в землю, и вся усадьба не напиталась вином кометы.
Тогда Гиццард фон Ульфо поднял повыше одну бутылку и, ликуя, возвестил:
— Вот, люди, это последняя и единственная бутылка кометно-го вина. Самого вкусного, самого лучшего, самого редкого и дорогого вина Замонии. Мне не нужно больше складировать и хранить бутылки и бочки, мне не нужно больше платить налоги и зарплаты, меня не будет терроризировать Алкогольное Ведомство Замонии. Мне достаточно лишь одной этой бутылки, которая теперь стала бесценной, и день ото дня будет все дороже. Я ухожу на покой.
— А как же мы? — спросил один из работников. — Что будет с нами?
Гиццард фон Ульфо поглядел на него с жалостью.
— С вами? — переспросил он. — А что должно быть с вами? С сего момента вы уволены.
Только в это мгновение, когда с бутылкой самого дорогого на свете вина в руках он стоял в окружении сотен уволенных рабочих, Гиццард запоздало сообразил, что об увольнении лучше было бы сообщить письменно. Глаза работников горели жаждой крови — а еще алчностью, желанием заполучить ту бесценную бутылку. Круг стал понемногу сжиматься.
«Будь что будет, — подумал Гиццард фон Ульфо, который пусть и был никудышным работодателем, но ни в коем случае не трусом. — Если уж умирать, то хотя бы пьяным! Никто, кроме меня, не будет обладать кометным вином!»
Отбив горлышко бутылки, он выпил ее залпом, а после на него навалились работники. Но он недооценил алчность, которую разбередила его речь. Работники отнесли Гиццарда фон Ульфо к самому большому прессу в усадьбе, бросили его туда — и выдавили все соки. Они выжимали его, пока не вышла последняя капля кометного вина, смешанная с кровью фон Ульфо, а после слили ужасный напиток в двойную бутыль. Теперь это и вправду было самое редкое и дорогое вино Замонии. Но поистине страшная история кометного вина только начиналась, поскольку своим меняющимся владельцам оно приносило лишь несчастья и беды.
Работников казнили за убийство Гиццарда фон Ульфо, следующего владельца бутыли расплющил метеорит, а третий был съеден во сне муравьями. Куда бы ни попадала бутыль, всюду вскоре воцарялись ненависть и смертоубийство, безумие и война. Напитку приписывали всевозможные свойства и качества. Кое-кто даже считал, что оно способно пробуждать к жизни мертвецов, и особенно его ценили алхимики. Кометное вино переходило из рук в руки, оставляя за собой кровавый след по Замонии, пока однажды он не оборвался, и бутыль с вином Гиццарда фон Ульфо не исчезла, будто ее поглотила земля.
Эпилогом подрагивало долгое тремоло, воплотившее весь ужас этой трагедии. За ним — полная тишина.
Я очнулся. Повсюду вокруг — возбужденное перешептывание. Трубамбонисты с довольными минами чистили мундштуки.
— Это нечто новенькое, — удивился гном рядом со мной. — На прошлой неделе истории про кометное вино не было.
Ага, значит, здесь не каждый раз играют одно и то же. Я почувствовал себя польщенным, что попал на премьеру, а также что становлюсь ближе к кружку почитателей нибелунгской музыки. Теперь меня не утащили бы отсюда и десять мидгардских змеев. Я хотел еще. Еще трубамбоновой музыки.
Слушатели успокоились, и музыканты снова подняли инстру-. менты.
— Надо полагать, теперь будет жуть-музыка, — с явным предвкушением сказал гном. — Недурное продолжение кровавой истории кометного вина.
— Жуть-музыка? — переспросил я.
— Пусть для вас будет сюрприз, — загадочно ответил гном. — Вот сейчас мурашки по коже побегут, ха-ха! Но скажите, разве вы не принесли с собой плед? Вы же до смерти замерзнете!
Но теперь мне это было безразлично. Ради трубамбоновой музыки я готов был на любые жертвы.
Часть трубачей выпустила в ночное небо сверкающие переливчатые ноты, остальные раскатисто басили. Я снова закрыл гла-за, но на сей раз не увидел никакой захватывающей панорамы. Зато мне в голову полились фундаментальные сведения о жуть-музыке дервишей на закате замонийского средневековья — до сих пор я и понятия не имел о ее существовании.
А знание появилось доподлинное и внезапное: в основе музыки дервишей лежит шестиступенчатая гамма, тона в которой измеряли по интервалу под названием «шрути»: два «шрути» давали полутон, четыре «шрути» полный тон, а двадцать четыре — октаву. Чтобы интервал назвали по имени музыканта — небывалый случай в истории замонийской музыки. Хулиаеебденер Шрути, легендарный дервиш-композитор позднего средневековья, создал систему музыкальных шорохов и шумов, которые можно было привносить в любую композицию. Эта система основывается на вызывающих ужас звуках: собачий вой в ночи, скрип дверных петель, уханье филина, шепот голосов в пустоте, пол-тергейсты под лестницей в подвале, гаденькое хихиканье под крышей, плач женщины на болоте, вопли из бедлама, скребущие по грифельной доске ногти — да что угодно, лишь бы у слушателя волосы вставали дыбом и лишь бы звук можно было сымитировать на музыкальном инструменте. Свою жуть-музыку Шрути подмешивал в популярные песенки того времени, что принесло ему невероятный успех. Тогда на концерты ходили почти исключительно ради того, чтобы испугаться до полусмерти. Овации приняли форму воплей ужаса, потеря чувств приравнивалась к крикам «бис», и если публика плача ломилась к выходу, то концерт считался удачным. Вошли в моду прически «волосы дыбом» и обкусанные ногти, и, случайно встретив на улице знакомых, их приветствовали аффектированным «Бу-ууу!» и поднятыми руками. В ту эпоху возник целый ряд новых музыкальных инструментов: виселичная арфа, жутьлынка, варгановая дрожалка, двуво-пилка, смертепила, двенадцатирычажковая подвальная трещотка и рогудавка. Не зря эпоха Хулиасебденера Шрути была названа «Зловещей эпохой».
Музыка снова смолкла, и я открыл глаза. Гном рядом со мной усмехнулся.
— Теперь вы знаете, что такое жуть-музыка. Но это еще что! Приготовьтесь к худшему. Откинувшись на спинку стула, он закрыл глаза и удовлетворенно вздохнул.
Теперь четверо музыкантов завели своими трубамбонами визг и скулеж, от чего мне на ум невольно пришли легавые, которых топят в замковом рве. Еще два трубача выдули блеющий смех,, которым злобные горные демоны вызывают лавины. Самый толстый трубамбонист в середине оркестра извлек из своего инструмента безнадежный тон, прозвучавший как последний вздох существа, которое душат гарротой. Мне показалось, я услышал также причитания заживо погребенных и стоны сжигаемых ужасок.
Не без страха я закрыл глаза: какие жуткие картины нарисует мне такая музыка? Какую зловещую историю расскажет?
Но поначалу я видел только книги. Насколько хватало глаз, вдаль уходил бесконечный коридор, по обеим сторонам которого тянулись шкафы с древними томами… Это букинистический магазин? Но что такогострашного может случиться в букинистическом магазине? Я присмотрелся к корешкам книг. Силы небесные! Это не просто старые книги, это антикварные книги, настолько древние, что я не смог разобрать шрифт в названиях. Несколько, странных ламп под потолком лили призрачный, пульсирующий свет, внутри их что-то шевелилось. Неужели те самые медузосве-ты, которые описывал Дождесвет?
И тут я наконец понял: это катакомбы Книгорода! Ну, разумеется, лабиринт под городом, и я в самой его середине! Невероятно: путешествие под землю, в таинственный опасный мир, но сам я ничем не рискую! Я должен только слушать музыку и внимать картинам.
Я открыл глаза и тут же закрыл их снова, несколько раз повторил эти действия — и в самом деле без каких-либо усилий переносился из городского парка в катакомбы и назад. Глаза открыты — парк. Глаза закрыты — катакомбы.
Парк.
Катакомбы.
Парк.
Катакомбы.
Парк.
Катакомбы. В конце концов я так и остался с закрытыми глазами. Сидя на неудобном садовом стуле в книгородском парке, я одновременно медленно крался по скудно освещенному туннелю, полному книг и находящемуся глубоко под землей. Удивительно, на что способна трубамбоновая музыка. И все выглядит таким настоящим! Сильно пахло старой бумагой… Невероятно, но эту историю можно даже обонять! Не все медузосветы в потолке горели, а заключенные в них существа распространяли лишь неверный свет, у кое-каких ламп стекло треснуло, и звери сбежали. Я даже видел несколько светящихся тварей, которые в бегстве прилепились к потолку, и еще несколько валялись засохшие на полу.
Что за жуткое место! Повсюду шуршало и потрескивало, — вероятно, книжные черви прожирают себе дорогу через страницы. Я слышал попискивание крыс и шебуршание жуков. И за этими шумами я слышал еще кое-что… Как будто бы слабое придыхание. Внезапно меня осенило: трубамбоновая музыка смолкла. Мне захотелось снова отрыть глаза, успокоиться, увидев перед собой мирный парк, но… не удалось. Веки были словно зашиты. Но удручающие катакомбы я видел ясно. Странное, скажу я вам, ощущение: видеть с закрытыми глазами. Но теперь это была не приятная, не уютная жуть, нет, мной овладел неподдельный ужас.
Я попытался успокоиться, уговаривая себя, что это всего лишь очередная вариация на музыкальную тему, лишь произведение концертной программы. Только на сей раз я сам оказался внутри истории. Возможно, я даже главный герой. Но что это за история? Кем я оказался?
Я крался по проходу, нервно озирался. Потом меня захлестнуло вдруг своеобразное ощущение: я на нюх могу различать, что за книги стоят здесь на полках. Мне незачем терять время на их осмотр, я уловил лимонный запах исчезнувшего собрания книж-нокнязя Агу Гааца Начитанного, чья библиотека не имела в данный момент для меня значения, потому что… И теперь я понял, в чьей истории и в чьей шкуре очутился: я был Канифолием Дож-десветом, охотником за книгами.
Невероятно! Нет, напротив, слишком уж достоверно, удручающе достоверно. Я больше не мог отличить фантазии от реальности. Я превратился в иное существо, думал, как он, испытывал егострах. Теперь я также знал, почему эти ценные книги кругом решительно меня не интересуют: я, Дождесвет, спасаюсь бегством. Я, Дождесвет, в этом лабиринте не один. Я, Дождесвет, уже больше не охотник, а добыча. На меня охотится Тень-Король.
Я слышал, как он шуршит и шелестит страницами, а иногда у меня возникало ощущение, будто я чувствую его жаркое дыхание у себя на шее, краем глаза вижу тянущиеся ко мне острые когти. В панике я снова попытался открыть глаза, но не сумел. Я был заперт в теле охотника за книгами, попавшего в ловушку книгород-ских катакомб.
Возможно ли умереть в придуманной истории? Способна ли фантазия убить? Так оборвалась жизнь Дождесвета? Да и вообще, история ли это? Или действительность? Я уже не мог разобрать. Я знал только, что всеми фибрами души чувствовал усталость Дождесвета, его ноющие мышцы, горящие легкие, дико бьющееся сердце. Внезапно туннель закончился, и я оказался перед стеной из бумаги. Путь преградили громоздящиеся до потолка, в беспорядке набросанные рукописи. Тупик.
