Страница:
Когда я собиралась торжественно отхлебнуть первый глоток, диктор сказал: «Пауза. Передаем наши позывные…»
Я поперхнулась. Мир и впрямь спятил.
Через несколько дней мы узнали, что мистер Райс записался добровольцем, уедет после Рождества. Когда мы пели хором о мире и благоволении, я не выдержала и подняла руку.
— Да, Луиза.
— Мистер Райс, — сказала я, стараясь говорить как можно печальней. — Мистер Райс, я хочу внести предложение.
Мой стиль вызвал смешки, но я их презрела.
— При нынешних обстоятельствах надо отменить Рождество.
Правая бровь мистера Райса взметнулась вверх.
— Объясни, пожалуйста, Луиза.
— Смеем ли, — спросила я, подмечая странные взгляды, — смеем ли мы праздновать и веселиться, когда тысячи людей страдают и гибнут?
Каролина смотрела на парту, щеки ее пылали.
Мистер Райс прочистил горло.
— Тысячи страдали и гибли, когда родился Христос.
Ему было явно не по себе. Я жалела, что начала, но отступать было поздно.
— Да, — великодушно согласилась я. — Но мир не видел таких бед, как нынешние.
В разных углах комнаты что-то щелкнуло, словно китайская шутиха. Мистер Райс был серьезен.
Лицо у меня горело. Не знаю, что меня больше мучало — мои слова или чужие смешки. Я села, сгорая от стыда. Фырканья сменились хохотом. Мистер Райс стукнул палочкой по пюпитру. Я думала, он что-то объяснит, как-то мне поможет, но он сказал:
— Итак, начнем сначала…
Разошлись мы почти затемно. Я побежала, пока никто не прицепился, но не домой, а на заболоченный луг, к самому югу острова.
Грязь превратилась в бурую корочку, траву прижал ледок. Ветер безжалостно сек голый конец острова, но мне было жарко от стыда и ярости. Я ведь права. Я знаю, что права, почему же они смеялись? Почему мистер Райс не помог мне? Он даже не попытался объяснить, что я имею в виду. Только когда я прошла всю тропку и села на огромное бревно, пригнанное к берегу, и стала смотреть на бледную зимнюю луну, отраженную в черных водах, я ощутила холод и заплакала.
Не могу забыть, что нашла меня Каролина. Сидя на бревне, спиной к селенью и лугу, я громко плакала и даже не услышала скрипа ее галош.
— Лис!
Я сердито обернулась.
— Тебе давно пора ужинать.
— Не хочу есть.
— Ой, Лис, — сказала она. — Пойдем, тут слишком холодно.
— Никуда я не пойду. Я сбегу.
— Не сегодня же. До утра парома не будет. Лучше погрейся пока, поешь.
Вот, она всегда такая. Поплакала бы, поуговаривала — а у нее все попросту. Факты. Но с фактами не поспоришь. В ялике не сбежишь ни в какое время года.
Я вздохнула, утерла лицо тыльной стороной ладони и встала.
Дорогу я могла бы найти с закрытыми глазами, но с фонариком получалось как-то приятнее.
У наших рыбаков свой счет времени. Зимой и летом ужинают — или обедают — в полпятого. Когда мы с сестрой вошли, семья уже ела. Я думала, папа меня отчитает, но, к моему облегчению, все только кивнули. Мама пошла принести нам чего-то с плиты и положила на тарелки, когда мы вымыли руки. Наверное, Каролина сказала, что было в школе. Я разрывалась между благодарностью — все ж не выругали, и злостью — все ж узнали.
Концерт был в субботу, довольно поздно. Только в воскресенье мужчины не вставали затемно, и потому в этот вечер можно было развлечься. Я идти не хотела, но еще хуже было бы сидеть и думать, что о тебе говорят.
Мальчики помогли учителю устроить рампу. Это были просто лампочки, прикрытые рефлекторами, сделанными из консервных банок, но маленький помост в конце гимнастического зала казался из-за них волшебным. Стоя на досках сцены, я едва различала знакомые лица родителей в середине второго ряда. Мне казалось, что мы, хористы, парим в другом слое мира, расположенном выше того, нижнего. Скосив глаза, я видела, что люди как-то смазаны, словно фильм, сорвавшийся с цепи. Наверное, я так и пела, глядя вбок. Мне было очень приятно, что я удалилась от мира, который, судя по всему, надо мной смеется.
Бетти Джин Бойд исполнила соло «О ночь святая!», и я чуть не фыркнула когда она заблеяла на первом «сия-а-ет». Считалось, что у нее прелестный голос. В любое другое время с ней бы тут носились, но теперь каждый слышал Каролину. Бедная Бетти Джин, какое может быть сравнение! Я удивилась, почему мистер Райс поручил ей это соло. В прошлом году его пела сестра. Но сейчас он выбрал для нее другое, очень простое. Когда она спела его для нас, я рассердилась. В конце концов, ее голос — сокровище нашей школы. Почему он дал коронный номер Бетти Джин и странную, тихую песенку — Каролине?
Мистер Райс поднялся из-за пианино и встал лицом к хору, вытянув руки, слегка согнув пальцы. Темными глазами он глянул туда и сюда, чтобы встретиться взглядом с каждым до единого. Из полутьмы послышался вежливый кашель. Пора начинать. Через несколько секунд начнется. Я не могла перевести взгляд с учителя на сестру, которая стояла справа от меня, на два ряда дальше, но в животе у меня похолодело.
Мистер Райс опустил руки, и из заднего ряда, из самой середины, вознесся голос, словно луч, прорезающий тьму:
Потом она пела одна, повторив четыре строчки очень тихо, и я поняла, что не удержусь, задрожу, когда легко, невесомо, нежно она дойдет до верхнего «соль», удержит его гораздо дольше, чем это доступно человеку, а там — вернется к предпоследним нотам и к тишине.
Аплодисменты оглушили зал, как ружейная стрельба. Я подскочила сперва от треска, потом — от злости. Я перевела взгляд с темного шумного пятна к мистеру Райсу, но он уже отвернулся и кланялся. Каролину он пригласил выйти вперед, на ступеньку ниже, и она вышла. Когда же она пошла на свое место, я с отвращением заметила, что она вся в ямочках от улыбок. Довольна собой! Именно так она выглядела, когда обыграет меня в шашки.
Когда мы вышли из зала, звезды сияли ярко, словно притягивали к небу магнитом. Я шла, откинув голову, прижавшись плоской грудью к груди неба, ослепленная сверканием ночи. «Я гуляю и гадаю…»
Наверное, я бы утонула в благоговении, если бы Каролина, которая шла впереди с мамой и папой, не обернулась и не крикнула:
— Лис, ты под ноги смотри! А то шею сломаешь.
Теперь, на узкой улочке она чуть отстала от родителей и двигалась спиной, я думаю, — чтоб за мной присматривать.
— Сама за собой следи! — фыркнула я, вконец рассерженная тем, что меня разлучили со звездами. Вдруг я ощутила, каким холодным стал ветер. Сестрица резво смеялась и шла все быстрей, лицом ко мне. Уж она-то не споткнется. Она никогда не спотыкалась. И как бы говорила при этом: «Не то что ты!» Да, я падала за двоих.
У бабушки был артрит, она не выходила зимой по вечерам, даже на молитвенное собрание. Придя домой, мы стали рассказывать ей про концерт. Говорила, главным образом, Каролина, напевая кусочки песенок, которых бабушка, по ее словам, раньше не слышала.
— А «Святую ночь» ты опять пела?
— Бабушка, я же тебе сказала, в этом году ее пела Бетти Джин!
— С чего это? Она куда хуже тебя поет.
— Мама, — сказала наша мама с кухни, где она варила какао, — у Каролины была другая песенка. У Бетти Джин очень хорошо получилось.
Каролина глянула на меня и громко посопела. Я понимала, она хочет, чтобы я возразила; она — но не я. Если ей надо унизить Бетти Джин, пусть справляется своими силами.
Сестрица начала ее передразнивать: «Свя-та-а-я ночь!» — почти совсем точно, чуть-чуть бесцветней и неровней, чем у Бетти, со всеми ее слащавыми «о!» и «я-а-а». Кончила она легким визгом и огляделась, ожидая похвал.
Я все время надеялась, что папа с мамой ее остановят, хотя бы потому, что близко соседи. А теперь, закончив, она ждала аплодисментов. Папа улыбнулся уголками рта. Каролина радостно засмеялась. Это ей и было нужно.
Ничего, думала я, сейчас вмешается мама. Но та сказала:
— Вот ваше какао, — и дала бабушке чашку.
Мы с Каролиной сели за стол, сестра еще улыбалась. Мне очень хотелось шлепнуть ее по губам, но я себя преодолела.
Ночью я лежала в постели, снедаемая пустотой. Я помолилась, чтобы отделаться от привычных снов, но их изношенные кончики все время возвращались ко мне. Давно, два года назад, я перестала читать «За окном гроза гремит», очень уж она детская, и перешла на молитву Господню с разными благословениями. Но сейчас, в темноте, ко мне вернулись слова о смерти во сне.
От мысли, что Бог со мной, я стала совсем одинокой. Как будто я с Каролиной.
Она такая бойкая, легкая, блестящая, уверенная, а я — серая, как тень. Нет, я не чудище, не урод, это бы лучше. Родители из кожи бы лезли, чтобы меня утешить. Так ведь бывает с больными или очень уж страшными детьми. Даже Крик — носатый, и что-то такое в этом есть. Его мама и бабушка вечно над ним хлопочут. Но со мной ведь «никаких хлопот»! Что они, не знают, что хлопоты — это заботы? Неужели так и не поняли, что без этих забот и хлопот я просто ничего не стою?
Я-то о них волновалась. Я боялась за папу всякий раз, когда в заливе был шторм, за маму — когда она ездила в город на пароме. Я читала в школьной библиотеке статьи о здоровье и примеряла их к родителям, к их браку. «Удачен ли ваш брак?» Наверное, нет. Судя по тестам, у папы и мамы не было ничего общего. Беспокоилась я и о сестре, хотя стоит ли, если все только этим и заняты?
Мечтала я о том времени, когда меня заметят и начнут обо мне заботиться, как я заслужила. В самых дерзких мечтаниях была сцена из снов Иосифа[4]. Как-то он увидел во сне, что родители и братья преклонились перед ним. Я пыталась представить, как кланяется Каролина. Сперва она, конечно, засмеется и откажется, но тут с неба спустится очень большая рука и поставит ее на колени. Лицо у нее омрачится. «О, Лис!» — воззовет она ко мне.
— Какой я тебе Лис! — важно сказала я, улыбнувшись во тьме. — Я — Сара Луиза.
Так отбросила я прозвище, которым она принижала меня с двух лет.
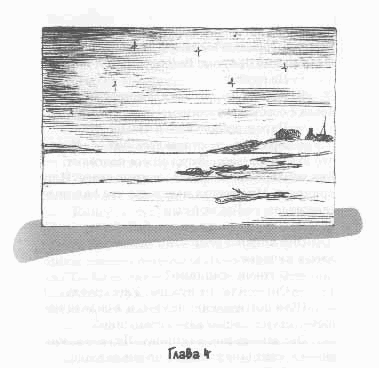
Глава 4
Глава 5
Я поперхнулась. Мир и впрямь спятил.
Через несколько дней мы узнали, что мистер Райс записался добровольцем, уедет после Рождества. Когда мы пели хором о мире и благоволении, я не выдержала и подняла руку.
— Да, Луиза.
— Мистер Райс, — сказала я, стараясь говорить как можно печальней. — Мистер Райс, я хочу внести предложение.
Мой стиль вызвал смешки, но я их презрела.
— При нынешних обстоятельствах надо отменить Рождество.
Правая бровь мистера Райса взметнулась вверх.
— Объясни, пожалуйста, Луиза.
— Смеем ли, — спросила я, подмечая странные взгляды, — смеем ли мы праздновать и веселиться, когда тысячи людей страдают и гибнут?
Каролина смотрела на парту, щеки ее пылали.
Мистер Райс прочистил горло.
— Тысячи страдали и гибли, когда родился Христос.
Ему было явно не по себе. Я жалела, что начала, но отступать было поздно.
— Да, — великодушно согласилась я. — Но мир не видел таких бед, как нынешние.
В разных углах комнаты что-то щелкнуло, словно китайская шутиха. Мистер Райс был серьезен.
Лицо у меня горело. Не знаю, что меня больше мучало — мои слова или чужие смешки. Я села, сгорая от стыда. Фырканья сменились хохотом. Мистер Райс стукнул палочкой по пюпитру. Я думала, он что-то объяснит, как-то мне поможет, но он сказал:
— Итак, начнем сначала…
Запели все, кроме меня. Я боялась, что, открыв рот, сразу заплачу, слезы стояли в горле.
Возвеселитесь, господа!
Да не коснется вас беда!
Разошлись мы почти затемно. Я побежала, пока никто не прицепился, но не домой, а на заболоченный луг, к самому югу острова.
Грязь превратилась в бурую корочку, траву прижал ледок. Ветер безжалостно сек голый конец острова, но мне было жарко от стыда и ярости. Я ведь права. Я знаю, что права, почему же они смеялись? Почему мистер Райс не помог мне? Он даже не попытался объяснить, что я имею в виду. Только когда я прошла всю тропку и села на огромное бревно, пригнанное к берегу, и стала смотреть на бледную зимнюю луну, отраженную в черных водах, я ощутила холод и заплакала.
Не могу забыть, что нашла меня Каролина. Сидя на бревне, спиной к селенью и лугу, я громко плакала и даже не услышала скрипа ее галош.
— Лис!
Я сердито обернулась.
— Тебе давно пора ужинать.
— Не хочу есть.
— Ой, Лис, — сказала она. — Пойдем, тут слишком холодно.
— Никуда я не пойду. Я сбегу.
— Не сегодня же. До утра парома не будет. Лучше погрейся пока, поешь.
Вот, она всегда такая. Поплакала бы, поуговаривала — а у нее все попросту. Факты. Но с фактами не поспоришь. В ялике не сбежишь ни в какое время года.
Я вздохнула, утерла лицо тыльной стороной ладони и встала.
Дорогу я могла бы найти с закрытыми глазами, но с фонариком получалось как-то приятнее.
У наших рыбаков свой счет времени. Зимой и летом ужинают — или обедают — в полпятого. Когда мы с сестрой вошли, семья уже ела. Я думала, папа меня отчитает, но, к моему облегчению, все только кивнули. Мама пошла принести нам чего-то с плиты и положила на тарелки, когда мы вымыли руки. Наверное, Каролина сказала, что было в школе. Я разрывалась между благодарностью — все ж не выругали, и злостью — все ж узнали.
Концерт был в субботу, довольно поздно. Только в воскресенье мужчины не вставали затемно, и потому в этот вечер можно было развлечься. Я идти не хотела, но еще хуже было бы сидеть и думать, что о тебе говорят.
Мальчики помогли учителю устроить рампу. Это были просто лампочки, прикрытые рефлекторами, сделанными из консервных банок, но маленький помост в конце гимнастического зала казался из-за них волшебным. Стоя на досках сцены, я едва различала знакомые лица родителей в середине второго ряда. Мне казалось, что мы, хористы, парим в другом слое мира, расположенном выше того, нижнего. Скосив глаза, я видела, что люди как-то смазаны, словно фильм, сорвавшийся с цепи. Наверное, я так и пела, глядя вбок. Мне было очень приятно, что я удалилась от мира, который, судя по всему, надо мной смеется.
Бетти Джин Бойд исполнила соло «О ночь святая!», и я чуть не фыркнула когда она заблеяла на первом «сия-а-ет». Считалось, что у нее прелестный голос. В любое другое время с ней бы тут носились, но теперь каждый слышал Каролину. Бедная Бетти Джин, какое может быть сравнение! Я удивилась, почему мистер Райс поручил ей это соло. В прошлом году его пела сестра. Но сейчас он выбрал для нее другое, очень простое. Когда она спела его для нас, я рассердилась. В конце концов, ее голос — сокровище нашей школы. Почему он дал коронный номер Бетти Джин и странную, тихую песенку — Каролине?
Мистер Райс поднялся из-за пианино и встал лицом к хору, вытянув руки, слегка согнув пальцы. Темными глазами он глянул туда и сюда, чтобы встретиться взглядом с каждым до единого. Из полутьмы послышался вежливый кашель. Пора начинать. Через несколько секунд начнется. Я не могла перевести взгляд с учителя на сестру, которая стояла справа от меня, на два ряда дальше, но в животе у меня похолодело.
Мистер Райс опустил руки, и из заднего ряда, из самой середины, вознесся голос, словно луч, прорезающий тьму:
Звук был одинокий, но такой чистый, такой красивый, что я обхватила себя руками, чтобы не дрожать, а может — не покачнуться. Тут запели мы все, как никогда еще не пели, выйдя из гибели, через суд, в очищение светом, которым одарила нас Каролина.
Я гуляю и гадаю, не могу никак понять,
Почему это Спаситель к нам спустился умирать,
За бездомных, обездоленных, таких, как мы с тобой,
Гонимых, нелюбимых, обиженных судьбой.
Потом она пела одна, повторив четыре строчки очень тихо, и я поняла, что не удержусь, задрожу, когда легко, невесомо, нежно она дойдет до верхнего «соль», удержит его гораздо дольше, чем это доступно человеку, а там — вернется к предпоследним нотам и к тишине.
Аплодисменты оглушили зал, как ружейная стрельба. Я подскочила сперва от треска, потом — от злости. Я перевела взгляд с темного шумного пятна к мистеру Райсу, но он уже отвернулся и кланялся. Каролину он пригласил выйти вперед, на ступеньку ниже, и она вышла. Когда же она пошла на свое место, я с отвращением заметила, что она вся в ямочках от улыбок. Довольна собой! Именно так она выглядела, когда обыграет меня в шашки.
Когда мы вышли из зала, звезды сияли ярко, словно притягивали к небу магнитом. Я шла, откинув голову, прижавшись плоской грудью к груди неба, ослепленная сверканием ночи. «Я гуляю и гадаю…»
Наверное, я бы утонула в благоговении, если бы Каролина, которая шла впереди с мамой и папой, не обернулась и не крикнула:
— Лис, ты под ноги смотри! А то шею сломаешь.
Теперь, на узкой улочке она чуть отстала от родителей и двигалась спиной, я думаю, — чтоб за мной присматривать.
— Сама за собой следи! — фыркнула я, вконец рассерженная тем, что меня разлучили со звездами. Вдруг я ощутила, каким холодным стал ветер. Сестрица резво смеялась и шла все быстрей, лицом ко мне. Уж она-то не споткнется. Она никогда не спотыкалась. И как бы говорила при этом: «Не то что ты!» Да, я падала за двоих.
У бабушки был артрит, она не выходила зимой по вечерам, даже на молитвенное собрание. Придя домой, мы стали рассказывать ей про концерт. Говорила, главным образом, Каролина, напевая кусочки песенок, которых бабушка, по ее словам, раньше не слышала.
— А «Святую ночь» ты опять пела?
— Бабушка, я же тебе сказала, в этом году ее пела Бетти Джин!
— С чего это? Она куда хуже тебя поет.
— Мама, — сказала наша мама с кухни, где она варила какао, — у Каролины была другая песенка. У Бетти Джин очень хорошо получилось.
Каролина глянула на меня и громко посопела. Я понимала, она хочет, чтобы я возразила; она — но не я. Если ей надо унизить Бетти Джин, пусть справляется своими силами.
Сестрица начала ее передразнивать: «Свя-та-а-я ночь!» — почти совсем точно, чуть-чуть бесцветней и неровней, чем у Бетти, со всеми ее слащавыми «о!» и «я-а-а». Кончила она легким визгом и огляделась, ожидая похвал.
Я все время надеялась, что папа с мамой ее остановят, хотя бы потому, что близко соседи. А теперь, закончив, она ждала аплодисментов. Папа улыбнулся уголками рта. Каролина радостно засмеялась. Это ей и было нужно.
Ничего, думала я, сейчас вмешается мама. Но та сказала:
— Вот ваше какао, — и дала бабушке чашку.
Мы с Каролиной сели за стол, сестра еще улыбалась. Мне очень хотелось шлепнуть ее по губам, но я себя преодолела.
Ночью я лежала в постели, снедаемая пустотой. Я помолилась, чтобы отделаться от привычных снов, но их изношенные кончики все время возвращались ко мне. Давно, два года назад, я перестала читать «За окном гроза гремит», очень уж она детская, и перешла на молитву Господню с разными благословениями. Но сейчас, в темноте, ко мне вернулись слова о смерти во сне.
«Если я умру»… Пустоту это не прогоняло, скорее терзало и рвало, она становилась темнее и больше. «Если умру…» Я попыталась стряхнуть эти слова псалмом: «Аще бо и пойду посреди сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мной еси…»[3]
За окном гроза гремит,
А Господь меня хранит.
Если я умру во сне,
Приходи, Господь, ко мне.
От мысли, что Бог со мной, я стала совсем одинокой. Как будто я с Каролиной.
Она такая бойкая, легкая, блестящая, уверенная, а я — серая, как тень. Нет, я не чудище, не урод, это бы лучше. Родители из кожи бы лезли, чтобы меня утешить. Так ведь бывает с больными или очень уж страшными детьми. Даже Крик — носатый, и что-то такое в этом есть. Его мама и бабушка вечно над ним хлопочут. Но со мной ведь «никаких хлопот»! Что они, не знают, что хлопоты — это заботы? Неужели так и не поняли, что без этих забот и хлопот я просто ничего не стою?
Я-то о них волновалась. Я боялась за папу всякий раз, когда в заливе был шторм, за маму — когда она ездила в город на пароме. Я читала в школьной библиотеке статьи о здоровье и примеряла их к родителям, к их браку. «Удачен ли ваш брак?» Наверное, нет. Судя по тестам, у папы и мамы не было ничего общего. Беспокоилась я и о сестре, хотя стоит ли, если все только этим и заняты?
Мечтала я о том времени, когда меня заметят и начнут обо мне заботиться, как я заслужила. В самых дерзких мечтаниях была сцена из снов Иосифа[4]. Как-то он увидел во сне, что родители и братья преклонились перед ним. Я пыталась представить, как кланяется Каролина. Сперва она, конечно, засмеется и откажется, но тут с неба спустится очень большая рука и поставит ее на колени. Лицо у нее омрачится. «О, Лис!» — воззовет она ко мне.
— Какой я тебе Лис! — важно сказала я, улыбнувшись во тьме. — Я — Сара Луиза.
Так отбросила я прозвище, которым она принижала меня с двух лет.
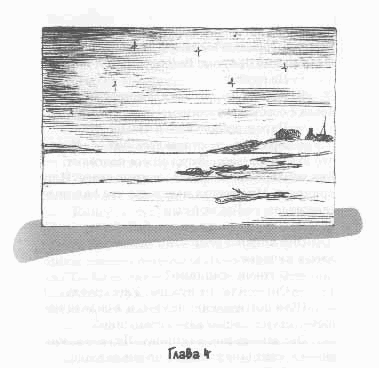
Глава 4
— Ненавижу воду.
Я даже не подняла глаз от книги. У бабушки были две коронные фразы. Одна — «Люблю Бога своего», другая — «Ненавижу воду». К восьми годам я на них не реагировала.
— Когда паром придет?
— Как всегда, бабушка.
Я хотела, чтобы мне не мешали читать, больше ничего. Книга была первый сорт — про детей, которых похитили пираты в Вест-Индии. Принадлежала она маме. Все книги были мамины, кроме Библии.
— Не груби!
Я вздохнула, положила книгу и произнесла с особым терпением:
— Паром придет часа в четыре.
— Вряд ли, — отозвалась она. — Разве что дует норд-вест. Тогда он его подгонит. — Она медленно покачалась, закрыв глаза. Или прикрыв. Мне всегда казалось, что она подглядывает. — Где мой сын?
— Папа ушел на лодке, бабушка.
Она широко открыла глаза и выпрямилась в качалке.
— С этими щипцами?
— Они сейчас не нужны. Уже апрель.
Шли весенние каникулы, и я сидела целыми днями с психоватой старушкой.
Она откинулась на спинку. Я думала, мне снова влетит («не груби!»), но она сказала:
— У Билли паром очень старый. Неровен час, потонет посреди залива, так ко дну и пойдет.
Я знала, что бабушкины страхи — пустые, но под ложечкой защемило.
— Бабушка, — сказала я и себе, и ей, — все будет хорошо. Власти за этим следят. Если паром прохудится, не дадут лицензию. Они проверяют.
Она трубно фыркнула.
— Этот ваш Рузвельт думает, что ему подвластен наш залив? За водой никакое начальство не уследит.
«Бог считает, что Он — Франклин Д. Рузвельт».
— Что ты смеешься? Я не шучу.
Я постаралась принять серьезный вид.
— Хочешь кофе, бабушка?
Если я сварю ей кофе, она им займется и, все может быть, оставит меня в покое.
Книгу я сунула под диванную подушку — на ней был парусный корабль, бабушка еще расстроится, что я читаю про воду. Женщины нашего острова обычно воды не любили. То было дикое, темное царство мужчин. Конечно, остров жил водой, возник на ней, ей питался, но женщины делали вид, что этого не замечают, как не замечает жена, что у мужа есть любовница. А вот мужчины, кроме проповедника да случайного учителя, любили ее пылко и страстно. Вода велела им вставать затемно, сосала из них все силы, а на самый худой конец требовала от них жизни.
Наверное, я знала, что мне тут делать нечего. Могла ли я жить ожиданием? Ждать, когда придет лодка; ждать в крабьем домике, когда наберется достаточно крабов; ждать, пока родится ребенок, пока он вырастет, и, наконец, пока Господь меня приберет.
Я подала бабушке кофе и постояла рядом, не надо ли ей чего. Она громко понюхала и воздух, и чашку.
— Сахару мало.
Сахарницу я держала наготове, за спиной. Бабушка явно рассердилась, что я предугадываю ее прихоти, и, судя по лицу, измышляла что-нибудь такое, чего я придумать не могла.
— М-м-м… — тоненько пропела она, кладя в чашку две ложки с верхом. «Спасибо» она не сказала, но я его и не ждала. На радостях, что я от нее отделалась, я засвистела: «Бога хвали и держи свой меч», относя сахарницу на кухню.
— Если женщина свистит, если курица кряхтит, ты добра не жди, — сказала бабушка.
— Нет, все-таки! — возразила я. — Можно в цирке выступать.
Она была шокирована, но не могла вспомнить соответствующего запрета.
— Не убий… — бормотала она, — не укради…
— Не свисти.
— Не гру-би! — взвизгнула бабушка. Я ее довела, пришлось изобразить смирение:
— Тебе ничего больше не надо, бабушка?
Она пыхтела, шипела, расплескивала кофе, но, когда я уселась с книгой на диван, тут же сказала:
— Уже четвертый час.
Я сделала вид, что не слышу.
— Ты не собираешься встречать паром?
— Да вроде не думала.
— Невредно и подумать. Твоей матери нужны крупа, мука…
— С ней Каролина, бабушка.
— Ты прекрасно знаешь, что слабое дитя не может носить тяжести.
Тут я могла бы кое-что сказать, но вышло бы грубо, и я промолчала.
— Почему ты на меня так смотришь? — спросила бабушка.
— Как это — так?
— Глаза — прямо твои пули! Застрелить собралась, а? Кажется, я только хочу, чтобы ты помогла матери.
Спорить было бесполезно. Я отнесла книгу наверх и спрятала под белье. Там бабушка вряд ли стала бы рыться. Нынешние лифчики и трусы она считала непотребными, почти «бесовскими». Прихватив кофту — ветер был холодным, — я спустилась вниз. Когда я дошла до выхода, качалка остановилась.
— Ты куда идешь?
Внутри меня все заклокотало. Стараясь не сорваться, я выговорила:
— Встречать паром, бабушка. Ты же мне сказала, надо помочь маме с покупками.
Она смотрела отрешенным, пустым взглядом, пока не сказала:
— Ну, беги, — и не начала качаться снова. — Не люблю ждать тут одна.
Небольшая толпа, кто — пешком, кто — на велосипеде, поджидала паром. Когда я подошла, таща за собой латунную тележку для продуктов, мне все кивнули.
— Что, мама приедет?
— Да, мисс Летиция. Каролину возила к доктору.
На меня сочувственно посмотрели.
— Она у них вечно хворает.
Спорить было бессмысленно, да и мне уже стало все равно.
— У нее ухо болит. Решили ее показать доктору Уолтону.
Все многозначительно закачали головой.
— Да уж, эти уши! Опасное дело. Не запустить…
— А то! Помнишь, Легги, у Бэдди Рэнкина ушко разболелось? Марта думала, так пройдет, а жар как подня-ался! Истинно, чудо Господне, что не оглох.
У Бэдди Рэнкина было теперь двое детей. Я прикинула, что вспомнят обо мне лет через двадцать-тридцать.
Из-под некрашеного навеса для крабов вылез Отис, сын капитана Билли. Он прошел по пирсу, чтобы сразу схватить концы. Мы, ожидающие, двинулись вперед, посмотреть, как подходит, пыхтя, паром. Был он невелик и, пока не приблизился настолько, чтобы мы увидели облупленную краску, казалось, что он просто дрейфует. Бабушка не ошиблась, он износился, он устал. Папина лодка тоже была не новая, он и купил ее из вторых рук, но держалась она молодцом, как человек, выросший на море. А вот паром капитана Билли, все ж — немного побольше, зачах, словно старая баба. Я застегнула кофту от ветра, и стала смотреть на Эдгара и Ричарда, других сыновей капитана, которые спрыгнули на берег и ловко, споро помогали брату привязывать паром.
Подошел отец, улыбнулся, погладил меня по руке. Одну секунду я радовалась, думая, что он меня увидел с лодки и решил поздороваться. И тут увидела, что он смотрит на нижнюю палубу, на люк пассажирской кабины. Ну, конечно! Он пришел встретить маму с Каролиной. Сестрицына голова показалась первой, в голубой шали из-за ветра. Волос высовывалось ровно столько, чтобы она была точь-в-точь как девица с рекламы сигарет.
— Эй, пап! — кричала она на ходу. — Мама, папа пришел, — бросила она через плечо, в каюту. Появилась и мама. Идти по трапу ей было труднее, чем сестре, потому что, кроме большой сумки она тащила объемистую корзину.
Каролина мелькнула на узкой палубе и легко спрыгнула на пристань. Папу она чмокнула в щеку, это всегда меня раздражало. Кроме нее, я не видела, чтоб кого-нибудь целовали на людях. Меня, во всяком случае, она целовать не собиралась — кивнула, ухмыльнулась и протянула: «Ли-ис». Папа поспешил к маме и перехватил корзину. Вроде, ничего особенного, но очень уж трогательно они улыбались и болтали, выбираясь на берег.
— Ой, Луиза! — сказала мама. — Спасибо, что привезла тележку. Там еще продукты.
Я улыбнулась, гордясь своей предусмотрительностью, хотя вообще-то послала меня к парому бабушка.
Из каюты вылезли еще две женщины с острова, а потом, к моему удивлению, — мужчина. Обычно мужчины размещались на мостике, при капитане. Правда, этот был старый и незнакомый. С виду он казался крепким, как моряк или лодочник. Волосы под морской фуражкой были седые, густые и не очень стриженные. Усы и борода — тоже белые, теплое пальто, хотя стоял апрель… Нес он ну, этот… саквояж, наверное — тяжелый, потому что, поджидая, пока сыновья капитана управятся с багажом и продуктами, он опустил его на землю.
Мама показала свои коробки, мы с папой осторожно поставили их на тележку. Пришлось приспособить наклонно, боком, иначе бы они не влезли. Я понимала, что идти придется медленно, а то, если споткнешься, вся улочка будет в муке и крупе.
Искоса я разглядывала незнакомца. Принесли и поставили рядом с ним две потертые сумки и небольшой чемодан. Теперь на него глядели все. Если не думаешь здесь остаться, столько багажа не привезешь.
— Вас кто-нибудь встретит? — участливо спросил Ричард.
Незнакомец покачал головой, глядя вниз, на багаж. Чем-то он был похож на заблудившегося ребенка.
— А жить вам есть где? — спросил Ричард.
— Да.
Незнакомец поднял воротник, словно хотел защититься от нашего промозглого ветра, и нахлобучил фуражку по самые брови.
Теперь толпа на пристани просто подалась в его сторону. У нас было мало тайн и сюрпризов, разве что погода. Ну, что ж это, чужой человек! Откуда он, где он жить будет?
Мама коснулась меня локтем.
— Пойдем, — тихо сказала она, кивая папе. — Бабушка разволнуется.
Редко я так сердилась — уйти домой, когда тут такое творится! Но мы с Каролиной послушались и, оставив позади загадочную сцену, поплелись по усыпанной ракушками улочке, между изгородями домов. Идти рядом могли только четыре человека. Ракушки мешали тянуть повозку, у меня даже в зубах отдавалось.
У нас на острове так мало земли, что хоронили мы у дома, в садике. Тем самым, идя по главной улице, мы шли между могилами предков. В детстве я не обращала внимания, а постарше стала читать с умилением и печалью надгробные надписи.
Однако сейчас мне надо было сосредоточиться на покупках. Мама тащила большую сумку. Каролина все порывалась вперед, а потом возвращалась к нам, чтобы рассказать еще что-нибудь о своей поездке. Один раз, вернувшись, она тихо сказала:
— Вон он. Человек с парома.
Я поглядела через плечо, не отпуская коробок.
— Нельзя на людей так смотреть, это невежливо, — сказала мама.
Каролина наклонилась ко мне.
— Эдгар везет на тележке все его вещи.
— Тише! — сказала мама. — Отвернитесь вы.
Каролина отворачивалась медленно.
— А кто он?
— Ти-ш-ш! Не знаю.
Несмотря на годы, шел человек быстро. Мы спешить не могли, из-за повозки, и он нас скоро обогнал. Двигался он прямо, словно знал, куда идет. Растерянность заблудившегося ребенка как рукой сняло. Последним по улице стоял дом Робертсов, но он его миновал и вступил на тропинку, пересекавшую заболоченный луг.
— Куда ж это он идет? — спросила Каролина.
Там, на самом юге, стоял только один давно заброшенный дом.
— Неужели… — начала мама, но мы уже подошли к калитке и фразы она не кончила.
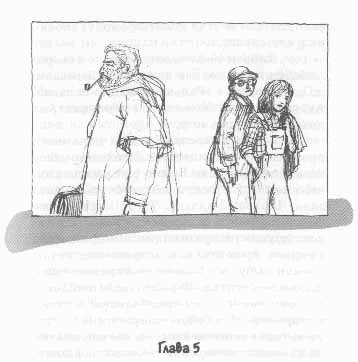
Я даже не подняла глаз от книги. У бабушки были две коронные фразы. Одна — «Люблю Бога своего», другая — «Ненавижу воду». К восьми годам я на них не реагировала.
— Когда паром придет?
— Как всегда, бабушка.
Я хотела, чтобы мне не мешали читать, больше ничего. Книга была первый сорт — про детей, которых похитили пираты в Вест-Индии. Принадлежала она маме. Все книги были мамины, кроме Библии.
— Не груби!
Я вздохнула, положила книгу и произнесла с особым терпением:
— Паром придет часа в четыре.
— Вряд ли, — отозвалась она. — Разве что дует норд-вест. Тогда он его подгонит. — Она медленно покачалась, закрыв глаза. Или прикрыв. Мне всегда казалось, что она подглядывает. — Где мой сын?
— Папа ушел на лодке, бабушка.
Она широко открыла глаза и выпрямилась в качалке.
— С этими щипцами?
— Они сейчас не нужны. Уже апрель.
Шли весенние каникулы, и я сидела целыми днями с психоватой старушкой.
Она откинулась на спинку. Я думала, мне снова влетит («не груби!»), но она сказала:
— У Билли паром очень старый. Неровен час, потонет посреди залива, так ко дну и пойдет.
Я знала, что бабушкины страхи — пустые, но под ложечкой защемило.
— Бабушка, — сказала я и себе, и ей, — все будет хорошо. Власти за этим следят. Если паром прохудится, не дадут лицензию. Они проверяют.
Она трубно фыркнула.
— Этот ваш Рузвельт думает, что ему подвластен наш залив? За водой никакое начальство не уследит.
«Бог считает, что Он — Франклин Д. Рузвельт».
— Что ты смеешься? Я не шучу.
Я постаралась принять серьезный вид.
— Хочешь кофе, бабушка?
Если я сварю ей кофе, она им займется и, все может быть, оставит меня в покое.
Книгу я сунула под диванную подушку — на ней был парусный корабль, бабушка еще расстроится, что я читаю про воду. Женщины нашего острова обычно воды не любили. То было дикое, темное царство мужчин. Конечно, остров жил водой, возник на ней, ей питался, но женщины делали вид, что этого не замечают, как не замечает жена, что у мужа есть любовница. А вот мужчины, кроме проповедника да случайного учителя, любили ее пылко и страстно. Вода велела им вставать затемно, сосала из них все силы, а на самый худой конец требовала от них жизни.
Наверное, я знала, что мне тут делать нечего. Могла ли я жить ожиданием? Ждать, когда придет лодка; ждать в крабьем домике, когда наберется достаточно крабов; ждать, пока родится ребенок, пока он вырастет, и, наконец, пока Господь меня приберет.
Я подала бабушке кофе и постояла рядом, не надо ли ей чего. Она громко понюхала и воздух, и чашку.
— Сахару мало.
Сахарницу я держала наготове, за спиной. Бабушка явно рассердилась, что я предугадываю ее прихоти, и, судя по лицу, измышляла что-нибудь такое, чего я придумать не могла.
— М-м-м… — тоненько пропела она, кладя в чашку две ложки с верхом. «Спасибо» она не сказала, но я его и не ждала. На радостях, что я от нее отделалась, я засвистела: «Бога хвали и держи свой меч», относя сахарницу на кухню.
— Если женщина свистит, если курица кряхтит, ты добра не жди, — сказала бабушка.
— Нет, все-таки! — возразила я. — Можно в цирке выступать.
Она была шокирована, но не могла вспомнить соответствующего запрета.
— Не убий… — бормотала она, — не укради…
— Не свисти.
— Не гру-би! — взвизгнула бабушка. Я ее довела, пришлось изобразить смирение:
— Тебе ничего больше не надо, бабушка?
Она пыхтела, шипела, расплескивала кофе, но, когда я уселась с книгой на диван, тут же сказала:
— Уже четвертый час.
Я сделала вид, что не слышу.
— Ты не собираешься встречать паром?
— Да вроде не думала.
— Невредно и подумать. Твоей матери нужны крупа, мука…
— С ней Каролина, бабушка.
— Ты прекрасно знаешь, что слабое дитя не может носить тяжести.
Тут я могла бы кое-что сказать, но вышло бы грубо, и я промолчала.
— Почему ты на меня так смотришь? — спросила бабушка.
— Как это — так?
— Глаза — прямо твои пули! Застрелить собралась, а? Кажется, я только хочу, чтобы ты помогла матери.
Спорить было бесполезно. Я отнесла книгу наверх и спрятала под белье. Там бабушка вряд ли стала бы рыться. Нынешние лифчики и трусы она считала непотребными, почти «бесовскими». Прихватив кофту — ветер был холодным, — я спустилась вниз. Когда я дошла до выхода, качалка остановилась.
— Ты куда идешь?
Внутри меня все заклокотало. Стараясь не сорваться, я выговорила:
— Встречать паром, бабушка. Ты же мне сказала, надо помочь маме с покупками.
Она смотрела отрешенным, пустым взглядом, пока не сказала:
— Ну, беги, — и не начала качаться снова. — Не люблю ждать тут одна.
Небольшая толпа, кто — пешком, кто — на велосипеде, поджидала паром. Когда я подошла, таща за собой латунную тележку для продуктов, мне все кивнули.
— Что, мама приедет?
— Да, мисс Летиция. Каролину возила к доктору.
На меня сочувственно посмотрели.
— Она у них вечно хворает.
Спорить было бессмысленно, да и мне уже стало все равно.
— У нее ухо болит. Решили ее показать доктору Уолтону.
Все многозначительно закачали головой.
— Да уж, эти уши! Опасное дело. Не запустить…
— А то! Помнишь, Легги, у Бэдди Рэнкина ушко разболелось? Марта думала, так пройдет, а жар как подня-ался! Истинно, чудо Господне, что не оглох.
У Бэдди Рэнкина было теперь двое детей. Я прикинула, что вспомнят обо мне лет через двадцать-тридцать.
Из-под некрашеного навеса для крабов вылез Отис, сын капитана Билли. Он прошел по пирсу, чтобы сразу схватить концы. Мы, ожидающие, двинулись вперед, посмотреть, как подходит, пыхтя, паром. Был он невелик и, пока не приблизился настолько, чтобы мы увидели облупленную краску, казалось, что он просто дрейфует. Бабушка не ошиблась, он износился, он устал. Папина лодка тоже была не новая, он и купил ее из вторых рук, но держалась она молодцом, как человек, выросший на море. А вот паром капитана Билли, все ж — немного побольше, зачах, словно старая баба. Я застегнула кофту от ветра, и стала смотреть на Эдгара и Ричарда, других сыновей капитана, которые спрыгнули на берег и ловко, споро помогали брату привязывать паром.
Подошел отец, улыбнулся, погладил меня по руке. Одну секунду я радовалась, думая, что он меня увидел с лодки и решил поздороваться. И тут увидела, что он смотрит на нижнюю палубу, на люк пассажирской кабины. Ну, конечно! Он пришел встретить маму с Каролиной. Сестрицына голова показалась первой, в голубой шали из-за ветра. Волос высовывалось ровно столько, чтобы она была точь-в-точь как девица с рекламы сигарет.
— Эй, пап! — кричала она на ходу. — Мама, папа пришел, — бросила она через плечо, в каюту. Появилась и мама. Идти по трапу ей было труднее, чем сестре, потому что, кроме большой сумки она тащила объемистую корзину.
Каролина мелькнула на узкой палубе и легко спрыгнула на пристань. Папу она чмокнула в щеку, это всегда меня раздражало. Кроме нее, я не видела, чтоб кого-нибудь целовали на людях. Меня, во всяком случае, она целовать не собиралась — кивнула, ухмыльнулась и протянула: «Ли-ис». Папа поспешил к маме и перехватил корзину. Вроде, ничего особенного, но очень уж трогательно они улыбались и болтали, выбираясь на берег.
— Ой, Луиза! — сказала мама. — Спасибо, что привезла тележку. Там еще продукты.
Я улыбнулась, гордясь своей предусмотрительностью, хотя вообще-то послала меня к парому бабушка.
Из каюты вылезли еще две женщины с острова, а потом, к моему удивлению, — мужчина. Обычно мужчины размещались на мостике, при капитане. Правда, этот был старый и незнакомый. С виду он казался крепким, как моряк или лодочник. Волосы под морской фуражкой были седые, густые и не очень стриженные. Усы и борода — тоже белые, теплое пальто, хотя стоял апрель… Нес он ну, этот… саквояж, наверное — тяжелый, потому что, поджидая, пока сыновья капитана управятся с багажом и продуктами, он опустил его на землю.
Мама показала свои коробки, мы с папой осторожно поставили их на тележку. Пришлось приспособить наклонно, боком, иначе бы они не влезли. Я понимала, что идти придется медленно, а то, если споткнешься, вся улочка будет в муке и крупе.
Искоса я разглядывала незнакомца. Принесли и поставили рядом с ним две потертые сумки и небольшой чемодан. Теперь на него глядели все. Если не думаешь здесь остаться, столько багажа не привезешь.
— Вас кто-нибудь встретит? — участливо спросил Ричард.
Незнакомец покачал головой, глядя вниз, на багаж. Чем-то он был похож на заблудившегося ребенка.
— А жить вам есть где? — спросил Ричард.
— Да.
Незнакомец поднял воротник, словно хотел защититься от нашего промозглого ветра, и нахлобучил фуражку по самые брови.
Теперь толпа на пристани просто подалась в его сторону. У нас было мало тайн и сюрпризов, разве что погода. Ну, что ж это, чужой человек! Откуда он, где он жить будет?
Мама коснулась меня локтем.
— Пойдем, — тихо сказала она, кивая папе. — Бабушка разволнуется.
Редко я так сердилась — уйти домой, когда тут такое творится! Но мы с Каролиной послушались и, оставив позади загадочную сцену, поплелись по усыпанной ракушками улочке, между изгородями домов. Идти рядом могли только четыре человека. Ракушки мешали тянуть повозку, у меня даже в зубах отдавалось.
У нас на острове так мало земли, что хоронили мы у дома, в садике. Тем самым, идя по главной улице, мы шли между могилами предков. В детстве я не обращала внимания, а постарше стала читать с умилением и печалью надгробные надписи.
Правда, чаще попадались стихи в методистском бравом духе:
Мама, ты навек ушла.
Почему же не взяла
Дочку бедную с собой
В край небесно-голубой?
Может, ты нас разлюбила?
Может, ты нас позабыла?
Я любила надпись про молодого человека, который умер лет сто с лишним назад, она почему-то приводила в действие мои романтические струны:
Бог тебя поддержит,
Только не грусти,
Жить не так уж долго
На земном пути.
Было ему девятнадцать лет, и я воображала, что если бы он не умер, мы бы поженились.
О, как смело ты покинул
Этой жизни искушенья,
Испытанья, утешенья
Для небесного притина!
Однако сейчас мне надо было сосредоточиться на покупках. Мама тащила большую сумку. Каролина все порывалась вперед, а потом возвращалась к нам, чтобы рассказать еще что-нибудь о своей поездке. Один раз, вернувшись, она тихо сказала:
— Вон он. Человек с парома.
Я поглядела через плечо, не отпуская коробок.
— Нельзя на людей так смотреть, это невежливо, — сказала мама.
Каролина наклонилась ко мне.
— Эдгар везет на тележке все его вещи.
— Тише! — сказала мама. — Отвернитесь вы.
Каролина отворачивалась медленно.
— А кто он?
— Ти-ш-ш! Не знаю.
Несмотря на годы, шел человек быстро. Мы спешить не могли, из-за повозки, и он нас скоро обогнал. Двигался он прямо, словно знал, куда идет. Растерянность заблудившегося ребенка как рукой сняло. Последним по улице стоял дом Робертсов, но он его миновал и вступил на тропинку, пересекавшую заболоченный луг.
— Куда ж это он идет? — спросила Каролина.
Там, на самом юге, стоял только один давно заброшенный дом.
— Неужели… — начала мама, но мы уже подошли к калитке и фразы она не кончила.
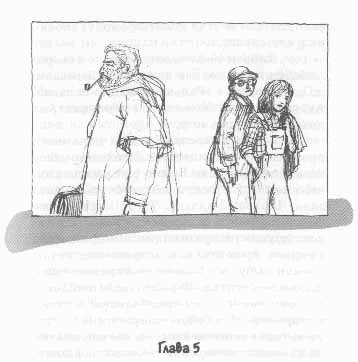
Глава 5
Незнакомец с парома не дал никаких объяснений, но постепенно, понемногу жители острова соорудили их из давних воспоминаний, обильно политых клеем сплетни. Загадочный гость направился к дому Уоллесов, где никто не жил двадцать лет, после смерти старого капитана, за шесть месяцев до которого скончалась его жена. Нашел он его без расспросов, поселился там и стал делать ремонт, словно он и есть хозяин.
— Хайрем Уоллес, вот он кто, — говорила бабушка, равно как и все, кому перевалило за полвека. — Раньше думали, он погиб. Ан нет, живой. Может, кто переживал, да поздно, их самих нету.
История Хайрема Уоллеса понемногу прояснялась, истощая до предела мое утлое терпение. Бабушка Крика рассказала ему, что в ее детстве был такой рыбак, сын капитана Чарльза Уоллеса. Тогда чуть не все лодки ходили под парусом, крабы еще такого дохода не приносили. Зимой капитан с сыном промышляли устрицами, летом ловили рыбу, все больше — морского ерша и морского окуня. Зарабатывали неплохо, по дому видно — он был большой и стоял в сторонке. Моя бабушка припомнила, что у них был настоящий выгон, где паслась одна из немногих коров, известных за всю историю острова.
Теперь там все заболотилось, но дом, хоть и запущенный, выстоял. Нам, детям, казалось, что в нем водятся привидения. Поговаривали, что призрак капитана гоняет оттуда незваных гостей. Только через много лет я догадалась, что эта легенда должна была отвадить от жилища Уоллесов ищущие уединения парочки.
Однажды я повела туда Крика, но, только мы ступили на порог, на нас кинулся из окна огромный рыжий кот. Тогда, единственный раз в жизни, Крик меня обогнал. Мы сели отдышаться у нас на крыльце. Одной стороной разума я понимала, что это — один из питомцев тетушки Брэкстон. Говорили, что у нее их шестнадцать штук, и всякий, проходивший мимо ее дома, признавал по запаху, что никак не меньше. Другая сторона не мирилась с таким простым объяснением.
— Знаешь, — сказала я, — духи часто оборачиваются зверями, когда рассердятся.
Отдышавшись, я постаралась говорить напевно и мечтательно.
Крик обернулся и посмотрел мне в лицо.
— Ты уж скажешь!
— Я в книжке читала, — вдохновенно начала я (надо ли говорить, что таких книжек я не видела). — Там один путешественник исследует места с привидениями. Сперва он в них не верил, но он честный, и признал, что иначе не объяснишь.
— Чего не объяснишь-то?
— Э… — протянула я, пытаясь поскорее придумать. — Ну, что некоторые звери — это покойники.
Крик был явно потрясен.
— То есть как это?
— Вот, например, капитан Уоллес не любил гостей.
— Да, не любил, — мрачно признал Крик. — Мне бабушка говорила. Когда Хайрем уехал, они жили совсем одни. Почти ни с кем не разговаривали.
— Видал?
— Что видал?
— Мы пришли без приглашения, — прошептала я. — А он ка-ак заорет и прогнал нас.
Глаза у Крика стали, как мидии.
— Неправда, — сказал он, но я понимала, что он мне верит.
— Тут только один способ, — сказала я.
— Хайрем Уоллес, вот он кто, — говорила бабушка, равно как и все, кому перевалило за полвека. — Раньше думали, он погиб. Ан нет, живой. Может, кто переживал, да поздно, их самих нету.
История Хайрема Уоллеса понемногу прояснялась, истощая до предела мое утлое терпение. Бабушка Крика рассказала ему, что в ее детстве был такой рыбак, сын капитана Чарльза Уоллеса. Тогда чуть не все лодки ходили под парусом, крабы еще такого дохода не приносили. Зимой капитан с сыном промышляли устрицами, летом ловили рыбу, все больше — морского ерша и морского окуня. Зарабатывали неплохо, по дому видно — он был большой и стоял в сторонке. Моя бабушка припомнила, что у них был настоящий выгон, где паслась одна из немногих коров, известных за всю историю острова.
Теперь там все заболотилось, но дом, хоть и запущенный, выстоял. Нам, детям, казалось, что в нем водятся привидения. Поговаривали, что призрак капитана гоняет оттуда незваных гостей. Только через много лет я догадалась, что эта легенда должна была отвадить от жилища Уоллесов ищущие уединения парочки.
Однажды я повела туда Крика, но, только мы ступили на порог, на нас кинулся из окна огромный рыжий кот. Тогда, единственный раз в жизни, Крик меня обогнал. Мы сели отдышаться у нас на крыльце. Одной стороной разума я понимала, что это — один из питомцев тетушки Брэкстон. Говорили, что у нее их шестнадцать штук, и всякий, проходивший мимо ее дома, признавал по запаху, что никак не меньше. Другая сторона не мирилась с таким простым объяснением.
— Знаешь, — сказала я, — духи часто оборачиваются зверями, когда рассердятся.
Отдышавшись, я постаралась говорить напевно и мечтательно.
Крик обернулся и посмотрел мне в лицо.
— Ты уж скажешь!
— Я в книжке читала, — вдохновенно начала я (надо ли говорить, что таких книжек я не видела). — Там один путешественник исследует места с привидениями. Сперва он в них не верил, но он честный, и признал, что иначе не объяснишь.
— Чего не объяснишь-то?
— Э… — протянула я, пытаясь поскорее придумать. — Ну, что некоторые звери — это покойники.
Крик был явно потрясен.
— То есть как это?
— Вот, например, капитан Уоллес не любил гостей.
— Да, не любил, — мрачно признал Крик. — Мне бабушка говорила. Когда Хайрем уехал, они жили совсем одни. Почти ни с кем не разговаривали.
— Видал?
— Что видал?
— Мы пришли без приглашения, — прошептала я. — А он ка-ак заорет и прогнал нас.
Глаза у Крика стали, как мидии.
— Неправда, — сказал он, но я понимала, что он мне верит.
— Тут только один способ, — сказала я.
