Страница:
— Эт какой?
Я подползла поближе и опять зашептала:
— Уходи, а потом смотри, что будет.
Он вскочил:
— Ой, ужинать пора!
И выбежал на улицу.
Я переиграла саму себя. У меня не хватало духа повести Крика в старый пустой дом, но и одна я не решалась туда пойти.
Теперь там был человек, в доме жили, и весь остров бился над загадкой. Старики единогласно признали, что о молодом Хайреме мечтали все наши девицы, но отец дал ему денег и послал в колледж. Бывало это так редко, что через полсотни лет об этом помнили, равно как и о том, что домой он приезжал, правда — без диплома. Здесь, однако, были разногласия. Общительным он никогда не был, но, вернувшись, вообще не проронил ни слова. От одного этого девицы совсем разомлели, и никто ничего не подозревал до страшной грозы.
Залив наш славится летними грозами. Еще не зная грамоты, лодочники умеют читать знаки неба, спешат укрыться при первых признаках непогоды. Но залив — большой, не всегда успеваешь доплыть до безопасного места. В старое время, бывало, опускали паруса и пережидали дождь, как в палатке.
По рассказам, капитан Уоллес и Хайрем именно так и сделали. Молнии сверкали совсем рядом, вот-вот прорвет парусину, а гремело и ревело — утопленников разбудишь. Конечно, в такую погоду всякий боится, но одно дело — страх, другое — оторопь. Бабушка говорила, что Хайрем именно оторопел, что-то у него помутилось: испугался, что молния ударит в мачту, выскочил из-под паруса, схватил топор — и ну рубить! Подчистил до самой палубы. Гроза прошла, а они мотаются по воде, спасибо сосед помог. Когда прознали, что мачту свалила не молния, а рука Хайрема, все стали над ним смеяться. Ну, вскоре он и уехал навсегда…
Если, конечно, крепкий старик, который чинит дом — не тот самый молодой трус. Он ничего не говорил, ни «за», ни «против». Кое-кто хотел пойти спросить: если вы не Хайрем Уоллес, по какому праву живете в его доме? Но так и не пошли. Апрель кончался; прошел еще один месяц медленного рыбачьего года. Надо было красить, чинить, латать. Крабы двигались к нам, а мы должны были подготовиться.
— Да не Хайрем это, — сказала я Крику в начале мая.
— Почему?
— А чего ему сюда ехать в самую войну?
— Куда ж ему еще податься? Он старый.
— Ну, Крик, ты подумай. Почему именно сейчас?
— Да старый он…
— У нас тут полно военных кораблей.
— А при чем тут Хайрем Уоллес?
— При том. Нет, ты подумай. Кому нужны эти корабли?
— Флоту.
— Ну, Крик, подумай!
— А чего с них возьмешь?
— Шпионит он, ясно? Очень удобно, дом у самой воды.
— Читаешь ты много.
— Если кто поймает шпиона, его, то есть этого, кто поймал, повезут в Белый Дом и дадут орден.
— В жизни не слышал, чтобы ребята их ловили!
— То-то и оно. Если мы поймаем…
— Лис, это Хайрем Уоллес. Бабушка его знает.
— Это она так думает. Он притворяется. Вот никто и не подозревает.
— В чем?
Я вздохнула. Ясное дело, далеко ему до контрразведчика, а я ночей не сплю, думаю, как спасти мою бедную родину. Орденов и медалей, которые Франклин Д. Рузвельт навешает мне на шею или пришпилит к груди, хватило бы на целый полк. Особенно мне нравилось заключение сцены.
— Мистер президент, — говорю я, возвращая боевые награды, — возьмите для наших мальчиков.
— Сара Луиза! — при всех своих недостатках Франклин Д.Р. всегда называл меня полным именем. — Сара Луиза, ты это заслужила разумом и храбростью. Храни, а там — передай детям и внукам.
Я улыбалась чуть-чуть насмешливо и говорила:
— Мистер президент, неужели вы думаете, что при такой жизни я дождусь детей?
На эти слова Франклин Делано неизменно отвечал благоговейным молчанием.
Во сне я входила к нему одна, но в жизни это было бы некрасиво. В конце концов, мы с Криком все делали вместе.
— Так вот, сперва мы набросаем план.
— Какой еще план?
— Такой. Как поймать немца-перца, когда он шпионит.
— Поймаешь ты, еще чего!
— А почему не поймаю?
— Потому что он — не шпион.
Ну что поделаешь, если тебе не верят.
— Хорошо. А кто ж он тогда? Скажи-ка!
— Хайрем Уоллес.
— Ой, Господи!
— Чего божишься? Это кощунство.
— Я не божусь. Если бы я сказала «ей-Богу», это божба, а кощунство — «иди к черту».
— Ну и ну!
— Крик, давай хоть поиграем! Как будто он шпион, а мы ищем улики.
Он заколебался.
— Вроде этих твоих шуток?
— Да. То есть нет.
Иногда Крик бывал очень умный, а иногда — как шестилетний ребенок.
— Понимаешь, это игра, — сказала я, не дожидаясь ответа. — Пошли!
И побежала по осоленной топи. Крик пыхтел за моей спиной.
Если его семья была такая бедная, как говорила бабушка, откуда же он набрал столько жиру? Вообще-то, и отец, и мать у него толстые. И бегать ему трудно не только из-за толщины. Как все мы, он заказывал обувь по каталогу. Встанешь на оберточную бумагу, мать обведет ступню карандашом, и посылаешь это по почте, а они присылают твой номер. Но снизу ступня как ступня, а сверху может быть и подушка. У бедного Крика ботинки никогда не зашнуровывались. Если зашнурует доверху, не может наклониться. А на бегу все болталось, и язычки, и шнурки.
Был отлив, я свернула с дорожки и бежала прямо по земле. Собиралась я обогнуть дом и войти с другой стороны, с юга. Старик никого оттуда не ждет.
— Стой! — заорал Крик. — У меня ботинок потерялся.
Я вернулась туда, где Крик стоял на одной ноге, словно перекормленная цапля, вытащила ботинок из грязи и обчистила об траву.
— Бабушка меня побьет, — сказал он. Мне было трудно представить, как такая кубышка бьет толстого пятнадцатилетнего мальчика, но я не засмеялась. У меня были дела поважнее. Что сказал бы Франклин Д. Рузвельт о контрразведчике, который теряет ботинки в солончаках и боится бабушки? Вздохнув, я протянула Крику добычу. Он обулся и заковылял к дорожке.
— Сядь, — велела я.
— На землю?
— Да, на землю.
А он что думал, в кресло? Я как можно лучше обтерла носовым платком его ботинки и мои туфли. Бабушка заставляла меня носить его, как-никак, я — барышня, а теперь оказалось, что в нашем деле он незаменим — отпечатки пальцев, то-се.
— Давай зашнурую, — сказала я, распустила эти шнурки и все сделала заново, пропустив вторые и четвертые дырочки. Иначе бы не хватило на бантик.
— Вот, — сказала я, завязывая их, словно маленькому ребенку.
— Ты четыре дырочки пропустила.
— Это нарочно, не будут развязываться.
— Очень глупый вид.
— Когда ты босой, еще глупее.
Он не слушал меня, глядя на шнурки и, видимо, думая, переделать все или оставить как есть.
— Знаешь, это тайный знак.
— Чего-чего?
— Контрразведчики должны узнавать друг друга. Вроде пароля. Или цветка в петлице. Или… вот таких шнурков.
— Еще чего! В жизни не поверю, что они так шнуруют!
— А ты спроси Рузвельта, когда увидишь.
— Опять твои шуточки.
— Ладно. Потом перешнуруем, надо спешить.
Он хотел еще поспорить, но я ждать не стала. Ну, что это! Война кончится, а он тут сидит со своими шнурками.
— Тихо. Иди за мной.
Осока вымахала фута в два. Дороги не было, хоть ползи на брюхе, а то увидят из дома. Но можно ведь притвориться невидимкой. Во всяком случае, я притворилась, подползая к большому бурому дому. Сердце билось быстро и гулко, как мотор нашей «Порции».
В доме стояла тишина. Раньше я слышала скрип пилы, какой-то грохот, а теперь — ничего, кроме плеска воды у берега, да случайного зова чайки.
Я поманила Крика к юго-западному входу и, припав к стене, мы добрались до первого окна на юг. Там я медленно разогнулась, пока глаза не оказались вровень с подоконником. По-видимому, незнакомец выбрал под мастерскую именно это помещение. Старые кресла с плетеными сиденьями были сложены как козлы. Пол устилали стружки и опилки. Звуки, которые я слышала через луг, шли отсюда, это ясно, однако хозяина сейчас не было. Я махнула Крику рукой, чтоб не двигался, но он, конечно, все равно заглянул в комнату.
— Никого нет, — произнес он, как ему казалось — шепотом.
Я замахала руками, зашипела, но он не торопился и смотрел в окно так, словно там, внутри — не доски и стружки, а прекрасные картины.
Снова махнув на него рукой, я переползла к другому окну. Медленно, очень медленно, придерживаясь за стену, я подняла голову — и увидела большой стеклянный глаз. Наверное, я заорала. Во всяком случае, я сделала что-то такое, отчего Крик со всех ног кинулся к дорожке. Сама я бежать не стала — бояться-то я боялась, и удрать хотела, но сдвинуться не могла.
Глаз неспешно оторвался от моего лица, и голос сказал:
— Вот и ты. Я не хотел тебя пугать.
Я тщетно пыталась представить, что бы тут сделал контрразведчик, надеясь сказать невзначай что-нибудь удачное, но губы пересохли, как наждак, и ничего, ни удачного, ни неудачного произнести не могли.
— Не зайдешь ли?
Я посмотрела, где Крик, и обнаружила, что он стоит футах в ста, на дорожке. Значит, бежал и остановился. Не бросил меня. Ну, не совсем бросил. Спасибо и на том.
— И приятеля позови, — сказал старик, кладя на стол подзорную трубу и улыбаясь в седую бороду.
Я облизнула губы, но язык был тоже наждачный. Франклин Д. Рузвельт вешал мне на шею орден, говоря при этом: «Презрев опасность, она вошла в логово врага».
— Кри-ик! — завопила я. — Кри-и-ик!
Он направился к дому походкой хорошего зомби. Хозяин (шпион) стоял в окне. Крик встал за моей спиной, тяжело пыхтя. Оба мы смотрели вверх на незнакомое лицо.
— Может, зайдете? — приветливо сказал старик. — Выпейте чаю. У меня тут никто не бывает, кроме старого кота.
Крик — я это ощущала — застыл, как дохлая рыба.
— Ведет он себя так, словно это его дом. Я с ним долго спорил.
Крик напирал на меня животом. Я пнула его задом. Еще не хватало! Мы идем по следу, а этот испугался призрака, которого я же и выдумала!
От злости мой страх прошел.
— Спасибо, — ответила я, немножко слишком громко и не очень спокойно, а потому начала снова: — Спасибо. Мы с удовольствием выпьем чаю.
— Бабушка не разрешает мне пить чай.
— Если можно, — изысканно сказала я, — мальчик выпьет молочного.
И направилась к двери. Крик шел за мной. Когда мы обошли дом, странный человек придерживал для нас дверь. «Презрев опасность… в логово…»
Сидеть было почти что не на чем. Незнакомец подвинул нам грубую скамью, доску на ножках, поставил чайник на примус, пошуровал в кухне и сел на самодельный стул.
— Та-ак. Как вас зовут?
Я еще не решила, врут контрразведчики в таких ситуациях или нет, но Крик уже сказал:
— Я — Крик, а она — Лис.
Человек почему-то засмеялся.
— Лис и Крик, — весело сказал он. — Прямо из водевиля!
Как грубо! Сидит и смеется над нашими именами.
— Лучше бы Лис и Крыс. Но и так ничего.
Я ровно сидела на скамейке, с удивлением, если не с отвращением замечая, что Крик захихикал. Зыркнув на него, я услышала:
— Да это шутка!
— Какая шутка? — вскинулась я и чуть не прибавила: «Что тут смешного?», как вдруг осеклась. К счастью, чайник закипел, человек наливал нам чаю. Я опять метнула взор на Крика, но он не унимался. Я в жизни не слышала его смеха, а теперь он верещал, как чайка над мусором, когда нас просто оскорбили.
Человек протянул мне кружку очень крепкого чая.
— У меня только сгущенка, — сказал он Крику, возвращаясь с кухни.
— Здорово, — сказал Крик, отирая слезы тыльной стороной ладони. — Лис и Крыс! Ой, не могу! Усекла?
— Что ж тут непонятного? — ответила я, думая о том, как выпить эту черную жидкость. — Просто не вижу, чему смеяться.
Человек принес кружку с кухни.
— Тебе не смешно? Что ж, значит, растренировался, — он протянул молоко Крику. — Я разбавил водой, половина на половину.
Крик отхлебнул и сказал:
— Здорово.
Я подождала, не предложит ли он мне молока или сахару, но не дождалась. Он сел и стал пить черное пойло.
— На самом деле меня зовут Сара Луиза, — сообщила я, забыв, что хотела имя скрыть. — Сара Луиза Брэдшо.
— Очень красиво, — вежливо сказал он.
— А я Кристофер Пернелл, но меня все зовут Крик.
— Ясно, — лукаво заметил хозяин. — Надо тебя позвать, вот и кричи: «Кри-и-ик!»
— Кричи Крик! — просто залился смехом мой приятель. — Кри-чи Крик! Усекла, Лис? Здорово, а?
О, Господи!
— Не вижу ничего смешного, — как можно значительней сказала я. — А вы, вероятно, не скажете своего имени.
Человек удивился.
— Я думал, тут все его знают.
Мы с Криком подались вперед, но он ничего не сказал нам. Я гадала, спросить еще, или навести невзначай на эту тему, когда Крик брякнул:
— А вы на шпиона не похожи.
Человек взглянул на меня и поднял брови. Несомненно, я стала красной, будто вареный краб. Как эти контрразведчики ухитряются не краснеть? С минуту он безжалостно глядел на меня.
— Почему, — громко спросил он, — ты не пьешь чай?
— Яу-яу-яу…
— Я — у — яу-яу! — завопил Крик.
Человек тоже засмеялся, но встал и передвинул ко мне жестянку. Руки у меня дрожали от обиды или от злости, кто их знает, но я долила кружку густым желтоватым молоком. Хозяин подождал, пока я попробую, я чуть не обожглась, ничего не разобрала, но кивнула, выражая всем видом: «Очень вкусно». Отпив полкружки, я вспомнила, что надо бы попросить сахару, но решила, что теперь нельзя.
Примерно так проходили наши первые визиты к Капитану. Мы с Криком стали звать его просто «Капитан». На острове всех, у кого есть лодка, зовут, если им за пятьдесят, «капитан Такой-то». Уоллесом я его не звала, поскольку он ни разу не произнес этой фамилии. Во мне еще тлела надежда, что он окажется шпионом и мне дадут хоть медаль. Крик ходил потому, что Капитан хорошо шутил, «не чета тебе, Лис!»
Вообще-то, сам Капитан любил именно Крика. Будь я добрее, я бы радовалась, что Крик нашел взрослого друга. Своего отца он не помнил, и уж кому-кому, а ему отец был нужен. Но я добротой не отличалась. Это мне было не по карману. Кроме Крика, у меня друзей не было. Если бы я его отдала, я бы вообще одна осталась.
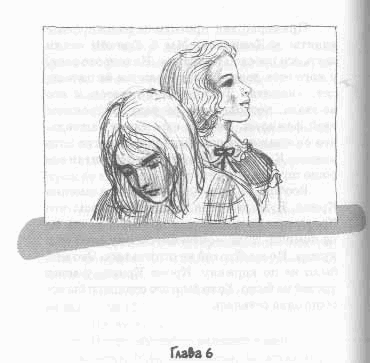
Глава 6
Глава 7
Я подползла поближе и опять зашептала:
— Уходи, а потом смотри, что будет.
Он вскочил:
— Ой, ужинать пора!
И выбежал на улицу.
Я переиграла саму себя. У меня не хватало духа повести Крика в старый пустой дом, но и одна я не решалась туда пойти.
Теперь там был человек, в доме жили, и весь остров бился над загадкой. Старики единогласно признали, что о молодом Хайреме мечтали все наши девицы, но отец дал ему денег и послал в колледж. Бывало это так редко, что через полсотни лет об этом помнили, равно как и о том, что домой он приезжал, правда — без диплома. Здесь, однако, были разногласия. Общительным он никогда не был, но, вернувшись, вообще не проронил ни слова. От одного этого девицы совсем разомлели, и никто ничего не подозревал до страшной грозы.
Залив наш славится летними грозами. Еще не зная грамоты, лодочники умеют читать знаки неба, спешат укрыться при первых признаках непогоды. Но залив — большой, не всегда успеваешь доплыть до безопасного места. В старое время, бывало, опускали паруса и пережидали дождь, как в палатке.
По рассказам, капитан Уоллес и Хайрем именно так и сделали. Молнии сверкали совсем рядом, вот-вот прорвет парусину, а гремело и ревело — утопленников разбудишь. Конечно, в такую погоду всякий боится, но одно дело — страх, другое — оторопь. Бабушка говорила, что Хайрем именно оторопел, что-то у него помутилось: испугался, что молния ударит в мачту, выскочил из-под паруса, схватил топор — и ну рубить! Подчистил до самой палубы. Гроза прошла, а они мотаются по воде, спасибо сосед помог. Когда прознали, что мачту свалила не молния, а рука Хайрема, все стали над ним смеяться. Ну, вскоре он и уехал навсегда…
Если, конечно, крепкий старик, который чинит дом — не тот самый молодой трус. Он ничего не говорил, ни «за», ни «против». Кое-кто хотел пойти спросить: если вы не Хайрем Уоллес, по какому праву живете в его доме? Но так и не пошли. Апрель кончался; прошел еще один месяц медленного рыбачьего года. Надо было красить, чинить, латать. Крабы двигались к нам, а мы должны были подготовиться.
— Да не Хайрем это, — сказала я Крику в начале мая.
— Почему?
— А чего ему сюда ехать в самую войну?
— Куда ж ему еще податься? Он старый.
— Ну, Крик, ты подумай. Почему именно сейчас?
— Да старый он…
— У нас тут полно военных кораблей.
— А при чем тут Хайрем Уоллес?
— При том. Нет, ты подумай. Кому нужны эти корабли?
— Флоту.
— Ну, Крик, подумай!
— А чего с них возьмешь?
— Шпионит он, ясно? Очень удобно, дом у самой воды.
— Читаешь ты много.
— Если кто поймает шпиона, его, то есть этого, кто поймал, повезут в Белый Дом и дадут орден.
— В жизни не слышал, чтобы ребята их ловили!
— То-то и оно. Если мы поймаем…
— Лис, это Хайрем Уоллес. Бабушка его знает.
— Это она так думает. Он притворяется. Вот никто и не подозревает.
— В чем?
Я вздохнула. Ясное дело, далеко ему до контрразведчика, а я ночей не сплю, думаю, как спасти мою бедную родину. Орденов и медалей, которые Франклин Д. Рузвельт навешает мне на шею или пришпилит к груди, хватило бы на целый полк. Особенно мне нравилось заключение сцены.
— Мистер президент, — говорю я, возвращая боевые награды, — возьмите для наших мальчиков.
— Сара Луиза! — при всех своих недостатках Франклин Д.Р. всегда называл меня полным именем. — Сара Луиза, ты это заслужила разумом и храбростью. Храни, а там — передай детям и внукам.
Я улыбалась чуть-чуть насмешливо и говорила:
— Мистер президент, неужели вы думаете, что при такой жизни я дождусь детей?
На эти слова Франклин Делано неизменно отвечал благоговейным молчанием.
Во сне я входила к нему одна, но в жизни это было бы некрасиво. В конце концов, мы с Криком все делали вместе.
— Так вот, сперва мы набросаем план.
— Какой еще план?
— Такой. Как поймать немца-перца, когда он шпионит.
— Поймаешь ты, еще чего!
— А почему не поймаю?
— Потому что он — не шпион.
Ну что поделаешь, если тебе не верят.
— Хорошо. А кто ж он тогда? Скажи-ка!
— Хайрем Уоллес.
— Ой, Господи!
— Чего божишься? Это кощунство.
— Я не божусь. Если бы я сказала «ей-Богу», это божба, а кощунство — «иди к черту».
— Ну и ну!
— Крик, давай хоть поиграем! Как будто он шпион, а мы ищем улики.
Он заколебался.
— Вроде этих твоих шуток?
— Да. То есть нет.
Иногда Крик бывал очень умный, а иногда — как шестилетний ребенок.
— Понимаешь, это игра, — сказала я, не дожидаясь ответа. — Пошли!
И побежала по осоленной топи. Крик пыхтел за моей спиной.
Если его семья была такая бедная, как говорила бабушка, откуда же он набрал столько жиру? Вообще-то, и отец, и мать у него толстые. И бегать ему трудно не только из-за толщины. Как все мы, он заказывал обувь по каталогу. Встанешь на оберточную бумагу, мать обведет ступню карандашом, и посылаешь это по почте, а они присылают твой номер. Но снизу ступня как ступня, а сверху может быть и подушка. У бедного Крика ботинки никогда не зашнуровывались. Если зашнурует доверху, не может наклониться. А на бегу все болталось, и язычки, и шнурки.
Был отлив, я свернула с дорожки и бежала прямо по земле. Собиралась я обогнуть дом и войти с другой стороны, с юга. Старик никого оттуда не ждет.
— Стой! — заорал Крик. — У меня ботинок потерялся.
Я вернулась туда, где Крик стоял на одной ноге, словно перекормленная цапля, вытащила ботинок из грязи и обчистила об траву.
— Бабушка меня побьет, — сказал он. Мне было трудно представить, как такая кубышка бьет толстого пятнадцатилетнего мальчика, но я не засмеялась. У меня были дела поважнее. Что сказал бы Франклин Д. Рузвельт о контрразведчике, который теряет ботинки в солончаках и боится бабушки? Вздохнув, я протянула Крику добычу. Он обулся и заковылял к дорожке.
— Сядь, — велела я.
— На землю?
— Да, на землю.
А он что думал, в кресло? Я как можно лучше обтерла носовым платком его ботинки и мои туфли. Бабушка заставляла меня носить его, как-никак, я — барышня, а теперь оказалось, что в нашем деле он незаменим — отпечатки пальцев, то-се.
— Давай зашнурую, — сказала я, распустила эти шнурки и все сделала заново, пропустив вторые и четвертые дырочки. Иначе бы не хватило на бантик.
— Вот, — сказала я, завязывая их, словно маленькому ребенку.
— Ты четыре дырочки пропустила.
— Это нарочно, не будут развязываться.
— Очень глупый вид.
— Когда ты босой, еще глупее.
Он не слушал меня, глядя на шнурки и, видимо, думая, переделать все или оставить как есть.
— Знаешь, это тайный знак.
— Чего-чего?
— Контрразведчики должны узнавать друг друга. Вроде пароля. Или цветка в петлице. Или… вот таких шнурков.
— Еще чего! В жизни не поверю, что они так шнуруют!
— А ты спроси Рузвельта, когда увидишь.
— Опять твои шуточки.
— Ладно. Потом перешнуруем, надо спешить.
Он хотел еще поспорить, но я ждать не стала. Ну, что это! Война кончится, а он тут сидит со своими шнурками.
— Тихо. Иди за мной.
Осока вымахала фута в два. Дороги не было, хоть ползи на брюхе, а то увидят из дома. Но можно ведь притвориться невидимкой. Во всяком случае, я притворилась, подползая к большому бурому дому. Сердце билось быстро и гулко, как мотор нашей «Порции».
В доме стояла тишина. Раньше я слышала скрип пилы, какой-то грохот, а теперь — ничего, кроме плеска воды у берега, да случайного зова чайки.
Я поманила Крика к юго-западному входу и, припав к стене, мы добрались до первого окна на юг. Там я медленно разогнулась, пока глаза не оказались вровень с подоконником. По-видимому, незнакомец выбрал под мастерскую именно это помещение. Старые кресла с плетеными сиденьями были сложены как козлы. Пол устилали стружки и опилки. Звуки, которые я слышала через луг, шли отсюда, это ясно, однако хозяина сейчас не было. Я махнула Крику рукой, чтоб не двигался, но он, конечно, все равно заглянул в комнату.
— Никого нет, — произнес он, как ему казалось — шепотом.
Я замахала руками, зашипела, но он не торопился и смотрел в окно так, словно там, внутри — не доски и стружки, а прекрасные картины.
Снова махнув на него рукой, я переползла к другому окну. Медленно, очень медленно, придерживаясь за стену, я подняла голову — и увидела большой стеклянный глаз. Наверное, я заорала. Во всяком случае, я сделала что-то такое, отчего Крик со всех ног кинулся к дорожке. Сама я бежать не стала — бояться-то я боялась, и удрать хотела, но сдвинуться не могла.
Глаз неспешно оторвался от моего лица, и голос сказал:
— Вот и ты. Я не хотел тебя пугать.
Я тщетно пыталась представить, что бы тут сделал контрразведчик, надеясь сказать невзначай что-нибудь удачное, но губы пересохли, как наждак, и ничего, ни удачного, ни неудачного произнести не могли.
— Не зайдешь ли?
Я посмотрела, где Крик, и обнаружила, что он стоит футах в ста, на дорожке. Значит, бежал и остановился. Не бросил меня. Ну, не совсем бросил. Спасибо и на том.
— И приятеля позови, — сказал старик, кладя на стол подзорную трубу и улыбаясь в седую бороду.
Я облизнула губы, но язык был тоже наждачный. Франклин Д. Рузвельт вешал мне на шею орден, говоря при этом: «Презрев опасность, она вошла в логово врага».
— Кри-ик! — завопила я. — Кри-и-ик!
Он направился к дому походкой хорошего зомби. Хозяин (шпион) стоял в окне. Крик встал за моей спиной, тяжело пыхтя. Оба мы смотрели вверх на незнакомое лицо.
— Может, зайдете? — приветливо сказал старик. — Выпейте чаю. У меня тут никто не бывает, кроме старого кота.
Крик — я это ощущала — застыл, как дохлая рыба.
— Ведет он себя так, словно это его дом. Я с ним долго спорил.
Крик напирал на меня животом. Я пнула его задом. Еще не хватало! Мы идем по следу, а этот испугался призрака, которого я же и выдумала!
От злости мой страх прошел.
— Спасибо, — ответила я, немножко слишком громко и не очень спокойно, а потому начала снова: — Спасибо. Мы с удовольствием выпьем чаю.
— Бабушка не разрешает мне пить чай.
— Если можно, — изысканно сказала я, — мальчик выпьет молочного.
И направилась к двери. Крик шел за мной. Когда мы обошли дом, странный человек придерживал для нас дверь. «Презрев опасность… в логово…»
Сидеть было почти что не на чем. Незнакомец подвинул нам грубую скамью, доску на ножках, поставил чайник на примус, пошуровал в кухне и сел на самодельный стул.
— Та-ак. Как вас зовут?
Я еще не решила, врут контрразведчики в таких ситуациях или нет, но Крик уже сказал:
— Я — Крик, а она — Лис.
Человек почему-то засмеялся.
— Лис и Крик, — весело сказал он. — Прямо из водевиля!
Как грубо! Сидит и смеется над нашими именами.
— Лучше бы Лис и Крыс. Но и так ничего.
Я ровно сидела на скамейке, с удивлением, если не с отвращением замечая, что Крик захихикал. Зыркнув на него, я услышала:
— Да это шутка!
— Какая шутка? — вскинулась я и чуть не прибавила: «Что тут смешного?», как вдруг осеклась. К счастью, чайник закипел, человек наливал нам чаю. Я опять метнула взор на Крика, но он не унимался. Я в жизни не слышала его смеха, а теперь он верещал, как чайка над мусором, когда нас просто оскорбили.
Человек протянул мне кружку очень крепкого чая.
— У меня только сгущенка, — сказал он Крику, возвращаясь с кухни.
— Здорово, — сказал Крик, отирая слезы тыльной стороной ладони. — Лис и Крыс! Ой, не могу! Усекла?
— Что ж тут непонятного? — ответила я, думая о том, как выпить эту черную жидкость. — Просто не вижу, чему смеяться.
Человек принес кружку с кухни.
— Тебе не смешно? Что ж, значит, растренировался, — он протянул молоко Крику. — Я разбавил водой, половина на половину.
Крик отхлебнул и сказал:
— Здорово.
Я подождала, не предложит ли он мне молока или сахару, но не дождалась. Он сел и стал пить черное пойло.
— На самом деле меня зовут Сара Луиза, — сообщила я, забыв, что хотела имя скрыть. — Сара Луиза Брэдшо.
— Очень красиво, — вежливо сказал он.
— А я Кристофер Пернелл, но меня все зовут Крик.
— Ясно, — лукаво заметил хозяин. — Надо тебя позвать, вот и кричи: «Кри-и-ик!»
— Кричи Крик! — просто залился смехом мой приятель. — Кри-чи Крик! Усекла, Лис? Здорово, а?
О, Господи!
— Не вижу ничего смешного, — как можно значительней сказала я. — А вы, вероятно, не скажете своего имени.
Человек удивился.
— Я думал, тут все его знают.
Мы с Криком подались вперед, но он ничего не сказал нам. Я гадала, спросить еще, или навести невзначай на эту тему, когда Крик брякнул:
— А вы на шпиона не похожи.
Человек взглянул на меня и поднял брови. Несомненно, я стала красной, будто вареный краб. Как эти контрразведчики ухитряются не краснеть? С минуту он безжалостно глядел на меня.
— Почему, — громко спросил он, — ты не пьешь чай?
— Яу-яу-яу…
— Я — у — яу-яу! — завопил Крик.
Человек тоже засмеялся, но встал и передвинул ко мне жестянку. Руки у меня дрожали от обиды или от злости, кто их знает, но я долила кружку густым желтоватым молоком. Хозяин подождал, пока я попробую, я чуть не обожглась, ничего не разобрала, но кивнула, выражая всем видом: «Очень вкусно». Отпив полкружки, я вспомнила, что надо бы попросить сахару, но решила, что теперь нельзя.
Примерно так проходили наши первые визиты к Капитану. Мы с Криком стали звать его просто «Капитан». На острове всех, у кого есть лодка, зовут, если им за пятьдесят, «капитан Такой-то». Уоллесом я его не звала, поскольку он ни разу не произнес этой фамилии. Во мне еще тлела надежда, что он окажется шпионом и мне дадут хоть медаль. Крик ходил потому, что Капитан хорошо шутил, «не чета тебе, Лис!»
Вообще-то, сам Капитан любил именно Крика. Будь я добрее, я бы радовалась, что Крик нашел взрослого друга. Своего отца он не помнил, и уж кому-кому, а ему отец был нужен. Но я добротой не отличалась. Это мне было не по карману. Кроме Крика, у меня друзей не было. Если бы я его отдала, я бы вообще одна осталась.
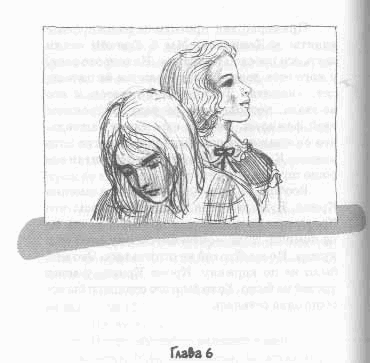
Глава 6
Даже теперь мне трудно описать, какие у нас с Каролиной были отношения. Спали мы в одной комнате, ели за одним столом, по девять месяцев в году сидели в одном классе, но все это нас не сближало. Да и с чего бы, если мы не сдружились за те девять месяцев в одном животе? Однако, хоть дружны мы не были, только сестра единым взглядом могла напугать меня до смерти.
Бывало, приду я от крабов, мокрая, грязная, а Каролина так мягко скажет, что хорошо бы почистить ногти. Да каким же им еще быть? Казалось бы, кивни, а я страшно обижалась. Как она смеет? Нет, как она смеет подчеркивать, что я — грязная, а она, видите ли, такая чистенькая? Тут не в ногтях суть, это она придирается, а дело-то — в душе. Мало ей, что она такая красотка, надо еще меня обидеть? Что ж, мне ничем нельзя выделяться, ни достоинством, ни достоинствами?
Теперь я просто выла. Разве я не заработала лишние деньги, ей на Солсбери? Тут бы на коленях благодарить, а она еще недовольна. Как она смеет, как смеет?!
Глаза у нее стали круглые. Крича и рыдая, я чувствовала в потоке ярости струйки злорадства. Сестра знала, что я права, и все-таки растерялась. Ее прелестные глазки снова сощурились, губки поджались. Не сказав ни слова, она вышла, оставив меня одну, а я еще не выплакалась, не выкричалась, так все и осталось бушевать в сердце. Ясно. Бороться со мной она не станет. Наверное, за это я ее особенно ненавидела.
Не-на-ви-де-ла. Запрещенное слово. Я ненавидела сестру. Это я, исповедующая веру, которая учит, что сердиться — и то Бог запрещает, а уж ненависть равносильна убийству.
Мне часто снилось, что Каролина умерла. Иногда я даже знала, как — они утонули вместе с мамой или (это чаще) перевернулось такси, и ее красивое тело сгорело в пламени. Чувств в этих снах всегда было два, дикая радость — наконец-то я от нее свободна… и невыносимая вина. Как-то мне приснилось, что я убила ее собственными руками. Взяла дубовое весло, с которым плавала на ялике, а она пришла на берег, попросила ее подвезти. Тут я ка-ак подниму весло, ка-ак ударю! Бью, бью, бью, не могу остановиться. Она открыла рот, словно кричит, но во сне звуков не слышно, только мой смех. Так я и проснулась, смеясь странным, истерическим смехом, который сразу обратился в плач. Сестра проснулась.
— Что ты, Лис?
— Плохой сон. Мне снилось, что ты умерла.
Со сна она даже не испугалась; и, пробормотав: «Мало что приснится…», снова отвернулась к стене, получше зарывшись в одеяло.
Но это же я ее убила! Мне хотелось закричать, не знаю уж, для чего — чтобы напугать ее все-таки или покаяться. Я — убийца. Как Каин. Сестра тихо дышала, не беспокоясь ни о моих снах, ни обо мне.
Иногда я сердилась на Бога: всемогущий — а какой несправедливый! Однако ярость моя всегда кончалась раскаяньем. Я — плохая, простить меня нельзя, но я все-таки просила Его о милости ко мне, грешной. Простил же Он Давида, который, мало того, что убил, а еще и прелюбодейничал[5]! Тут я вспомнила, что Давид — из Его любимчиков. Бог всегда вызволяет их. Вот, Моисей. А Павел, который сторожил одежду, пока убивали Стефана[6]?
Я часто рылась в Писании, но искала не знаний и не света, а хоть какого-нибудь свидетельства, что не погибну навеки из-за ненависти к сестре. Хорошо бы покаяться и спастись! Ну ладно, покаюсь, решу ее любить — но какой-нибудь бес мигом юркнет в душу, угнездится в уголку и заведет свое: «Ты погляди, как мама на нее смотрит, когда она учится музыке! На тебя так смотрела, а? То-то!» Я и сама это знала, без него.
Только на воде обретала я покой. В середине мая, когда кончались занятия, я еще затемно уходила ловить крабов. Крик без особой радости тащился за мной, не зная, с чего меня так тянет к труду. Я разработала план побега. Наловлю в два раза больше, припрячу половину денег — маме-то я буду сдавать столько, сколько всегда, и понемногу скоплю на школу с пансионом. На Смит-Айленде, к югу от нас, средней школы в помине не было, и тех, кто хорошо кончал начальную, посылали на казенный счет в Крисфилд. Цена была сносная. Для обычной семьи — высоковата, но с дотацией — такая самая, чтобы я могла о ней мечтать и ради нее стараться. Мне казалось, что если я уеду с острова, я освобожусь от злобы, вины, проклятия, а то — и от Бога.
Не так я была глупа, чтобы положиться на крабов. Неверные они твари. Всегда знают, если уж очень нужны, и по вредности своей не ловятся. Может показаться, что, как бы рано я ни вставала, меня не очень заботили наши успехи. Когда мы уже плыли, тыкая багром в морскую траву, я непременно говорила, только взойдет солнце:
— Самое лучшее время суток, а? Бог с ними, с крабами. Давай-ка лучше отдохнем.
Крик глядел на меня, словно я утратила разум, но был слишком добрым, чтобы сказать это вслух. Не могу поручиться, что я ловко обдуривала крабов, но ловили мы тем летом немало. Однако, повторю, не на них я ставила. Были и другие способы подработать.
Ответ я нашла в лавке у Келлама на обороте комикса про капитана Марвела, и потратила на него целых десять центов, хотя деньги давались мне трудно, а потом — спрятала в бельевом шкафу, с другими сокровищами.
Вот что я там прочитала:
Однажды, когда мы ловили крабов, я попробовала стихи на Крике.
— Это что значит? — спросил он.
— У нее друг на фронте.
— А причем тут птицы? Им-то какое дело?
— В стихах нельзя все прямо говорить.
— Почему?
— Потому что это будут не стихи.
— Значит, по-твоему, надо врать?
— Это не вранье.
— Ну, прям! Хоть одна чайка тут орет из-за того, что кто-то воюет? Самое вранье, какое же еще нужно!
— Это особая манера речи. Для красоты.
— Врать некрасиво.
— Да забудь ты про этих птиц! Как тебе остальное?
— А что там осталось?
— Весь стишок. Как он тебе?
— Да я забыл.
Я заскрипела зубами, чтобы на него не гавкнуть, и очень кротко, очень мягко прочитала все заново.
— Что ж ты про птичек не забыла?
— Нет, ты их забудь. Как остальное?
— Непонятно чего-то…
— Почему?
— Ну, посуди сама, или он здесь, или он там.
— Крик, это стихи. На самом деле он там, но она о нем все время думает, и для нее он — тут, рядом.
— Чушь какая-то.
— Подожди, пока влюбишься.
Он взглянул на меня так, словно я предложила что-то неприличное.
Я вздохнула.
— Ты слышал про австралийца, который хотел купить новый бумеранг, но не мог избавиться от старого?
— Нет. А что с ним случилось?
— Ну, ты пойми. Бумеранг. Хочет купить новый, а другой все время возвращается.
— Тогда зачем ему новый? Старый сгодится, он же еще в порядке.
— Ладно. Замнем.
Он терпеливо и недоверчиво покачал головой, а я забыла, что собиралась думать не о крабах, и сосредоточилась на этих чудищах. Приятно вспомнить, что в тот день мы наловили две полных корзинки, один лучше другого.
Никто не заставлял меня отдавать все заработанные деньги, но я отдавала. Сперва, наверное, мне в голову не пришло, что можно откладывать. Мы еле-еле сводили концы с концами, и я гордилась, что помогаю семье. Мама и папа всегда меня благодарили, хотя не особо на меня рассчитывали. Помню, когда бабушка разворчится, я молчала, как иначе, но думала, что зарабатываю, а они с Каролиной, в сущности, приживалки. Какое-никакое, но утешение.
Однако никто не велел мне класть в копилку все монетки до единой.
Почему же я так терзалась? Разве я не имела права оставить что-то себе из трудно заработанных денег? Да, а вдруг Отис скажет папе, сколько он у нас купил? Что, если мама Крика похвастается нашей, сколько он теперь приносит? Деньги свои я делила ровно пополам. Если не получалось, лишнее шло в копилку. Клала я примерно столько же, сколько в прошлом году, но не приносила маме, чтобы она их гордо пересчитывала и клала в копилку. Теперь туда совала я, а потом говорила: «Да, кстати, я там в горшке кое-что оставила». Мама меня благодарила, тихо, как всегда. Я ни разу не сказала, что положила все деньги, я ведь не врала. Но никто и не спрашивал.
Если бы только можно было как-нибудь еще заработать! Крику не понравились мои стихи, и я сразу выдохлась. Конечно, я знала, что в поэзии он разбирается не лучше, чем в юморе, то есть просто ничего не смыслит, но только ему из всех людей я решилась прочитать их. Ну, сказал бы: «Я стихов не понимаю, но звучит приятно». Вежливо, в сущности — честно, а мне — поддержка, когда я в ней так нуждаюсь.
Пришлось мне подождать недели две, собраться, опять переписать стихи на листочке из записной книжки и послать их в издательство. Они еще не могли дойти до Нью-Йорка, когда я уже рыскала у доков, ждала парома, на котором привозили почту. Спросить капитана Билли, есть ли мне письма, я не решалась, но прикинула — если просто стоять там, он меня увидит и скажет. Я не знала, что он не открывает мешок, только относит на почту, миссис Келлам. А вот про нее я знала, что она редкостная сплетница, и тряслась при одной мысли, что она спросит бабушку, какие-такие письма приходят мне из Нью-Йорка.
Примерно в те дни балтиморская газета «Сан» (она запаздывала на сутки) оповестила прямо шапками о восьми немецких шпионах. Их доставила во Флориду подводная лодка, а там их чуть не сразу поймали. Я прекрасно знала, что Капитан — не шпион, но, читая, как будто давилась сосулькой. А что, если б он им был? А что, если б мы с Криком поймали его и прославились? Удача промелькнула так близко, что мне вдруг захотелось разузнать о нем побольше. Если он не шпион, если он и правда Хайрем Уоллес, зачем он приехал через столько лет на остров, где его и вспоминают только с брезгливостью?
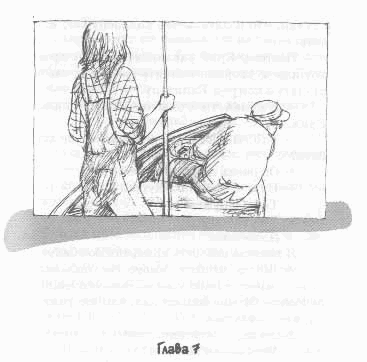
Бывало, приду я от крабов, мокрая, грязная, а Каролина так мягко скажет, что хорошо бы почистить ногти. Да каким же им еще быть? Казалось бы, кивни, а я страшно обижалась. Как она смеет? Нет, как она смеет подчеркивать, что я — грязная, а она, видите ли, такая чистенькая? Тут не в ногтях суть, это она придирается, а дело-то — в душе. Мало ей, что она такая красотка, надо еще меня обидеть? Что ж, мне ничем нельзя выделяться, ни достоинством, ни достоинствами?
Теперь я просто выла. Разве я не заработала лишние деньги, ей на Солсбери? Тут бы на коленях благодарить, а она еще недовольна. Как она смеет, как смеет?!
Глаза у нее стали круглые. Крича и рыдая, я чувствовала в потоке ярости струйки злорадства. Сестра знала, что я права, и все-таки растерялась. Ее прелестные глазки снова сощурились, губки поджались. Не сказав ни слова, она вышла, оставив меня одну, а я еще не выплакалась, не выкричалась, так все и осталось бушевать в сердце. Ясно. Бороться со мной она не станет. Наверное, за это я ее особенно ненавидела.
Не-на-ви-де-ла. Запрещенное слово. Я ненавидела сестру. Это я, исповедующая веру, которая учит, что сердиться — и то Бог запрещает, а уж ненависть равносильна убийству.
Мне часто снилось, что Каролина умерла. Иногда я даже знала, как — они утонули вместе с мамой или (это чаще) перевернулось такси, и ее красивое тело сгорело в пламени. Чувств в этих снах всегда было два, дикая радость — наконец-то я от нее свободна… и невыносимая вина. Как-то мне приснилось, что я убила ее собственными руками. Взяла дубовое весло, с которым плавала на ялике, а она пришла на берег, попросила ее подвезти. Тут я ка-ак подниму весло, ка-ак ударю! Бью, бью, бью, не могу остановиться. Она открыла рот, словно кричит, но во сне звуков не слышно, только мой смех. Так я и проснулась, смеясь странным, истерическим смехом, который сразу обратился в плач. Сестра проснулась.
— Что ты, Лис?
— Плохой сон. Мне снилось, что ты умерла.
Со сна она даже не испугалась; и, пробормотав: «Мало что приснится…», снова отвернулась к стене, получше зарывшись в одеяло.
Но это же я ее убила! Мне хотелось закричать, не знаю уж, для чего — чтобы напугать ее все-таки или покаяться. Я — убийца. Как Каин. Сестра тихо дышала, не беспокоясь ни о моих снах, ни обо мне.
Иногда я сердилась на Бога: всемогущий — а какой несправедливый! Однако ярость моя всегда кончалась раскаяньем. Я — плохая, простить меня нельзя, но я все-таки просила Его о милости ко мне, грешной. Простил же Он Давида, который, мало того, что убил, а еще и прелюбодейничал[5]! Тут я вспомнила, что Давид — из Его любимчиков. Бог всегда вызволяет их. Вот, Моисей. А Павел, который сторожил одежду, пока убивали Стефана[6]?
Я часто рылась в Писании, но искала не знаний и не света, а хоть какого-нибудь свидетельства, что не погибну навеки из-за ненависти к сестре. Хорошо бы покаяться и спастись! Ну ладно, покаюсь, решу ее любить — но какой-нибудь бес мигом юркнет в душу, угнездится в уголку и заведет свое: «Ты погляди, как мама на нее смотрит, когда она учится музыке! На тебя так смотрела, а? То-то!» Я и сама это знала, без него.
Только на воде обретала я покой. В середине мая, когда кончались занятия, я еще затемно уходила ловить крабов. Крик без особой радости тащился за мной, не зная, с чего меня так тянет к труду. Я разработала план побега. Наловлю в два раза больше, припрячу половину денег — маме-то я буду сдавать столько, сколько всегда, и понемногу скоплю на школу с пансионом. На Смит-Айленде, к югу от нас, средней школы в помине не было, и тех, кто хорошо кончал начальную, посылали на казенный счет в Крисфилд. Цена была сносная. Для обычной семьи — высоковата, но с дотацией — такая самая, чтобы я могла о ней мечтать и ради нее стараться. Мне казалось, что если я уеду с острова, я освобожусь от злобы, вины, проклятия, а то — и от Бога.
Не так я была глупа, чтобы положиться на крабов. Неверные они твари. Всегда знают, если уж очень нужны, и по вредности своей не ловятся. Может показаться, что, как бы рано я ни вставала, меня не очень заботили наши успехи. Когда мы уже плыли, тыкая багром в морскую траву, я непременно говорила, только взойдет солнце:
— Самое лучшее время суток, а? Бог с ними, с крабами. Давай-ка лучше отдохнем.
Крик глядел на меня, словно я утратила разум, но был слишком добрым, чтобы сказать это вслух. Не могу поручиться, что я ловко обдуривала крабов, но ловили мы тем летом немало. Однако, повторю, не на них я ставила. Были и другие способы подработать.
Ответ я нашла в лавке у Келлама на обороте комикса про капитана Марвела, и потратила на него целых десять центов, хотя деньги давались мне трудно, а потом — спрятала в бельевом шкафу, с другими сокровищами.
Вот что я там прочитала:
"ПРИСЫЛАЙТЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПЕСЕН.Заплатим. Это слово оживило мое воображение. Правда, до сих пор я видела стихи только на могилах — но что с того? Я ведь слушала радио! Там пели:
Мы вам заплатим"
Ну, что такого особенного? Любой идиот сочинит. Две строчки в рифму, одна — просто так, потом еще три в рифму, и последняя, в пару к третьей. Вот, пожалуйста:
Над синими волнами,
Над белыми холмами —
Ты только потерпи и подожди!
Взовьется, улетая,
Голубок белых стая,
И побегут, играя,
Любви благословенные ключи.
Чего ж еще надо? Романтично, печально, вроде бы про войну и уж точно про любовь. Да, я настоящий поэт, как говорится, лирик, но и ум при мне.
Кричат над морем птицы
О том, что нет границы
Меж мною и тобой.
Да, мы с тобой простились,
Но не разъединились,
А может — породнились
И телом, и душой.
Однажды, когда мы ловили крабов, я попробовала стихи на Крике.
— Это что значит? — спросил он.
— У нее друг на фронте.
— А причем тут птицы? Им-то какое дело?
— В стихах нельзя все прямо говорить.
— Почему?
— Потому что это будут не стихи.
— Значит, по-твоему, надо врать?
— Это не вранье.
— Ну, прям! Хоть одна чайка тут орет из-за того, что кто-то воюет? Самое вранье, какое же еще нужно!
— Это особая манера речи. Для красоты.
— Врать некрасиво.
— Да забудь ты про этих птиц! Как тебе остальное?
— А что там осталось?
— Весь стишок. Как он тебе?
— Да я забыл.
Я заскрипела зубами, чтобы на него не гавкнуть, и очень кротко, очень мягко прочитала все заново.
— Что ж ты про птичек не забыла?
— Нет, ты их забудь. Как остальное?
— Непонятно чего-то…
— Почему?
— Ну, посуди сама, или он здесь, или он там.
— Крик, это стихи. На самом деле он там, но она о нем все время думает, и для нее он — тут, рядом.
— Чушь какая-то.
— Подожди, пока влюбишься.
Он взглянул на меня так, словно я предложила что-то неприличное.
Я вздохнула.
— Ты слышал про австралийца, который хотел купить новый бумеранг, но не мог избавиться от старого?
— Нет. А что с ним случилось?
— Ну, ты пойми. Бумеранг. Хочет купить новый, а другой все время возвращается.
— Тогда зачем ему новый? Старый сгодится, он же еще в порядке.
— Ладно. Замнем.
Он терпеливо и недоверчиво покачал головой, а я забыла, что собиралась думать не о крабах, и сосредоточилась на этих чудищах. Приятно вспомнить, что в тот день мы наловили две полных корзинки, один лучше другого.
Никто не заставлял меня отдавать все заработанные деньги, но я отдавала. Сперва, наверное, мне в голову не пришло, что можно откладывать. Мы еле-еле сводили концы с концами, и я гордилась, что помогаю семье. Мама и папа всегда меня благодарили, хотя не особо на меня рассчитывали. Помню, когда бабушка разворчится, я молчала, как иначе, но думала, что зарабатываю, а они с Каролиной, в сущности, приживалки. Какое-никакое, но утешение.
Однако никто не велел мне класть в копилку все монетки до единой.
Почему же я так терзалась? Разве я не имела права оставить что-то себе из трудно заработанных денег? Да, а вдруг Отис скажет папе, сколько он у нас купил? Что, если мама Крика похвастается нашей, сколько он теперь приносит? Деньги свои я делила ровно пополам. Если не получалось, лишнее шло в копилку. Клала я примерно столько же, сколько в прошлом году, но не приносила маме, чтобы она их гордо пересчитывала и клала в копилку. Теперь туда совала я, а потом говорила: «Да, кстати, я там в горшке кое-что оставила». Мама меня благодарила, тихо, как всегда. Я ни разу не сказала, что положила все деньги, я ведь не врала. Но никто и не спрашивал.
Если бы только можно было как-нибудь еще заработать! Крику не понравились мои стихи, и я сразу выдохлась. Конечно, я знала, что в поэзии он разбирается не лучше, чем в юморе, то есть просто ничего не смыслит, но только ему из всех людей я решилась прочитать их. Ну, сказал бы: «Я стихов не понимаю, но звучит приятно». Вежливо, в сущности — честно, а мне — поддержка, когда я в ней так нуждаюсь.
Пришлось мне подождать недели две, собраться, опять переписать стихи на листочке из записной книжки и послать их в издательство. Они еще не могли дойти до Нью-Йорка, когда я уже рыскала у доков, ждала парома, на котором привозили почту. Спросить капитана Билли, есть ли мне письма, я не решалась, но прикинула — если просто стоять там, он меня увидит и скажет. Я не знала, что он не открывает мешок, только относит на почту, миссис Келлам. А вот про нее я знала, что она редкостная сплетница, и тряслась при одной мысли, что она спросит бабушку, какие-такие письма приходят мне из Нью-Йорка.
Примерно в те дни балтиморская газета «Сан» (она запаздывала на сутки) оповестила прямо шапками о восьми немецких шпионах. Их доставила во Флориду подводная лодка, а там их чуть не сразу поймали. Я прекрасно знала, что Капитан — не шпион, но, читая, как будто давилась сосулькой. А что, если б он им был? А что, если б мы с Криком поймали его и прославились? Удача промелькнула так близко, что мне вдруг захотелось разузнать о нем побольше. Если он не шпион, если он и правда Хайрем Уоллес, зачем он приехал через столько лет на остров, где его и вспоминают только с брезгливостью?
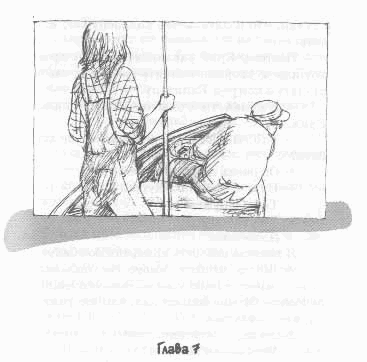
Глава 7
Мы с Криком столько работали на каникулах, что почти не ходили вместе к Капитану. Я знала, что Крик ходит к нему под вечер, по воскресеньям, но мама с папой любили, чтоб я в свободный день сидела дома. Долгие часы перед ужином, когда все спали, очень хороши для стихов. У меня накопилась целая коробка из-под обуви на тот случай, что издательство попросит все, как есть.
Поэтому Крик удивился, когда я предложила во вторник кончить работу на часок раньше и пойти к Капитану.
— Я думал, ты его не любишь, — сказал Крик.
— Что ты, люблю! С чего мне его не любить?
— Он очень здорово шутит.
— Ну и что? Только дурак…
— Так я и думал.
— Что-что?
— Да ничего.
Я решила презреть намеренную обиду.
Поэтому Крик удивился, когда я предложила во вторник кончить работу на часок раньше и пойти к Капитану.
— Я думал, ты его не любишь, — сказал Крик.
— Что ты, люблю! С чего мне его не любить?
— Он очень здорово шутит.
— Ну и что? Только дурак…
— Так я и думал.
— Что-что?
— Да ничего.
Я решила презреть намеренную обиду.
