Страница:
— В школе будет еще хуже. Я всегда была там чужая.
Как ни жаль, я волновалась все больше.
— И я их терпеть не могу, и они меня.
Ну, вот. Это уж слишком. Не настолько они меня замечали. Иногда смеялись надо мной, но что до ненависти…
Мама выпрямилась и пошла застирать платье.
— Наверное, я смогу, — сказала она через какое-то время. — Смогу тебя учить, если мисс Хэзел даст книги. Капитан Уоллес мог бы взять математику…
— А ты не потянешь?
Я больше не была влюблена в Капитана, но не хотела с ним так тесно общаться, сидеть вдвоем. Все-таки боль еще не прошла.
— Нет, — сказала мама. — Математику — не могу. А кого теперь найдешь, в такое время?
Она очень старалась говорить так, чтобы не показалось, что она смеется над невежеством местных жителей.
Не помню, как уговорила она мисс Хэзел, та была очень обидчива и гордилась тем, что только она на острове может преподавать в средней школе. Может быть, мама сыграла на том, что я часто пропускаю занятия. Как бы то ни было, вернулась она с учебниками, и начались наши уроки на кухонном столе.
Что до Капитана, мама ходила туда со мной, она очень пеклась о приличиях. Мы с ним занимались, она вязала, а потом они болтали, ни о каких картах речи быть не могло. Он интересовался вестями от Каролины, которая процветала в Балтиморе, как, по словам Иеремии, процветают одни нечестивые[14]. Писала она редко и наспех, все больше — о своих успехах. Капитан сообщал нам о Крике, который писал ему примерно так же часто, как моя сестрица — нам. Когда писем долго не было мама и Капитан начинали спрашивать друг друга: «А я вам говорил?..», «А я вам читала, как она?..» Из-за цензуры Крик не мог сообщить, где он и что делает, но я представляла себе все это и тряслась от страха. Капитан бывал в морских боях и его они не столько пугали, сколько занимали.
Тогда, зимой 44-го, на устриц осталось немного дней. В конце марта — начале апреля папа наловил и засолил мелкой сельди крабам на наживку, отремонтировал мотор на «Порции» и приспособил ее для крабов. Справившись с наживкой, он несколько дней ловил рыбу, чтобы чем-нибудь заняться, и кое-что поделал по дому. А я побольше училась, пока крабов нет. Тогда уж мне пришлось бы торчать на поплавках или в домике.
Мама услышала про высадку союзников[15] по нашему старому приемнику и пошла в крабий домик, сказать мне. Кажется, она радовалась больше, чем я. Для меня второй фронт значил только, что еще кого-то убьют. И вообще, что мне война в Европе?

Глава 16
Глава 17
Как ни жаль, я волновалась все больше.
— И я их терпеть не могу, и они меня.
Ну, вот. Это уж слишком. Не настолько они меня замечали. Иногда смеялись надо мной, но что до ненависти…
Мама выпрямилась и пошла застирать платье.
— Наверное, я смогу, — сказала она через какое-то время. — Смогу тебя учить, если мисс Хэзел даст книги. Капитан Уоллес мог бы взять математику…
— А ты не потянешь?
Я больше не была влюблена в Капитана, но не хотела с ним так тесно общаться, сидеть вдвоем. Все-таки боль еще не прошла.
— Нет, — сказала мама. — Математику — не могу. А кого теперь найдешь, в такое время?
Она очень старалась говорить так, чтобы не показалось, что она смеется над невежеством местных жителей.
Не помню, как уговорила она мисс Хэзел, та была очень обидчива и гордилась тем, что только она на острове может преподавать в средней школе. Может быть, мама сыграла на том, что я часто пропускаю занятия. Как бы то ни было, вернулась она с учебниками, и начались наши уроки на кухонном столе.
Что до Капитана, мама ходила туда со мной, она очень пеклась о приличиях. Мы с ним занимались, она вязала, а потом они болтали, ни о каких картах речи быть не могло. Он интересовался вестями от Каролины, которая процветала в Балтиморе, как, по словам Иеремии, процветают одни нечестивые[14]. Писала она редко и наспех, все больше — о своих успехах. Капитан сообщал нам о Крике, который писал ему примерно так же часто, как моя сестрица — нам. Когда писем долго не было мама и Капитан начинали спрашивать друг друга: «А я вам говорил?..», «А я вам читала, как она?..» Из-за цензуры Крик не мог сообщить, где он и что делает, но я представляла себе все это и тряслась от страха. Капитан бывал в морских боях и его они не столько пугали, сколько занимали.
Тогда, зимой 44-го, на устриц осталось немного дней. В конце марта — начале апреля папа наловил и засолил мелкой сельди крабам на наживку, отремонтировал мотор на «Порции» и приспособил ее для крабов. Справившись с наживкой, он несколько дней ловил рыбу, чтобы чем-нибудь заняться, и кое-что поделал по дому. А я побольше училась, пока крабов нет. Тогда уж мне пришлось бы торчать на поплавках или в домике.
Мама услышала про высадку союзников[15] по нашему старому приемнику и пошла в крабий домик, сказать мне. Кажется, она радовалась больше, чем я. Для меня второй фронт значил только, что еще кого-то убьют. И вообще, что мне война в Европе?

Глава 16
Осенью 1944 года Рузвельта избрали на четвертый срок, хотя весь наш остров, верный себе, голосовал за республиканцев. Однако весной, в апреле, когда он умер, мы горевали вместе со всей страной. Услышав новости, я вспомнила, как в тот, первый день мы стояли с сестрой перед радио, держась за руки. Тогда, зимой 41-го, кончилось наше детство. Сейчас меня пробрал такой же самый озноб.
Через несколько дней после смерти Рузвельта я получила единственное письмо от Крика и удивилась, распечатывая конверт, что руки у меня трясутся. Мне даже пришлось уйти из гостиной, от мамы с бабушкой, в кухню. Письмо было очень короткое.
30 апреля Гитлер покончил с собой, а меня допустили к выпускным экзаменам. Отметки, к большой моей радости, оказались такие, каких у нас отроду не бывало. Маме сообщила об этом не мисс Хэзел, а тетка из города, которая сидела на экзаменах и потрудилась поздравить меня по почте.
Еще через восемь дней война в Европе кончилась, но эту новость затмевало то, что чуть раньше Каролину приняли на полный пансион в Нью-йоркский музыкальный колледж.
У меня гора с плеч свалилась, словно больше никто не потребует жертв ради сестры. Мама и папа думали, что она приедет отдохнуть на лето, но ей предложили поучиться в летней школе, в Пибоди, и ее маэстро считал, что нельзя упускать такую возможность. Родители, конечно, расстроились, а я — нет. Война быстро двигалась к концу[16]. Я не сомневалась, что со дня на день явится Крик.
Почему я так его жду, я сказать не могла бы. Мне казалось, что последние два года прошли впустую, а теперь, узнав забытые чувства, ощутила, что была в спячке. Может быть, когда Крик приедет… да, может быть… ну, по меньшей мере, он будет вместо меня помогать папе. Тот только обрадуется, все ж — мужчина. А я… Чего я, в сущности, хотела? Я могла бы уехать с острова. Могла бы увидеть горы. Могла бы поступить на службу в Балтиморе или в столице… если бы вздумала. Уехать с острова… От этой мысли меня опять пробрал озноб, но я ее отвергла.
Каждый вечер я поливала руки лосьоном и спала в старых маминых перчатках, белых, тонких, может быть — тех, что она надевала на свадьбу. Нет, правда, все может быть! Глупо, думала я, становиться новой тетушкой Брэкстон. Я молода, я умна, вон какие отметки. Если я захочу, я сама, без Божьей и без человеческой помощи, завоюю маленький кусочек мира. Руки мягче не становились, но и я не сдавалась.
Что-то творилось и с бабушкой. Вдруг ей померещилось, что мужа у нее увел никто иной, как мама. Помню, вернулась я домой из крабьего домика и увидела, что мама пытается печь хлеб, именно пытается — был август, стояла жара, лицо у мамы блестело от пота, волосы слиплись. А бабушка читала ей так громко, что я услышала с улицы, шестую главу Притч Соломоновых, самый конец, где говорится о «безумии блуда».
— Может ли кто взять себе огонь за пазуху, чтобы не прогорело платье его? — кричала бабушка, когда я вошла черным ходом. Мы привыкли, что она читает Библию, но обычно она выбирала не такие яркие места. Я не поняла, что происходит, пока, увидев меня, она не возопила:
— Скажи этой прелюбодейке, чтобы она слушала Слово Божие!
И перешла к главе седьмой, где речь идет о юноше, которого соблазнила «женщина в наряде блудницы, с коварным сердцем».
Я посмотрела на бедную маму, которая с трудом вытягивала несколько хлебов из печи, и только так удержалась от смеха. Сьюзен Брэдшо в роли блудницы! Шутка, усекла? Чтобы скрыть, что я все-таки хихикаю, я стала бренчать сковородками, словно хотела помочь с ужином.
Подняв глаза, я увидела в дверях папу. Он вроде бы ждал и смотрел, решая, что же ему делать.
Не разуваясь, прямо в сапогах, папа направился к нам через гостиную и, словно ему все это неважно, поцеловал маму в то место, где из тугого пучка выбивалась прядка волос. Он что-то ей прошептал. Она невесело улыбнулась.
— Доколе стрела не пронзит печени его… — говорила бабушка.
— Печени? — в комическом ужасе переспросил папа. Потом, внезапно став серьезным, обратился к бабушке:
— Мама, ваш ужин на столе.
Кажется, ее немного испугал его голос, но она решила докончить жуткую главу, хотя и не хотела упустить возможности лишний раз поесть.
— Дом ее — пути в преисподнюю….
Папа мягко забрал у нее Библию и поставил на полку над ее головой.
Она отпрянула от него, как напуганный ребенок, но он взял ее за руку и повел к столу, помог сесть в кресло. Это, судя по всему, ей понравилось. Она торжествующе взглянула на маму и набросилась на еду.
Папа улыбнулся маме через стол. Она откинула от лица влажные волосы и улыбнулась ему в ответ. Я смотрела вниз. Нельзя же, нельзя же! Бабушка вас увидит! Только ли из-за этого, из-за старушечьих глупостей, мне хотелось плакать?
Как ни странно, нам стало полегче, когда мы услышали о Хиросиме. Бабушка перекинулась от Притч к Откровению, призывая нас сразиться с другой блудницей, Вавилонской, которую как-то отождествляла с Папой Римским, и постоянно повторяла: «Готовьтесь встретить Господа!» Быстро перелистав свою потертую Библию, она нашла, что обрушится нам на голову, прочитала о том, как потемнеет солнце, а луна обратится в кровь[17]. Откуда ей было знать, что день гнева Господня все ж лучше обвинений в распутстве и прелюбодеянии? Католиков на острове не было, конец света представить трудно, и мы не принимали ее слов к сердцу.
Когда заключили мир с Японией, мы все равно работали — в заливе были крабы, они начинали линять. Но поужинали мы в тот день с особым удовольствием. Под самый конец, папа повернулся ко мне и сказал, словно мир принес нам богатство:
— Ну, Луиза, что будем делать?
— Делать? — переспросила я, гадая, не хочет ли он от меня избавиться.
— Да, — сказал папа. — Ты уже выросла. Я не могу держать тебя при себе.
— Ничего, — сказала я. — Мне хорошо на острове, я не против.
— А я против, — спокойно сказал он. — Спасибо тебе за помощь.
— Когда Крик вернется, — сказала мама, и сердце у меня забилось, — он будет работать с папой, а ты куда-нибудь съездишь. Хорошо? Ты бы хотела?
Съезжу… Я никогда не бывала дальше Солсбери.
— Можешь поехать в Нью-Йорк, повидать Каролину, — не унималась мама.
— Да, могу… — сказала я. Мне не хотелось ее огорчать, и я не призналась, что мне не нужны ни Нью-Йорк, ни моя сестрица. Я давно мечтала о горах. А вдруг, уехав подальше, я увижу хоть одну горку?
В самом конце крабьего сезона вернулся Крик. Я сидела в домике и скучала, крабов почти не было, когда кто-то встал в дверях, застя свет. Высокий мужчина в военной форме басовито засмеялся, но я узнала этот смех, а потом — и голос.
— Фу-ты, ну-ты, хр-р-абрый кр-р-аб! — сказал он. — Усекла?
— Крик! — завопила я и вскочила, чуть не свалив коробки, стоящие друг на друге. Он хотел меня обнять, но тут я смутилась.
— Ой, Господи, какой ты высокий! — сказала я, чтобы это скрыть.
От него пахло чем-то мужским и чистым, а от меня — соленой водой и крабами, чем же еще? Я вытерла руки о штаны и предложила:
— Давай пойдем отсюда.
Он огляделся и спросил:
— А ты можешь?
— Ну, конечно! — ответила я. — Их набирается в два часа коробка.
Мы пошли по доскам дотуда, где был привязан ялик. Крик помог мне сесть, словно я — дама какая-нибудь, потом прыгнул к рулю и взял багор. Так он и стоял, в форме младшего офицера, — высокий, с жутко широкими плечами, с узкими бедрами, фуражка сдвинута на затылок, солнце золотит рыжую прядку. Ярко-голубые глаза улыбались мне; нос по неизвестным причинам уже не торчал. Я поняла, что смотрю на него, а ему это нравится, и растерянно отвернулась.
Он засмеялся.
— Знаешь, ты все такая же, — весело сказал он. Наверное, он думал, что я обрадуюсь, но, по меньшей мере, ошибся. Сам он за эти годы повзрослел, похорошел, и со мною должно было бы что-то случиться. Я засунула под мышки, крест-накрест, шершавые, как песок, руки.
— Что ж ты ничего не спросишь? — сказал Крик как-то лукаво, словно он меня подначивает. Я рассердилась.
— Ладно, — отвечала я, стараясь это скрыть. — Ну, где бывал, что видел?
— Видел? Все острова, какие только есть.
— И вернулся на самый распрекрасный?
— Ага, — рассеянно отозвался он. — А его скоро затопит.
— Совсем немножко, — упрямо сказала я. — Там, к югу.
— Да ты что, Лис! Открой глаза. За два года целого ярда нету. Еще одна буря…
Я сердилась. Ну, что ж это, честное слово! Нельзя приехать через два года и сообщить своей матери, что ей недолго жить.
Не знаю, что увидел он на моем лице, но сказала я только:
— Наверное, уже ходил к Капитану?
— Нет, сперва зашел за тобой. Пойдем к нему вместе, а? Как в старое время, — он переместил багор к левому борту. — Наверное, состарился?
— А ты как думал?
— Фу-ты, ну-ты, храбрый краб! — повторил он, стараясь меня рассмешить.
— Ему скоро восемьдесят, — сказала я и прибавила: — Я оставлю ялик на воде, так проще.
Он кивнул и направил лодку к главному причалу.
— Сдал он после ее смерти, как по-твоему?
Теперь он раздражал меня, как в детстве.
— Ну, не сказала бы.
Он покосился на меня.
— Сдал, сдал, сама знаешь. Мы с Каролиной давно заметили. Совсем не тот.
— Каролина, — сказала я, чтобы переменить тему, готовая даже похвастаться ее успехами, — Каролина учится в Нью-Йорке, в музыкальном колледже.
— Да, знаю, — кивнул он. — Называется Джиллиард.
Я хотела спросить, откуда он знает, но не решилась; а потому выпрыгнула на берег и привязала лодку рядом с тем местом, где папа привязывал «Порцию». Крик положил багор и вылез вслед за мной.
Молча пошли мы по узкой улочке, у ворот я остановилась.
— Пойду сперва переоденусь.
— Конечно, — сказал Крик.
Я принесла наверх побольше воды, чтобы вымыться, как следует. Внизу новый, низкий голос Крика рокотал в ответ мягкому маминому контральто, а время от времени их прерывало резкое стаккато бабушки. Слов, как я ни старалась, разобрать не удалось. Воскресное платье, которое я не надевала почти два года, стало узковато в груди и в плечах. Я едва взглянула в зеркало, сперва — на темное лицо, потом — на выцветшие волосы, и постаралась их кое-как уложить, смочив водой. Потом вылила побольше лосьона на руки, даже на локти, на ноги, на лицо, надеясь, ко всему прочему, что дешевый аромат отобьет запах крабов.
На лестнице я спотыкалась. Бабушка, мама и Крик посмотрели наверх. Мама улыбнулась и хотела что-то сказать, уже приоткрыла рот, но я остановила ее взглядом.
Крик поднялся и воскликнул:
— Вот это да! Совсем другая!
Не совсем удачное замечание. Бабушка приподнялась в качалке.
— Куда ты с ним идешь, Луиза? А? Куда ты идешь?
Я схватила Крика за локоть и потащила к двери.
Голос следовал за нами. Крик тихо смеялся, потом покачал головой, словно нам обоим смешно.
— А вот она все такая же, — сказал он у ворот.
— Куда там, хуже! Как она маму называет…
— Ладно, не обращай внимания, — сказал он, сметая взмахом руки годы унижений.
Капитан встретил меня приветливо, а Крику ужасно обрадовался и обнял его, словно женщину. У нас на острове мужчины не обнимаются, но Крик совсем не смутился. Когда Капитан его отпустил, они оба чуть не плакали.
— Ну!.. — говорил Капитан. — Вот это здорово! Ну…
— Хорошо вернуться домой, — сказал Крик, чтобы прикрыть его растерянность.
— А я молока банку сберег, — сообщил наш хозяин. — Так до сих пор и сберег. Сейчас чайник поставим…
И он направился в кухню.
— Помочь вам? — спросила я, приподнимаясь.
— Нет, нет, что ты! Сиди, развлекай нашего героя, — Капитан засмеялся. — Про Каролину слышал?
— Да. Она вам очень благодарна.
— Это деньги не мои. Труди бы только обрадовалась, что помогла ей с ее музыкой. — Он немного помолчал, потом заглянул в дверь и спросил: — Вы с ней держите связь?
— Я ее видел, — ответил Крик. — Заехал по дороге туда, в Нью-Йорк.
Тело догадалось раньше, чем ум. Мне стало холодно, потом — жарко, сердце страшно забилось.
Крик с Капитаном обсуждали размеры и ужасы Нью-Йорка, но мое тело знало, что говорят они о чем-то куда более ужасном. Капитан принес чай и баночку молока, которую аккуратно проткнул в двух местах сверху. Одна дырочка в крышке — и другая.
— Ну, можно и чайку попить, — сказал он, протягивая чашку на блюдечке сперва мне, потом Крику. — Без молока, э?
— Да, — улыбнулся Крик. — Я теперь совсем взрослый.
— Так, — Капитан осторожно уселся и, стараясь сдержать дрожь в руках, медленно приблизил чашку к губам. — Так… Что же сказала теперь мисс Каролина?
Крик зарделся от радости. Видимо, ему очень хотелось ответить на этот вопрос.
— Она… она сказала: «Да».
Объяснений не требовалось, но я на свою беду все-таки спросила:
— Что «да»? В каком это смысле?
— Ну… — он искоса взглянул на Капитана. — Ну… сама понимаешь. Услышала крик и согласилась.
Капитан трубно засмеялся, выплескивая чай на колени, стряхнул его свободной рукой и посмеялся еще.
— Усекла? — посмелее сказал Крик. — Она…
— Я думаю, — сказала я, — ты всю дорогу выдумывал про этот крик.
Он перестал улыбаться — наверное, потому, что я говорила очень горько.
— Ей только семнадцать, — поспешила я исправить дело.
— В январе будет восемнадцать. Кому он говорит!
— Моя мама вышла замуж, ей шестнадцати не было.
— И моя бабушка, — вредным голосом сказала я. — Прекрасный пример, а? Лучшая реклама ранних браков.
— Сара Луиза, — почти шепотом сказал Капитан.
Я вскочила, и так резко, что комната закружилась. Тут я схватилась за ручку кресла, заливая чаем стол. Доковыляв до кухни, я оставила там чашку и блюдце, потом вернулась, не зная, как замять такую безобразную сцену. Все-таки, нельзя же обрушить все это на меня вот так, одним махом!
— Надо понимать — сказала я, — с папой ты зимой работать не будешь.
— Не буду, — отвечал Крик. — Демобилизуюсь и поступлю там на службу, на полставки. За мое обучение заплатят, так что с этим порядок[18].
— А как же Каролина? Ты о ней подумал? Ей придется бросить ради тебя…
— Ой, Господи! — сказал он. — Что ты такое говоришь? Пусть учится, я ей мешать не буду. Как думали, так и останется. Ты же сама знаешь. Лис! — он очень хотел, чтобы я поняла. — Я ей помогу. Я…
— Дам ей тихую пристань, — подсказал Капитан.
Я фыркнула.
— Это Каролине?
— Она одинока. Лис. Я ей нужен.
«Ты? — думала я. — Ты, Крик?»
Думала я молча, но он услышал.
— Да, конечно, — несмело сказал он. — Конечно, тебе кажется, что Каролина не полюбит… вот такого, — он коротко засмеялся. — Ты невысоко меня ставишь, а Лис?
Если бы я верила в Бога, я бы похулила Его и умерла. А так, я поскорее удрала от них, не домой, а туда, к крабам, где стала портить единственное приличное платье.
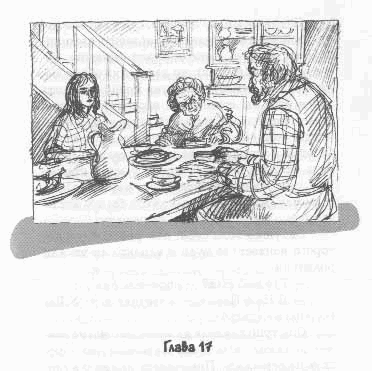
Через несколько дней после смерти Рузвельта я получила единственное письмо от Крика и удивилась, распечатывая конверт, что руки у меня трясутся. Мне даже пришлось уйти из гостиной, от мамы с бабушкой, в кухню. Письмо было очень короткое.
"Дорогой Лис!Усечь-то я усекла, но не засмеялась. На мой взгляд. Крик шутил не очень удачно.
Как ты думаешь, что сказал Франклину Д. Рузвельту апостол Петр? Усекла?
Крик".
30 апреля Гитлер покончил с собой, а меня допустили к выпускным экзаменам. Отметки, к большой моей радости, оказались такие, каких у нас отроду не бывало. Маме сообщила об этом не мисс Хэзел, а тетка из города, которая сидела на экзаменах и потрудилась поздравить меня по почте.
Еще через восемь дней война в Европе кончилась, но эту новость затмевало то, что чуть раньше Каролину приняли на полный пансион в Нью-йоркский музыкальный колледж.
У меня гора с плеч свалилась, словно больше никто не потребует жертв ради сестры. Мама и папа думали, что она приедет отдохнуть на лето, но ей предложили поучиться в летней школе, в Пибоди, и ее маэстро считал, что нельзя упускать такую возможность. Родители, конечно, расстроились, а я — нет. Война быстро двигалась к концу[16]. Я не сомневалась, что со дня на день явится Крик.
Почему я так его жду, я сказать не могла бы. Мне казалось, что последние два года прошли впустую, а теперь, узнав забытые чувства, ощутила, что была в спячке. Может быть, когда Крик приедет… да, может быть… ну, по меньшей мере, он будет вместо меня помогать папе. Тот только обрадуется, все ж — мужчина. А я… Чего я, в сущности, хотела? Я могла бы уехать с острова. Могла бы увидеть горы. Могла бы поступить на службу в Балтиморе или в столице… если бы вздумала. Уехать с острова… От этой мысли меня опять пробрал озноб, но я ее отвергла.
Каждый вечер я поливала руки лосьоном и спала в старых маминых перчатках, белых, тонких, может быть — тех, что она надевала на свадьбу. Нет, правда, все может быть! Глупо, думала я, становиться новой тетушкой Брэкстон. Я молода, я умна, вон какие отметки. Если я захочу, я сама, без Божьей и без человеческой помощи, завоюю маленький кусочек мира. Руки мягче не становились, но и я не сдавалась.
Что-то творилось и с бабушкой. Вдруг ей померещилось, что мужа у нее увел никто иной, как мама. Помню, вернулась я домой из крабьего домика и увидела, что мама пытается печь хлеб, именно пытается — был август, стояла жара, лицо у мамы блестело от пота, волосы слиплись. А бабушка читала ей так громко, что я услышала с улицы, шестую главу Притч Соломоновых, самый конец, где говорится о «безумии блуда».
— Может ли кто взять себе огонь за пазуху, чтобы не прогорело платье его? — кричала бабушка, когда я вошла черным ходом. Мы привыкли, что она читает Библию, но обычно она выбирала не такие яркие места. Я не поняла, что происходит, пока, увидев меня, она не возопила:
— Скажи этой прелюбодейке, чтобы она слушала Слово Божие!
И перешла к главе седьмой, где речь идет о юноше, которого соблазнила «женщина в наряде блудницы, с коварным сердцем».
Я посмотрела на бедную маму, которая с трудом вытягивала несколько хлебов из печи, и только так удержалась от смеха. Сьюзен Брэдшо в роли блудницы! Шутка, усекла? Чтобы скрыть, что я все-таки хихикаю, я стала бренчать сковородками, словно хотела помочь с ужином.
Подняв глаза, я увидела в дверях папу. Он вроде бы ждал и смотрел, решая, что же ему делать.
Не разуваясь, прямо в сапогах, папа направился к нам через гостиную и, словно ему все это неважно, поцеловал маму в то место, где из тугого пучка выбивалась прядка волос. Он что-то ей прошептал. Она невесело улыбнулась.
— Доколе стрела не пронзит печени его… — говорила бабушка.
— Печени? — в комическом ужасе переспросил папа. Потом, внезапно став серьезным, обратился к бабушке:
— Мама, ваш ужин на столе.
Кажется, ее немного испугал его голос, но она решила докончить жуткую главу, хотя и не хотела упустить возможности лишний раз поесть.
— Дом ее — пути в преисподнюю….
Папа мягко забрал у нее Библию и поставил на полку над ее головой.
Она отпрянула от него, как напуганный ребенок, но он взял ее за руку и повел к столу, помог сесть в кресло. Это, судя по всему, ей понравилось. Она торжествующе взглянула на маму и набросилась на еду.
Папа улыбнулся маме через стол. Она откинула от лица влажные волосы и улыбнулась ему в ответ. Я смотрела вниз. Нельзя же, нельзя же! Бабушка вас увидит! Только ли из-за этого, из-за старушечьих глупостей, мне хотелось плакать?
Как ни странно, нам стало полегче, когда мы услышали о Хиросиме. Бабушка перекинулась от Притч к Откровению, призывая нас сразиться с другой блудницей, Вавилонской, которую как-то отождествляла с Папой Римским, и постоянно повторяла: «Готовьтесь встретить Господа!» Быстро перелистав свою потертую Библию, она нашла, что обрушится нам на голову, прочитала о том, как потемнеет солнце, а луна обратится в кровь[17]. Откуда ей было знать, что день гнева Господня все ж лучше обвинений в распутстве и прелюбодеянии? Католиков на острове не было, конец света представить трудно, и мы не принимали ее слов к сердцу.
Когда заключили мир с Японией, мы все равно работали — в заливе были крабы, они начинали линять. Но поужинали мы в тот день с особым удовольствием. Под самый конец, папа повернулся ко мне и сказал, словно мир принес нам богатство:
— Ну, Луиза, что будем делать?
— Делать? — переспросила я, гадая, не хочет ли он от меня избавиться.
— Да, — сказал папа. — Ты уже выросла. Я не могу держать тебя при себе.
— Ничего, — сказала я. — Мне хорошо на острове, я не против.
— А я против, — спокойно сказал он. — Спасибо тебе за помощь.
— Когда Крик вернется, — сказала мама, и сердце у меня забилось, — он будет работать с папой, а ты куда-нибудь съездишь. Хорошо? Ты бы хотела?
Съезжу… Я никогда не бывала дальше Солсбери.
— Можешь поехать в Нью-Йорк, повидать Каролину, — не унималась мама.
— Да, могу… — сказала я. Мне не хотелось ее огорчать, и я не призналась, что мне не нужны ни Нью-Йорк, ни моя сестрица. Я давно мечтала о горах. А вдруг, уехав подальше, я увижу хоть одну горку?
В самом конце крабьего сезона вернулся Крик. Я сидела в домике и скучала, крабов почти не было, когда кто-то встал в дверях, застя свет. Высокий мужчина в военной форме басовито засмеялся, но я узнала этот смех, а потом — и голос.
— Фу-ты, ну-ты, хр-р-абрый кр-р-аб! — сказал он. — Усекла?
— Крик! — завопила я и вскочила, чуть не свалив коробки, стоящие друг на друге. Он хотел меня обнять, но тут я смутилась.
— Ой, Господи, какой ты высокий! — сказала я, чтобы это скрыть.
От него пахло чем-то мужским и чистым, а от меня — соленой водой и крабами, чем же еще? Я вытерла руки о штаны и предложила:
— Давай пойдем отсюда.
Он огляделся и спросил:
— А ты можешь?
— Ну, конечно! — ответила я. — Их набирается в два часа коробка.
Мы пошли по доскам дотуда, где был привязан ялик. Крик помог мне сесть, словно я — дама какая-нибудь, потом прыгнул к рулю и взял багор. Так он и стоял, в форме младшего офицера, — высокий, с жутко широкими плечами, с узкими бедрами, фуражка сдвинута на затылок, солнце золотит рыжую прядку. Ярко-голубые глаза улыбались мне; нос по неизвестным причинам уже не торчал. Я поняла, что смотрю на него, а ему это нравится, и растерянно отвернулась.
Он засмеялся.
— Знаешь, ты все такая же, — весело сказал он. Наверное, он думал, что я обрадуюсь, но, по меньшей мере, ошибся. Сам он за эти годы повзрослел, похорошел, и со мною должно было бы что-то случиться. Я засунула под мышки, крест-накрест, шершавые, как песок, руки.
— Что ж ты ничего не спросишь? — сказал Крик как-то лукаво, словно он меня подначивает. Я рассердилась.
— Ладно, — отвечала я, стараясь это скрыть. — Ну, где бывал, что видел?
— Видел? Все острова, какие только есть.
— И вернулся на самый распрекрасный?
— Ага, — рассеянно отозвался он. — А его скоро затопит.
— Совсем немножко, — упрямо сказала я. — Там, к югу.
— Да ты что, Лис! Открой глаза. За два года целого ярда нету. Еще одна буря…
Я сердилась. Ну, что ж это, честное слово! Нельзя приехать через два года и сообщить своей матери, что ей недолго жить.
Не знаю, что увидел он на моем лице, но сказала я только:
— Наверное, уже ходил к Капитану?
— Нет, сперва зашел за тобой. Пойдем к нему вместе, а? Как в старое время, — он переместил багор к левому борту. — Наверное, состарился?
— А ты как думал?
— Фу-ты, ну-ты, храбрый краб! — повторил он, стараясь меня рассмешить.
— Ему скоро восемьдесят, — сказала я и прибавила: — Я оставлю ялик на воде, так проще.
Он кивнул и направил лодку к главному причалу.
— Сдал он после ее смерти, как по-твоему?
Теперь он раздражал меня, как в детстве.
— Ну, не сказала бы.
Он покосился на меня.
— Сдал, сдал, сама знаешь. Мы с Каролиной давно заметили. Совсем не тот.
— Каролина, — сказала я, чтобы переменить тему, готовая даже похвастаться ее успехами, — Каролина учится в Нью-Йорке, в музыкальном колледже.
— Да, знаю, — кивнул он. — Называется Джиллиард.
Я хотела спросить, откуда он знает, но не решилась; а потому выпрыгнула на берег и привязала лодку рядом с тем местом, где папа привязывал «Порцию». Крик положил багор и вылез вслед за мной.
Молча пошли мы по узкой улочке, у ворот я остановилась.
— Пойду сперва переоденусь.
— Конечно, — сказал Крик.
Я принесла наверх побольше воды, чтобы вымыться, как следует. Внизу новый, низкий голос Крика рокотал в ответ мягкому маминому контральто, а время от времени их прерывало резкое стаккато бабушки. Слов, как я ни старалась, разобрать не удалось. Воскресное платье, которое я не надевала почти два года, стало узковато в груди и в плечах. Я едва взглянула в зеркало, сперва — на темное лицо, потом — на выцветшие волосы, и постаралась их кое-как уложить, смочив водой. Потом вылила побольше лосьона на руки, даже на локти, на ноги, на лицо, надеясь, ко всему прочему, что дешевый аромат отобьет запах крабов.
На лестнице я спотыкалась. Бабушка, мама и Крик посмотрели наверх. Мама улыбнулась и хотела что-то сказать, уже приоткрыла рот, но я остановила ее взглядом.
Крик поднялся и воскликнул:
— Вот это да! Совсем другая!
Не совсем удачное замечание. Бабушка приподнялась в качалке.
— Куда ты с ним идешь, Луиза? А? Куда ты идешь?
Я схватила Крика за локоть и потащила к двери.
Голос следовал за нами. Крик тихо смеялся, потом покачал головой, словно нам обоим смешно.
— А вот она все такая же, — сказал он у ворот.
— Куда там, хуже! Как она маму называет…
— Ладно, не обращай внимания, — сказал он, сметая взмахом руки годы унижений.
Капитан встретил меня приветливо, а Крику ужасно обрадовался и обнял его, словно женщину. У нас на острове мужчины не обнимаются, но Крик совсем не смутился. Когда Капитан его отпустил, они оба чуть не плакали.
— Ну!.. — говорил Капитан. — Вот это здорово! Ну…
— Хорошо вернуться домой, — сказал Крик, чтобы прикрыть его растерянность.
— А я молока банку сберег, — сообщил наш хозяин. — Так до сих пор и сберег. Сейчас чайник поставим…
И он направился в кухню.
— Помочь вам? — спросила я, приподнимаясь.
— Нет, нет, что ты! Сиди, развлекай нашего героя, — Капитан засмеялся. — Про Каролину слышал?
— Да. Она вам очень благодарна.
— Это деньги не мои. Труди бы только обрадовалась, что помогла ей с ее музыкой. — Он немного помолчал, потом заглянул в дверь и спросил: — Вы с ней держите связь?
— Я ее видел, — ответил Крик. — Заехал по дороге туда, в Нью-Йорк.
Тело догадалось раньше, чем ум. Мне стало холодно, потом — жарко, сердце страшно забилось.
Крик с Капитаном обсуждали размеры и ужасы Нью-Йорка, но мое тело знало, что говорят они о чем-то куда более ужасном. Капитан принес чай и баночку молока, которую аккуратно проткнул в двух местах сверху. Одна дырочка в крышке — и другая.
— Ну, можно и чайку попить, — сказал он, протягивая чашку на блюдечке сперва мне, потом Крику. — Без молока, э?
— Да, — улыбнулся Крик. — Я теперь совсем взрослый.
— Так, — Капитан осторожно уселся и, стараясь сдержать дрожь в руках, медленно приблизил чашку к губам. — Так… Что же сказала теперь мисс Каролина?
Крик зарделся от радости. Видимо, ему очень хотелось ответить на этот вопрос.
— Она… она сказала: «Да».
Объяснений не требовалось, но я на свою беду все-таки спросила:
— Что «да»? В каком это смысле?
— Ну… — он искоса взглянул на Капитана. — Ну… сама понимаешь. Услышала крик и согласилась.
Капитан трубно засмеялся, выплескивая чай на колени, стряхнул его свободной рукой и посмеялся еще.
— Усекла? — посмелее сказал Крик. — Она…
— Я думаю, — сказала я, — ты всю дорогу выдумывал про этот крик.
Он перестал улыбаться — наверное, потому, что я говорила очень горько.
— Ей только семнадцать, — поспешила я исправить дело.
— В январе будет восемнадцать. Кому он говорит!
— Моя мама вышла замуж, ей шестнадцати не было.
— И моя бабушка, — вредным голосом сказала я. — Прекрасный пример, а? Лучшая реклама ранних браков.
— Сара Луиза, — почти шепотом сказал Капитан.
Я вскочила, и так резко, что комната закружилась. Тут я схватилась за ручку кресла, заливая чаем стол. Доковыляв до кухни, я оставила там чашку и блюдце, потом вернулась, не зная, как замять такую безобразную сцену. Все-таки, нельзя же обрушить все это на меня вот так, одним махом!
— Надо понимать — сказала я, — с папой ты зимой работать не будешь.
— Не буду, — отвечал Крик. — Демобилизуюсь и поступлю там на службу, на полставки. За мое обучение заплатят, так что с этим порядок[18].
— А как же Каролина? Ты о ней подумал? Ей придется бросить ради тебя…
— Ой, Господи! — сказал он. — Что ты такое говоришь? Пусть учится, я ей мешать не буду. Как думали, так и останется. Ты же сама знаешь. Лис! — он очень хотел, чтобы я поняла. — Я ей помогу. Я…
— Дам ей тихую пристань, — подсказал Капитан.
Я фыркнула.
— Это Каролине?
— Она одинока. Лис. Я ей нужен.
«Ты? — думала я. — Ты, Крик?»
Думала я молча, но он услышал.
— Да, конечно, — несмело сказал он. — Конечно, тебе кажется, что Каролина не полюбит… вот такого, — он коротко засмеялся. — Ты невысоко меня ставишь, а Лис?
Если бы я верила в Бога, я бы похулила Его и умерла. А так, я поскорее удрала от них, не домой, а туда, к крабам, где стала портить единственное приличное платье.
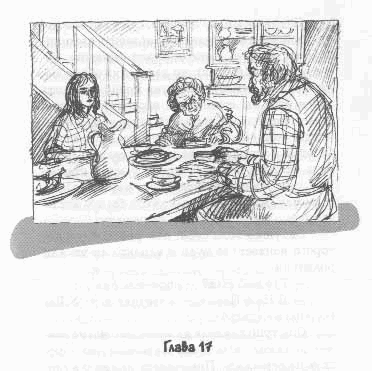
Глава 17
Крика демобилизовали позже, чем он думал, так что поженились они с Каролиной в сочельник 1946 года. Мама и папа поехали на свадьбу, в капеллу Джиллиардского колледжа. Судя по рассказам, церемония была скромная и бедная, если не считать таких богатств, как Бах и Моцарт, которыми всех одарили каролинины друзья.
Я осталась при бабушке, сама так захотела. Родители предлагали пригласить кого-нибудь из соседок, даже остаться (конечно, кому-то одному из них), но явственно обрадовались моему отказу. Бабушка могла отмочить такое, что мы стеснялись обременять людей даже ненадолго. Кроме того, папа с мамой никогда толком не путешествовали вместе. Об этом я узнала, когда они вернулись. Двадцать второго декабря, прося у меня прощения, они уехали. Может быть, моя душа, мозолистая, как руки, выдержала бы это испытание, но все же лучше не проверять.
Бабушка вела себя, как ребенок, от которого неизвестно куда и надолго ли уехали родители.
— Где мой сын? — спросила она.
— В Нью-Йорке, — отвечала я. — У Каролины на свадьбе.
Она тупо глядела на меня, словно не совсем понимая, кто такая Каролина, но спросить не решалась. Покачалась немного в своем кресле, теребя нитки из шали, а потом осведомилась:
— Где Сьюзен?
— Да в Нью-Йорке, с папой!
— В Нью-Йорке?
— На каролининой свадьбе.
— Да, да! — фыркнула она. — Знаю. Почему они меня бросили?
— Потому что ты не любишь ездить по железной дороге, особенно зимой.
— Я воду терпеть не могу! — сказала она, истово соблюдая устаревший ритуал. Потом остановила качалку, склонила голову набок и спросила:
— А ты почему здесь?
— Чтобы ты не оставалась одна.
— Гм-ф!.. — она опять фыркнула и натянула на плечи шаль. — За мной смотреть не надо, я вам не краб.
Я представила ее себе в виде линяющего краба. Надо бы кому-нибудь рассказать. Усек, а?
— Что ты там пилишь?
— Я просто палочку строгаю.
На самом деле это была почти прямая ветка. Я ее выловила из воды и решила сделать бабушке палку. Сейчас я подстелила газету, чтобы все толком подравнять, а уж потом — отшлифовать песком.
— Давно я старого нехристя не видала, — сказала бабушка. — Умер, наверное, как и все.
— Нет, капитан Уоллес жив и здоров.
— Чего ж к нам не ходит? — она вздохнула. — Загордился! На что ему такие старухи?
— Я думала, ты его не любишь, — сказала я, оставив работу.
— Это верно, не люблю. Очень много о себе думает. Слишком хорош для девицы, у которой отец лодку себе купить не может.
— Ты про что, бабушка?
— На меня и не взглянул, старый нехристь.
Мне показалось, что с узкой тропинки я вдруг ступила в трясину.
— Когда, бабушка? Сейчас?
— Ничего ты не понимаешь. На что он мне сейчас? Тогда… раньше…
— Ты гораздо моложе его, — сказала я, все еще стараясь не сорваться с тропинки.
Она сверкнула на меня глазами.
— Ничего, подросла бы!
Голос у нее был, как у упрямого ребенка.
— Сбежал, когда и речи быть не могло, — она опустила голову на искривленные руки и заплакала. — А я потом стала красивая! В тринадцать лет я была тут лучше всех, — она порыдала, — а он-то уехал. Два года ждала, потом вышла за Уильяма, а его все нет да нет…
Она утерла глаза шалью и откинула голову, глядя в потолок.
— Тогда — да, тогда был слишком стар, а теперь, наверное, слишком молод. Теперь ему подавай вертихвосток, вроде вас с сестрицей. Ой, Господи, какой человек злой!
Что было делать? Сколько она меня обижала, а теперь, когда ее мучала детская любовь, мне захотелось обнять ее и утешить. Но я боялась к ней прикоснуться, и стала говорить:
— Знаешь, бабушка, — сказала я, — он охотно с тобой подружится. Он теперь один.
Кажется, она слушала.
— Мы с Криком и Каролиной к нему ходили. Теперь их нет, а мне одной ходить неприлично.
Она подняла голову. Секунду мне казалось, что сейчас я услышу какое-нибудь библейское проклятие, но бабушка откинулась на спинку кресла и пробормотала что-то вроде «неприлично».
Тогда я сделала еще один смелый шаг.
— Давай пригласим его на Рождество, к обеду. Мы с тобой одни, так будет праздничней.
— А он ничего плохого не сделает?
Я не совсем поняла, что она имеет в виду, но обещала, что не сделает.
— Только пусть не кричит, — объяснила она. — Когда ешь, нельзя, чтоб на тебя кричали.
— Конечно, — согласилась я. — Надо его предупредить.
Она хитро улыбнулась.
— Да. Хочет к нам прийти, изволь держаться тихо-мирно.
Не знаю, ощущала ли я когда-нибудь себя такой старой, как на то Рождество. Ребенок у меня, во всяком случае, был совершенно невыносимый — бабушка развернула все свои чары, сомнительные и нестойкие, как плохой товар. Капитан обращался с ней ласково и важно, как подросток, которого теребит младенец, чьим родителям он хочет понравиться. А я была взрослым родителем, изрядно утомленным проделками младенца и упорным терпением подростка.
Но жаловаться я не должна, обед прошел прекрасно. Я раздобыла курицу — в те дни это было нелегко, нафаршировала ее устрицами, наварила картошки, сделала маисовый пудинг (у бабушки в шкафу стояли баночки с кукурузой), рулет и пирог с персиками.
Бабушка устриц вынула и сложила на краю тарелки, сказав при этом:
— Ты же знаешь, я их не люблю.
— Миссис Луиза, — обратился к ней Капитан, — попробуйте, с белым мясом. Очень вкусно!
— Ничего, ничего, — поспешила заметить я. — Не хочется, не ешь. Бог с ними.
— Забери их с моей тарелки!
Я схватила тарелку, унесла в кухню, выбросила несчастных устриц и вернулась, улыбаясь как можно шире.
— Ну, как? — спросила я, когда села на место.
— И маисовый пудинг не люблю, — сказала бабушка. Я растерялась, не зная, забирать ли его с тарелки. — Но съем, — она гордо улыбнулась Капитану. — Я все время ем то, что мне не нравится, — объяснила она ему.
— Прекрасно, — сказал он. — Очень полезно.
Он немного расслабился и ел с удовольствием.
— Нет нашей старой Труди, — сказала бабушка немного погодя. Ни я, ни Капитан не ответили. — Все умирают, — печально закончила она.
— Да, все, — сказал гость.
— Я все боюсь, зальет мне гроб, — продолжала бабушка. — Терпеть не могу воду.
— Вы еще долго проживете, миссис Луиза.
Она криво улыбнулась.
— Да уж, подольше вас. Хотели бы мои годы, а, Хайрем Уоллес?
Он положил вилку и промокнул салфеткой бороду.
— Ну…
— Раньше я была для вас молода и бедна.
— Я был глуп, миссис Луиза, но это дело прошлое.
— Нечего было уезжать. Трус, не трус, а тут вас кое-кто бы и принял.
— Бабушка, хочешь еще курицы?
Она не поддалась на уловку.
— Не все молний боятся.
— Молний?
— А то как же! Срубили у вашего батюшки мачту…
Она захихикала.
— Это было давно, бабушка! Капитан не… рубил.
— Нет, рубил, — сказал он. — Срубил за двадцать минут, а расхлебываю — пятьдесят лет.
Он улыбнулся мне и взял с блюда еще один кусок.
— Хорошо быть старым, — продолжал он. — Молодость — хуже смерти.
— Про что это он, Лис? Я не понимаю.
Капитан положил пирог, дотянулся до искривленной руки и погладил ее большим пальцем.
— Я говорю Луизе то, что только мы с вами знаем. Хорошо быть старыми.
Сперва она удивилась, потом — умилилась, что он противопоставил мне их обоих. Потом — задумалась, что-то припомнила и убрала руку.
Я осталась при бабушке, сама так захотела. Родители предлагали пригласить кого-нибудь из соседок, даже остаться (конечно, кому-то одному из них), но явственно обрадовались моему отказу. Бабушка могла отмочить такое, что мы стеснялись обременять людей даже ненадолго. Кроме того, папа с мамой никогда толком не путешествовали вместе. Об этом я узнала, когда они вернулись. Двадцать второго декабря, прося у меня прощения, они уехали. Может быть, моя душа, мозолистая, как руки, выдержала бы это испытание, но все же лучше не проверять.
Бабушка вела себя, как ребенок, от которого неизвестно куда и надолго ли уехали родители.
— Где мой сын? — спросила она.
— В Нью-Йорке, — отвечала я. — У Каролины на свадьбе.
Она тупо глядела на меня, словно не совсем понимая, кто такая Каролина, но спросить не решалась. Покачалась немного в своем кресле, теребя нитки из шали, а потом осведомилась:
— Где Сьюзен?
— Да в Нью-Йорке, с папой!
— В Нью-Йорке?
— На каролининой свадьбе.
— Да, да! — фыркнула она. — Знаю. Почему они меня бросили?
— Потому что ты не любишь ездить по железной дороге, особенно зимой.
— Я воду терпеть не могу! — сказала она, истово соблюдая устаревший ритуал. Потом остановила качалку, склонила голову набок и спросила:
— А ты почему здесь?
— Чтобы ты не оставалась одна.
— Гм-ф!.. — она опять фыркнула и натянула на плечи шаль. — За мной смотреть не надо, я вам не краб.
Я представила ее себе в виде линяющего краба. Надо бы кому-нибудь рассказать. Усек, а?
— Что ты там пилишь?
— Я просто палочку строгаю.
На самом деле это была почти прямая ветка. Я ее выловила из воды и решила сделать бабушке палку. Сейчас я подстелила газету, чтобы все толком подравнять, а уж потом — отшлифовать песком.
— Давно я старого нехристя не видала, — сказала бабушка. — Умер, наверное, как и все.
— Нет, капитан Уоллес жив и здоров.
— Чего ж к нам не ходит? — она вздохнула. — Загордился! На что ему такие старухи?
— Я думала, ты его не любишь, — сказала я, оставив работу.
— Это верно, не люблю. Очень много о себе думает. Слишком хорош для девицы, у которой отец лодку себе купить не может.
— Ты про что, бабушка?
— На меня и не взглянул, старый нехристь.
Мне показалось, что с узкой тропинки я вдруг ступила в трясину.
— Когда, бабушка? Сейчас?
— Ничего ты не понимаешь. На что он мне сейчас? Тогда… раньше…
— Ты гораздо моложе его, — сказала я, все еще стараясь не сорваться с тропинки.
Она сверкнула на меня глазами.
— Ничего, подросла бы!
Голос у нее был, как у упрямого ребенка.
— Сбежал, когда и речи быть не могло, — она опустила голову на искривленные руки и заплакала. — А я потом стала красивая! В тринадцать лет я была тут лучше всех, — она порыдала, — а он-то уехал. Два года ждала, потом вышла за Уильяма, а его все нет да нет…
Она утерла глаза шалью и откинула голову, глядя в потолок.
— Тогда — да, тогда был слишком стар, а теперь, наверное, слишком молод. Теперь ему подавай вертихвосток, вроде вас с сестрицей. Ой, Господи, какой человек злой!
Что было делать? Сколько она меня обижала, а теперь, когда ее мучала детская любовь, мне захотелось обнять ее и утешить. Но я боялась к ней прикоснуться, и стала говорить:
— Знаешь, бабушка, — сказала я, — он охотно с тобой подружится. Он теперь один.
Кажется, она слушала.
— Мы с Криком и Каролиной к нему ходили. Теперь их нет, а мне одной ходить неприлично.
Она подняла голову. Секунду мне казалось, что сейчас я услышу какое-нибудь библейское проклятие, но бабушка откинулась на спинку кресла и пробормотала что-то вроде «неприлично».
Тогда я сделала еще один смелый шаг.
— Давай пригласим его на Рождество, к обеду. Мы с тобой одни, так будет праздничней.
— А он ничего плохого не сделает?
Я не совсем поняла, что она имеет в виду, но обещала, что не сделает.
— Только пусть не кричит, — объяснила она. — Когда ешь, нельзя, чтоб на тебя кричали.
— Конечно, — согласилась я. — Надо его предупредить.
Она хитро улыбнулась.
— Да. Хочет к нам прийти, изволь держаться тихо-мирно.
Не знаю, ощущала ли я когда-нибудь себя такой старой, как на то Рождество. Ребенок у меня, во всяком случае, был совершенно невыносимый — бабушка развернула все свои чары, сомнительные и нестойкие, как плохой товар. Капитан обращался с ней ласково и важно, как подросток, которого теребит младенец, чьим родителям он хочет понравиться. А я была взрослым родителем, изрядно утомленным проделками младенца и упорным терпением подростка.
Но жаловаться я не должна, обед прошел прекрасно. Я раздобыла курицу — в те дни это было нелегко, нафаршировала ее устрицами, наварила картошки, сделала маисовый пудинг (у бабушки в шкафу стояли баночки с кукурузой), рулет и пирог с персиками.
Бабушка устриц вынула и сложила на краю тарелки, сказав при этом:
— Ты же знаешь, я их не люблю.
— Миссис Луиза, — обратился к ней Капитан, — попробуйте, с белым мясом. Очень вкусно!
— Ничего, ничего, — поспешила заметить я. — Не хочется, не ешь. Бог с ними.
— Забери их с моей тарелки!
Я схватила тарелку, унесла в кухню, выбросила несчастных устриц и вернулась, улыбаясь как можно шире.
— Ну, как? — спросила я, когда села на место.
— И маисовый пудинг не люблю, — сказала бабушка. Я растерялась, не зная, забирать ли его с тарелки. — Но съем, — она гордо улыбнулась Капитану. — Я все время ем то, что мне не нравится, — объяснила она ему.
— Прекрасно, — сказал он. — Очень полезно.
Он немного расслабился и ел с удовольствием.
— Нет нашей старой Труди, — сказала бабушка немного погодя. Ни я, ни Капитан не ответили. — Все умирают, — печально закончила она.
— Да, все, — сказал гость.
— Я все боюсь, зальет мне гроб, — продолжала бабушка. — Терпеть не могу воду.
— Вы еще долго проживете, миссис Луиза.
Она криво улыбнулась.
— Да уж, подольше вас. Хотели бы мои годы, а, Хайрем Уоллес?
Он положил вилку и промокнул салфеткой бороду.
— Ну…
— Раньше я была для вас молода и бедна.
— Я был глуп, миссис Луиза, но это дело прошлое.
— Нечего было уезжать. Трус, не трус, а тут вас кое-кто бы и принял.
— Бабушка, хочешь еще курицы?
Она не поддалась на уловку.
— Не все молний боятся.
— Молний?
— А то как же! Срубили у вашего батюшки мачту…
Она захихикала.
— Это было давно, бабушка! Капитан не… рубил.
— Нет, рубил, — сказал он. — Срубил за двадцать минут, а расхлебываю — пятьдесят лет.
Он улыбнулся мне и взял с блюда еще один кусок.
— Хорошо быть старым, — продолжал он. — Молодость — хуже смерти.
— Про что это он, Лис? Я не понимаю.
Капитан положил пирог, дотянулся до искривленной руки и погладил ее большим пальцем.
— Я говорю Луизе то, что только мы с вами знаем. Хорошо быть старыми.
Сперва она удивилась, потом — умилилась, что он противопоставил мне их обоих. Потом — задумалась, что-то припомнила и убрала руку.
