Страница:
39. Эдип обещает Тесею открыть будущее Афин, которое Тесей должен впоследствии открыть своему сыну, а тот – своему наследнику… тогда Афины будут в безопасности от фиванцев, сыновей дракона![126] «Боги зорко видят тех, кто отворачивается от них и обращается к безумию (mainesthai)»[127]. Ведомый богом (theos), Эдип просит Тесея следовать за ним к его тайной священной могиле (hieros tumbos)[128], к которой его поведет Гермес-воз/соотый (pomp?s) и богиня мертвых[129].
40. Хор обращается с молитвой к Невидимой Богине и к Царице ночных духов, Аидоней, чтобы они позволили чужестранцу спокойно достичь полей мертвых, ведь он так утомлен великими страданиями.
41. После того, как дочери помогли ему омыться, одеться и совершить возлияние мертвым, загремела земля, и раздался голос бога: «Эдип, Эдип! Мы ждем, чего ты медлишь?» Он отпускает дочерей, остается на короткое время наедине с Теееем и исчезает, так что «какой смертью он погиб, не сможет сказать никто из смертных, кроме Тесея»[130]. Антигона говорит, что «что-то невидимое и чужое подхватило его и унесло в незримое пространство»[131], и добавляет, что он «закончил жизнь так, как он того желал»[132], что он сам желал принять смерть среди чужих и в чужой стране[133].
42. После того, как семеро участников похода на Фивы терпят сокрушительное поражение и сыновья Эдипа убивают друг друга, Креонт издает указ, запрещающий совершение погребальных обрядов над убитым Полиником. Его тело должно было истлеть и стать добычей птиц, двум стражам было приказано охранять его[134].
43. Антигона решает похоронить Полиника. Один из стражей сообщает Креонту, что «похоронен тот труп. Печальник скрылся. Слой песку сухого на мертвеце и возлияний след»[135]. Разгневанный Креонт посылает стража вновь открыть труп и схватить виновного. Страж сообщает, что «смели мы пыль, что покрывала труп, и обнажили преющее тело», и приводит схваченную Антигону к Креонту[136].
44. Хор исполняет знаменитую Оду человеку («Много в природе дивных сил, Но сильней человека – нет»[137]).
45. По приказу Креонта Антигону замуровывают в каменном склепе, «ей пищи дав – так как обряд велит. Чтоб города не запятнать убийством»[138]. Она жалуется хору, что «Ахерон теперь ее супруг… и она живой уходит в страну мертвых, по-прежнему чужая, не чувствуя себя своей ни среди живых, ни среди мертвых»[139]. Креонт настаивает на том, что »похоронив ее живой… мы не запятнали себя родственной кровью»[140].
46. Слепой Тиресий объявляет Креонту, что гадание на птицах было несчастливым. Кроме того, жертва, которую он приносил Гефесту, не загорелась. Все алтари осквернены мертвечиной, останками тела Полиника, которые разнесли птицы и собаки. Боги больше не принимают от фиванцев ни молитв, ни приношений, ни жертвенного пламени. Тиресий призывает Креонта «уступить мертвым и не убивать их во второй раз». Креонт отказывается на том основании, что «не властен смертный бога осквернить»[141]. Тиресий обвиняет его в том, что он заключил в могилу (taphos) душу (psyche), принадлежащую горнему миру, и при этом оставил наверху непогребенный и непочтенный труп, перепутав таким образом горний и дольний миры, лишив дольних богов их доли и оскорбив небесных. Он угрожает Креонту тем, что Эринии Аида и небесные боги отомстят ему за это преступление, и предсказывает, что «еще до заката он заплатит трупом своего сына за те два трупа»[142].
47. Креонт спешит освободить Антигону и похоронить Полиника.
48. Хор молит Диониса (Вакха), сына Зевса и Семелы, дочери Кадма, прийти и «излечить ужасную болезнь Фив…»[143].
49. Но Креонт опоздал, потому что Антигона уже повесилась в склепе, ее жених, сын Креонта Гемон, убивает себя мечом на глазах отца, а Евридика, жена Креонта, убивает себя перед алтарем.
50. Хор заключает, что никто из смертных не способен избежать назначенной ему беды.
2. He-обыкновенное, чужое и уникальное
§1. «He-обыкновенное» в качестве «шифтера» между естественным и сверхъестественным
§2. Чужесть и личностностъ
§3. Чужое, осознающее свою чужесть, и значит, всегда в какой-то мере субъективное
§4. Введение категории уникального
§5. Уникальное не обязательно осознает свою уникальность; значит, оно всегда в какой-то мере объективно
3. О сюжетах
§1. Анализ сюжета с точки зрения авторской перспективы; сюжет как репрезентация того, «что» будет сказано, и как способ реализации этого в тексте («как» будет сказано)
§2. Первый случай («абсолютно объективный·»): рассказчик свидетельствует об уже существующей реальности, от которой его версия интенционально неотличима (слияние «что» и «как»)
§3. Второй случай («объективный»): повествователь различает миф («что») и свое отношение к нему в сюжете трагедии («как»), отделяя, таким образом, свое думанье о мифе от объективности мифа
§4. «Мысли без мыслящего» – В. Р. Бион
§5. Происходящая от разделения «объективного» и «субъективного» тенденция к тому, чтобы представить «объективное» как внешнее субъективности, неизвестное и непознаваемое
§6. Тенденция в случае II воспроизводить внутри сюжета различение между «событием» и «осознанием события», идущая от объективно данного (ср. Индра) к его субъективной реализации (ср. Эдип)
40. Хор обращается с молитвой к Невидимой Богине и к Царице ночных духов, Аидоней, чтобы они позволили чужестранцу спокойно достичь полей мертвых, ведь он так утомлен великими страданиями.
41. После того, как дочери помогли ему омыться, одеться и совершить возлияние мертвым, загремела земля, и раздался голос бога: «Эдип, Эдип! Мы ждем, чего ты медлишь?» Он отпускает дочерей, остается на короткое время наедине с Теееем и исчезает, так что «какой смертью он погиб, не сможет сказать никто из смертных, кроме Тесея»[130]. Антигона говорит, что «что-то невидимое и чужое подхватило его и унесло в незримое пространство»[131], и добавляет, что он «закончил жизнь так, как он того желал»[132], что он сам желал принять смерть среди чужих и в чужой стране[133].
42. После того, как семеро участников похода на Фивы терпят сокрушительное поражение и сыновья Эдипа убивают друг друга, Креонт издает указ, запрещающий совершение погребальных обрядов над убитым Полиником. Его тело должно было истлеть и стать добычей птиц, двум стражам было приказано охранять его[134].
43. Антигона решает похоронить Полиника. Один из стражей сообщает Креонту, что «похоронен тот труп. Печальник скрылся. Слой песку сухого на мертвеце и возлияний след»[135]. Разгневанный Креонт посылает стража вновь открыть труп и схватить виновного. Страж сообщает, что «смели мы пыль, что покрывала труп, и обнажили преющее тело», и приводит схваченную Антигону к Креонту[136].
44. Хор исполняет знаменитую Оду человеку («Много в природе дивных сил, Но сильней человека – нет»[137]).
45. По приказу Креонта Антигону замуровывают в каменном склепе, «ей пищи дав – так как обряд велит. Чтоб города не запятнать убийством»[138]. Она жалуется хору, что «Ахерон теперь ее супруг… и она живой уходит в страну мертвых, по-прежнему чужая, не чувствуя себя своей ни среди живых, ни среди мертвых»[139]. Креонт настаивает на том, что »похоронив ее живой… мы не запятнали себя родственной кровью»[140].
46. Слепой Тиресий объявляет Креонту, что гадание на птицах было несчастливым. Кроме того, жертва, которую он приносил Гефесту, не загорелась. Все алтари осквернены мертвечиной, останками тела Полиника, которые разнесли птицы и собаки. Боги больше не принимают от фиванцев ни молитв, ни приношений, ни жертвенного пламени. Тиресий призывает Креонта «уступить мертвым и не убивать их во второй раз». Креонт отказывается на том основании, что «не властен смертный бога осквернить»[141]. Тиресий обвиняет его в том, что он заключил в могилу (taphos) душу (psyche), принадлежащую горнему миру, и при этом оставил наверху непогребенный и непочтенный труп, перепутав таким образом горний и дольний миры, лишив дольних богов их доли и оскорбив небесных. Он угрожает Креонту тем, что Эринии Аида и небесные боги отомстят ему за это преступление, и предсказывает, что «еще до заката он заплатит трупом своего сына за те два трупа»[142].
47. Креонт спешит освободить Антигону и похоронить Полиника.
48. Хор молит Диониса (Вакха), сына Зевса и Семелы, дочери Кадма, прийти и «излечить ужасную болезнь Фив…»[143].
49. Но Креонт опоздал, потому что Антигона уже повесилась в склепе, ее жених, сын Креонта Гемон, убивает себя мечом на глазах отца, а Евридика, жена Креонта, убивает себя перед алтарем.
50. Хор заключает, что никто из смертных не способен избежать назначенной ему беды.
2. He-обыкновенное, чужое и уникальное
§1. «He-обыкновенное» в качестве «шифтера» между естественным и сверхъестественным
Мы видим, что проклятие для Эдипа является одновременно и не-обыкновенным, и сверхъестественным. He-обыкновенным, поскольку проклинать или быть проклятым – действие и состояние исключительные для человека, а сверхъестественным, поскольку в роли совершителя и гаранта исполнения проклятия выступает божество. При этом, однако, для данного божества это будет совершенно «нормальный» сверхъестественный акт или факт.
В отличие от Индры, чье рождение было не-обыкновенным в сверхъестественном, Эдип появился на свет естественным образом. Как и Индра, он был искалечен и связан, причем по той же причине – чтобы предотвратить убийство им своего отца, но если в случае Эдипа это было не-обыкновенным в естественном, то в случае Индры это было не-обыкновенным в сверхъестественном. То же самое следует отнести и к отцеубийству в обоих случаях. [В обоих случаях их матери действовали как сообщницы в покушении на убийство своих детей, и их действия могут быть классифицированы как не-обыкновенные в естественном.]
Между тем, смерть Эдипа была и не-обыкновенной и сверхъестественной, тогда как смерть Полиника и Антигоны была не-обыкновенной в естественном.
В отличие от Индры, чье рождение было не-обыкновенным в сверхъестественном, Эдип появился на свет естественным образом. Как и Индра, он был искалечен и связан, причем по той же причине – чтобы предотвратить убийство им своего отца, но если в случае Эдипа это было не-обыкновенным в естественном, то в случае Индры это было не-обыкновенным в сверхъестественном. То же самое следует отнести и к отцеубийству в обоих случаях. [В обоих случаях их матери действовали как сообщницы в покушении на убийство своих детей, и их действия могут быть классифицированы как не-обыкновенные в естественном.]
Между тем, смерть Эдипа была и не-обыкновенной и сверхъестественной, тогда как смерть Полиника и Антигоны была не-обыкновенной в естественном.
§2. Чужесть и личностностъ
Чужесть Эдипа – это личностная характеристика, с одной стороны, в том смысле, что, называя кого-либо чужим, мы принимаем «личностность» как заведомо существующий класс, внутри которого выделяем «чужих» и «не-чужих». С другой стороны, «чужое» входит в содержание идеи «личность» как шифтерная характеристика, общая для всех «личностей». Только у одних она проявлена, а у других – латентна, у одних она доминирует, а у других – едва заметна и т. д. Итак, если «не-обыкновенное» в нашем контексте есть термин описания, то «чужое», хотя и используется в качестве термина описания, работает как то, что описывается. Другими словами, здесь мы описываем «чужесть» тех, которые называют друг друга или самих себя чужими.
§3. Чужое, осознающее свою чужесть, и значит, всегда в какой-то мере субъективное
Разумеется, феноменологически чужесть может быть выведена, как и сведена к тем четырем чертам не-обыкновенного, что были описаны в связи с Индрой (Лекция 2, 3, §10). Однако она отличается от не-обыкновенного не только тем, что наблюдатель осознает, что герой «не такой, как другие», но и – тем, что сам герой осознает свою «инакость».
Более того, последний не только понимает, что он «не такой, как другие», но и что он «не такой, как он сам». В результате мы переносимся из области «объективности» не-обыкновенного в сферу такого самосознания, которое не может быть до конца объективным; всегда будет оставаться некоторый «осадок» психологического, не поддающегося здесь превращению в объективно описываемые факты и факторы.
Более того, последний не только понимает, что он «не такой, как другие», но и что он «не такой, как он сам». В результате мы переносимся из области «объективности» не-обыкновенного в сферу такого самосознания, которое не может быть до конца объективным; всегда будет оставаться некоторый «осадок» психологического, не поддающегося здесь превращению в объективно описываемые факты и факторы.
§4. Введение категории уникального
Именно в оппозиции к чужести, с одной стороны, и к не-обыкновенному – с другой, может быть введена еще одна категория, категория уникального и, тем самым, будет завершен «треугольник инакости»:
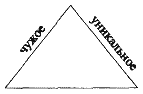
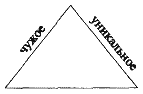
§5. Уникальное не обязательно осознает свою уникальность; значит, оно всегда в какой-то мере объективно
Если уникальность Индры может быть объективно выведена из уникальности его места в ведийском пантеоне [позже она будет «разбавлена» идеей многих Индр как подкласса богов (дева), а еще позже совершенно нейтрализована метафизически в «кармической» бесконечности числа Индр в «Пуранах»], то сам бог не осознавал объективной природы своих субъективных (то есть психологических) состояний и возможностей. Эдип же, в противоположность ему, считая себя самым несчастным и страдающим из людей, полностью отдавал себе отчет в том, что именно его беды и страдания приведут его к необыкновенному м сверхъестественному концу и, посмертно, возведут его в ранг сверхъестественных существ. Однако он не осознавал еще своей инакости как стороны, грани своей уникальности, хотя его «священность» еще при жизни и его неминуемое «обожествление» в конце жизни вполне могли сделать это возможным. Ведь он знал, что он – другой, и именно этим было продиктовано его поведение в роще Евменид.
Уникальность здесь – элемент трансцендентной субъективности; то есть не только черта восприятия или еамовосприятия, но и черта определенной апперцепции содержания текста. В отличие от чужести, в анализе уникальности всегда будет оставаться определенный элемент объективного, не поддающегося превращению в психологическое.
Уникальность здесь – элемент трансцендентной субъективности; то есть не только черта восприятия или еамовосприятия, но и черта определенной апперцепции содержания текста. В отличие от чужести, в анализе уникальности всегда будет оставаться определенный элемент объективного, не поддающегося превращению в психологическое.
3. О сюжетах
§1. Анализ сюжета с точки зрения авторской перспективы; сюжет как репрезентация того, «что» будет сказано, и как способ реализации этого в тексте («как» будет сказано)
Теперь – отступление о сюжете. Во второй лекции мы рассмотрели сюжет как репрезентацию содержания текста и обсудили различие между сюжетом жизни Индры и сюжетом трилогии Софокла. Однако на этот раз сюжет рассматривается не в его связи или сведении к содержанию текста, но как феномен, имеющий собственное значение, как данность сознания. Мы представим его здесь как независимый от и несводимый к другим данностям сознания, и, в то же время, обладающий своей собственной сложностью композиции и множеством способов его порождения и апперцепции. Последнее особенно важно, поскольку автор не только представляет (создает, а точнее – воссоздает) нечто как сюжет, но делает это уже зная, что есть нечто, то есть определенная вещь, которую нужно представить как сюжет или в сюжете, и что сюжет – это вторая вещь, специально задуманная, чтобы представлять первую. Другими словами, апперцепция предполагает в данном случае, что идея сюжета уже сложилась, и то, что происходит в процессе порождения или постижения сюжета, есть реализация – активная или пассивная – этой идеи[144].
§2. Первый случай («абсолютно объективный·»): рассказчик свидетельствует об уже существующей реальности, от которой его версия интенционально неотличима (слияние «что» и «как»)
Но есть сюжеты и сюжеты. Различия между ними, хотя и предположительно, я свел бы к трем основным случаям. В первом случае сюжет видится как совершенно объективная вещь, то есть событие, цепочка или последовательность событий, которые «имели место» – в реальности, в памяти или в самом повествовании – не существенно, и которые, по замыслу, должны рассказываться как бы снова. Позволю себе повториться: независимо от того, есть ли это еще не рассказанное событие, или история, уже рассказанная об этом событии, – они равно объективны относительно сюжета. Таким образом, повествователь будет осознавать себя простым исполнителем или свидетелем, а свою версию видеть не как свою, а совпадающую с реальностью его сюжета и являющуюся единственной возможной реализацией этой реальности, которую он осознает субъективно. [Это «идеальный» случай, когда «авторство» в нашем смысле не работает[145].] Что же касается внутренней композиции сюжета, то в сюжете в этом случае нет разницы между тем, «что случилось», и тем, «что думают о том, что случилось, происходит сейчас или случится потом».
Другими словами, классификация действий ? сюжете на «объективные» и «необъективные» в таком случае несущественна: они и не то, и не другое, и потому можно предложить «тройственную» классификацию: на «объективное», «субъективное» и «абсолютно объективное»[146]. Именно абсолютная объективность, неотделимая от того, что обозначает ее в сюжете, и от того, что известно о ней как внутри сюжета, так и «снаружи», скажем, повествователю, и отличает то, что мы назвали сюжетами первого случая. Именно мифологическое и есть эта абсолютная объективность. Так что здесь невозможна мета-позиция, а если бы она и была, то тоже стала бы мифологической, как в тех случаях, когда один миф интерпретируется в смысле другого. Индра (в I) не может распространить свое знание себя и мира за пределы мифа об Индре и его мире; когда это происходит (как в сюжете VIII), то происходит за счет знания о Вишну и его вселенной, сообщенного Индре богами Шивой и Вишну[147].
Другими словами, классификация действий ? сюжете на «объективные» и «необъективные» в таком случае несущественна: они и не то, и не другое, и потому можно предложить «тройственную» классификацию: на «объективное», «субъективное» и «абсолютно объективное»[146]. Именно абсолютная объективность, неотделимая от того, что обозначает ее в сюжете, и от того, что известно о ней как внутри сюжета, так и «снаружи», скажем, повествователю, и отличает то, что мы назвали сюжетами первого случая. Именно мифологическое и есть эта абсолютная объективность. Так что здесь невозможна мета-позиция, а если бы она и была, то тоже стала бы мифологической, как в тех случаях, когда один миф интерпретируется в смысле другого. Индра (в I) не может распространить свое знание себя и мира за пределы мифа об Индре и его мире; когда это происходит (как в сюжете VIII), то происходит за счет знания о Вишну и его вселенной, сообщенного Индре богами Шивой и Вишну[147].
§3. Второй случай («объективный»): повествователь различает миф («что») и свое отношение к нему в сюжете трагедии («как»), отделяя, таким образом, свое думанье о мифе от объективности мифа
Во втором случае «рассказать историю» и «как ее рассказать» суть уже две разных интенции; впрочем, это не означает, что то, что мы назвали «абсолютно объективным» или «мифологическим», будет сконцентрировано только в «этой истории» как таковой и будет отсутствовать в том «как»[148]. Я полагаю, что именно субъективное автора или повествователя заставляет их мыслить это разделение как объективное, в то время как с точки зрения исследователя мифа «как», сколь бы оно ни было индивидуально, может быть также интерпретировано мифологически.
Таким именно образом Софокл, например, относился к варианту мифа об Эдипе, который он выбрал для сюжета своей трилогии, сознательно рассматривая его как один из вариантов. Ибо он понимал, что этот вариант мог бы быть использован и другим драматургом. В конце концов, он знал, что сюжетом истории был именно миф (muthos), он не знал, «что такое миф» в нашем смысле, но он прекрасно понимал, что такое muthos как миф и сюжет в его смысле, поскольку видел в нем не только историю о том, что случилось и с кем (то есть с теми, кто много лучше или много хуже «большинства из нас»), но и сюжет для трагедии. Но что еще важнее, он понимал также, что сюжетом в трагедии непременно должен быть миф, и его намерением поэтому было воссоздание именно мифа в сюжете трагедии, что необходимо влечет за собой взгляд на трагедию как на один из жанров — вне мифа, ибо миф не знает жанров. Короче, это и позволило ему интерпретировать (с помощью протагонистов и хора) миф как сюжет, а сюжет – как то, что внутренне определяется рядом факторов (например, роком, человеческой природой, участием и вмешательством богов), а также законами и правилами жанра трагедии. Следовательно, с одной стороны, миф в древней Греции начинает пониматься как нечто иное (а не иное как миф), а с другой – и его воссоздатель начинает понимать себя как нечто отличное от мифа, а свое сознание от «мифического». Не говоря уже о том, что и миф тем самым становится все более объективным в том смысле, что субъективно его абсолютная объективность осознается все слабее. Здесь, впрочем, требуется пояснение.
Таким именно образом Софокл, например, относился к варианту мифа об Эдипе, который он выбрал для сюжета своей трилогии, сознательно рассматривая его как один из вариантов. Ибо он понимал, что этот вариант мог бы быть использован и другим драматургом. В конце концов, он знал, что сюжетом истории был именно миф (muthos), он не знал, «что такое миф» в нашем смысле, но он прекрасно понимал, что такое muthos как миф и сюжет в его смысле, поскольку видел в нем не только историю о том, что случилось и с кем (то есть с теми, кто много лучше или много хуже «большинства из нас»), но и сюжет для трагедии. Но что еще важнее, он понимал также, что сюжетом в трагедии непременно должен быть миф, и его намерением поэтому было воссоздание именно мифа в сюжете трагедии, что необходимо влечет за собой взгляд на трагедию как на один из жанров — вне мифа, ибо миф не знает жанров. Короче, это и позволило ему интерпретировать (с помощью протагонистов и хора) миф как сюжет, а сюжет – как то, что внутренне определяется рядом факторов (например, роком, человеческой природой, участием и вмешательством богов), а также законами и правилами жанра трагедии. Следовательно, с одной стороны, миф в древней Греции начинает пониматься как нечто иное (а не иное как миф), а с другой – и его воссоздатель начинает понимать себя как нечто отличное от мифа, а свое сознание от «мифического». Не говоря уже о том, что и миф тем самым становится все более объективным в том смысле, что субъективно его абсолютная объективность осознается все слабее. Здесь, впрочем, требуется пояснение.
§4. «Мысли без мыслящего» – В. Р. Бион
В контексте наших мифологических занятий идея абсолютной объективности предполагает, что есть нечто, относящееся и к «что» и к «как», которое существует независимо от того, известно или неизвестно оно действующему лицу, повествователю (или «автору») или мне, исследователю. Вот один из примеров: объективность проклятия – Аполлона и рока (или, точнее, проклятия, Аполлона и рока как того, что лежит в основе их связи) – определяет сюжет софокловой трилогии, независимо от знания Тиресия и неведения Эдипа (по словам Тиресия: «Довольно Аполлона»). И та же объективность проклятия, Аполлона и рока, предопределяя сюжет, одновременно предопределяет знание и неведение его действующих лиц как факторов в сюжете, обретающих свою объективность относительно других событий и обстоятельств[149].
§5. Происходящая от разделения «объективного» и «субъективного» тенденция к тому, чтобы представить «объективное» как внешнее субъективности, неизвестное и непознаваемое
Все это в сюжетах второго типа как раз и приводит к тому, что когда знание абсолютной объективности передается и получается, то оно бывает очень смутно и двусмысленно, и требуется много усилий для его понимания и интерпретации, это – с одной стороны[150]. А с другой – приводит к идее, также мифологической, о принципиальной ее непознаваемости в том смысле, что «чем больше она известна субъективно, тем менее она объективна»[151]. Именно в этом случае возникает напряженность между известным и неизвестным, между менее известным и более известным, без чего немыслим никакой настоящий сюжет. Причем, эта ситуация напряженности возможна не только внутри определенного сюжета, между его действующими лицами, но и между сюжетом и его автором или повествователем, и даже между сюжетом и его исследователем. В силу чего различие между тем, что есть, и знанием того, что есть, совершенно отсутствующее в сюжете I, получает почти онтологическое значение в сюжете II. Иначе говоря, даже отнеся многое из введенного Софоклом к чисто эстетическим средствам и тропам, что было продиктовано в его время потребностями жанра трагедии, можно видеть, как новый фактор – рефлексия и саморефлексия – начинает проникать и в сюжет истории Эдипа, обеспечивая в ней появление новых объектов знания в форме обычных психических состояний, таких как страдание, боль и т. п., которые раньше выражались на уровне простых действий и событий. Разумеется, и Индра, и Эдип жаловались на свои страдания, но только последний размышлял о них (применительно к себе) как о чем-то отличном от действий или событий, вызвавших их. То есть мы ясно видим, что если страдания и лишения Индры объективно совпадают с практикой жесткой аскезы (тапас) и ставят его в разряд божеств-подвижников (риши) то страдания Эдипа сделали его и объективно и субъективно самым страдающим человеком в стране, обладавшим перед смертью сверхъестественными силами, а после смерти ставшим сверхъестественным существом (местным божеством). Но, повторяя то, что уже было сказано на этот счет выше, отмечу, что именно в сюжете II появляется тенденция – как изнутри, так и снаружи сюжета – представлять объективное как неизвестное и, тем самым, рассматривать скрытое, тайное или двусмысленное как симптомы объективности[152].
§6. Тенденция в случае II воспроизводить внутри сюжета различение между «событием» и «осознанием события», идущая от объективно данного (ср. Индра) к его субъективной реализации (ср. Эдип)
А это, в свою очередь, приводит нас к еще одному заключению относительно второго типа сюжета. Как бы ни велики были страдания, лишения, проступки и двусмысленность Индры, как бы полно ни обеспечивали они ему позицию не-обыкновенного существа (как бога и личности), взятого в типологическом аспекте, его нельзя все же назвать «уникально» не-обыкновенным или, более конкретно, «уникально» страдающей личностью. По двум причинам. Первая заключается в том, что его существование как члена класса не-обыкновенных и класса сверхъестественных существ, и позже – подкласса Индр перевешивает его уникальность как личности. Типология здесь по-прежнему преобладает над индивидуальностью объективно (то есть с точки зрения повествователя, комментатора и даже исследователя мифа). Вторая же состоит в том, что мы субъективно не видим Индру размышляющим о своих страданиях, а именно – что делает его в жизни уникальной личностью и богом. Его сознание уникальности своей позиции среди богов основано на объективном факте его объективно «элитной» позиции, а не на факте его страдания и необыкновенной способности переносить его. Эдип же сознает или, точнее, начинает (в ОС) осознавать свою уникальность благодаря своему страданию, а не только в результате роковых событий, заданных и случающихся по ходу сюжета. Впрочем, тот факт, что он был «самым страдающим из людей», не может не отражать его весьма возвышенной, элитной позиции среди смертных и, телеологически, еще более высокой в его посмертном существовании. В случае Эдипа его индивидуальная уникальность и объективно заданный статус находятся в своего рода «динамическом равновесии». Уникальность здесь – элемент трансцендентальной субъективности, поскольку она (уникальность) фигурирует не просто как черта апперцепции сюжета трилогии и сюжета вообще, но и как черта чисто субъективного восприятия их[153]. «Инакость» Эдипа, в интенциональности трилогии, сбалансирована или, точнее, «смягчена» чисто психологическим убеждением (и у Софокла, и у Аристотеля), что «мы действительно знаем, что такие вещи могут случиться и с нами».
