Страница:

Н. А. Шифрин. Новороссийск. Цементный завод, порт. Публикуется впервые
У меня в отношении книги возникают три взаимосвязанных вопроса: что такое Европа, что такое культура и что такое рынок? Я поднимаю их не из чувства противоречия, а в надежде вычленить сильные и слабые стороны данного проекта. Во-первых, насчет Европы. Было бы смешно жаловаться на то, что Албания, Финляндия и другие малые государства не освещены здесь в той же мере, что и Великобритания, Франция, Италия и Германия, поскольку несомненная заслуга Сассуна состоит в том, что эти страны вообще хоть как-то освещены. И надо отметить, что упоминаются они не просто для вида: данные по ним неизменно учитываются в анализе – например, в анализе сопоставимости и переводимости различных культурных форм при их проникновении с крупных на более мелкие национальные рынки. Однако не все согласятся с тем, что усиление американского культурного доминирования над Европой начиная с 1920-х годов представляло собой такой простой, не знавший конкуренции процесс, каким он изображается у Сассуна, если принять во внимание значение национальных широковещательных компаний в эпоху расцвета телевидения и радио.Во-вторых, вопрос еще и в том, что именно Сассун понимает под культурой: более подходящим названием для его книги было бы что-то вроде «Некоторые аспекты рыночной истории европейской культуры» (вдогонку за знаковым эссе сорокалетней давности). По словам Сассуна, «история культуры это история ее производства для рынка». Однако в этом определении не учтены такие менее явно товаризованные элементы культуры, как наука, философия и социальная теория; не рассмотренным осталось также влияние наполеоновских войн. Политическая история неявным образом (поскольку в открытую разговор о ней не ведется) играет здесь второстепенную роль. Нам говорят, например, что немецкие и итальянские фашисты либо не придавали значения наплыву американских фильмов в кинотеатры их стран, либо не могли его обуздать – мол, они не могли «рисковать, лишив свое население главной формы развлечения». А может быть они просто стремились возложить на массмедийный форум обязанность по распространению киножурналов, которые они могли контролировать и контролировали? В подобном нарративе события более широкого культурного значения по большей части выпадают из поля зрения – например, единственное упоминание об интересе Йейтса к фольклору едва ли заменит собой рассказ об ирландском литературном национализме. За рамками повествования остались и такие признанные фигуры авангарда, как Паунд и Годар (оба даже не упомянуты) – гордившиеся тем, что они не торговали своим искусством; хотя, разумеется, тот факт, что книги некоторых авторов расходились хуже, чем книги других, не делает первые культурно незначительными.
ДАЖЕ ФАШИСТСКИЕ ГОСУДАРСТВА МОГУТ ЛИШЬ ЗАПРЕЩАТЬ КНИГИ, НО НЕ МОГУТ ЗАСТАВИТЬ КОГО-ЛИБО ЧИТАТЬ ТЕ КНИГИ, КОТОРЫЕ ИМИ РАЗРЕШЕНЫЧитатели «Культуры европейцев» найдут массу упоминаний о романах, множество ссылок на поп-культуру (комиксы, газеты, поп-музыку, сценические шоу, фильмы, массово издававшиеся романы и рассказы), на музыку (опера и концертные исполнения), и подробный разговор о таких новых массмедийных средствах, как радио и телевидение. Однако поэзия затрагивается сравнительно слабо, а внимание к нон-фикшн самое минимальное, хотя в любом регулярном номере «качественной» газеты содержится не меньше рецензий на нехудожественную литературу, чем на художественную. Автор почти не касается религии, хотя в тексте говорится, что 14% всех книг, изданных в «Германии» в 1835 г., носили религиозный характер. Спорт игнорируется почти совершенно; но как можно серьезно оценивать венгерскую культуру начала 1950-х гг. без рассказа о карьере и публичном имидже «Золотой команды»? Нам говорят, что телевизионное освещение футбольных матчей Премьер-лиги поглощает до одной трети бюджета телекомпании BSkyB, но это одно-единственное упоминание о европейской футбольной культуре, которая кормится за счет продажи билетов на стадионы по беспрецедентно высоким ценам, а также торговли футболками и прочей атрибутикой. Впрочем, невнимание к изящным искусствам объясняется их существованием в невоспроизводимых формах. Однако в наши дни едва ли хоть одна крупная художественная выставка обходится без продажи кружек, футболок, сумок и разного рода печатной продукции; таким образом, значение выставок от Бойделла и Бельцони до «Сенсации» по большей части игнорируется. Более того, если рынок интересен Сассуну лишь в том отношении, в каком на нем продаются воспроизводимые товары, то значительное число страниц книги, посвященных опере и театру, оказываются весьма неуместными.
Автор дерзко заявляет, что в центре его внимания находится «не побоюсь сказать, культура как бизнес», но нам почти ничего не сообщается о деловых операциях в этой сфере; рассказ затрагивает почти исключительно данные по продажам. Один из способов провести анализ рынка – изучить его сторону, связанную с предложением товара: в случае книг – каковы были тиражи и во сколько они обошлись, имел ли какое-либо значение формат изданий? Как осуществлялись распространение и реклама? Когда и как в различных отраслях индустрии культуры утвердились маркетинговые исследования и насколько эффективными они были? В книге Сассуна вы почти не найдете такой информации: все приводящиеся в ней факты в основном касаются потребления. Однако важно знать, на что рассчитывали и что планировали инвесторы. Пример из области киноиндустрии: фильм Майкла Чимино «Врата рая» щедро финансировался, но обернулся провалом, в то время как Джеймс Кэмерон с большим трудом собрал деньги на постановку своего «Титаника», побившего все рекорды выручки. Многие определяющие явления в сфере культуры были непредвиденными, вовсе не являясь результатом рациональной рыночной стратегии. Если мы будем принимать во внимание лишь то, чему было суждено случиться, то получим историю, написанную в основном победителями. По мнению Сассуна, культура работает как подмножество капитализма в целом, в том смысле, что она «подпитывает саму себя и не имеет пределов»; она поневоле вынуждена распространяться в глобальном масштабе и представляет собой «механизм своего последующего роста». Но не становится ли в таком случае история культуры, как и история капитала, историей трупов, обескровленных вампирическими силами и лишенных всяких связей с конкретным трудом? А если так, чьи это были трупы? Конечно, о молчании мертвецов писать очень трудно, но какие-то представления о провалах способны поведать нам многое о культуре как бизнесе и о том, как те, кто извлекает из нее прибыль, списывают свои убытки.
Согласно Сассуну, любое производство культуры – занятие рискованное, совершаемое методом проб и ошибок. Даже фашистские государства могут лишь запрещать книги, но не могут заставить кого-либо читать те книги, которые ими разрешены. Сассун хорошо пишет о консерватизме, проистекающем из осознания рискованности любых инвестиций в культуру: это один из самых сильных моментов книги, объясняющий, каким образом один успех выступает фундаментом для следующего. Новый рекла мируемыи товар оказывается пастишем того, что хорошо продавалось раньше, как прекрасно известно из истории детективного жанра. Аналогичные процессы наблюдаются в отношениях между различными носителями: книга по фильму или фильм по книге, переделка романов Золя в такую более прибыльную форму, как пьесы, параллельное существование комиксов и фильмов и самое экономичное – перепродажа виниловых записей в виде компакт-дисков при их почти нулевой себестоимости. В противоположность распространенным жалобам на то что развитие одной культурной формы неизбежно влечет за собой упадок других форм, как будто потребители могут уделять всем им лишь конечный объем внимания, Сассун демонстрирует, что история различных носителей часто оказывается историей их взаимной поддержки. Так, в 1930-е годы популярные британские газеты предлагали своим читателям дешевые собрания сочинений Диккенса; в кино и театре очень часто заняты одни и те же актеры; а телевидение спасает фильмы, показывая их на голубом экране. И Сассун считает, что это по большей части хорошо, не усматривая здесь признаков монополизационного эффекта, в силу которого каждый из носителей просто воспроизводит приемы, используемые в других носителях, а возможно, и их содержание.
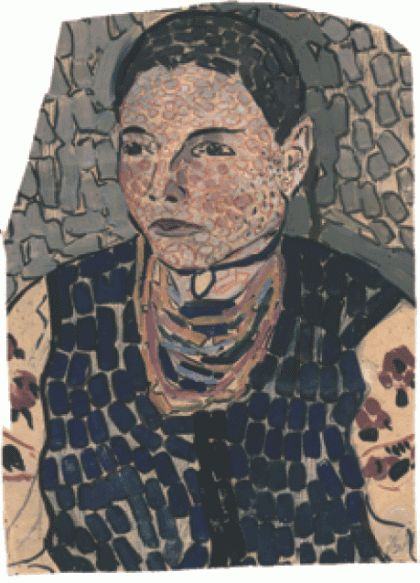
В. В. Каменский. Женский портрет, 1912. Публикуется впервые
В «Культуре европейцев» делается ряд заявлений о причинах и следствиях. Например, Верди изображается здесь хитрым инвестором, который сознательно использовал рынок для извлечения наибольшей собственной прибыли. Итальянская опера по своему размаху и мощи получила доминирующее положение на местном рынке, после чего имела возможность распространяться в глобальном масштабе (по крайней мере, в пределах Европы), в «активном стремлении к всемирной славе» заимствуя за рубежом сюжеты и место действия. В чем же была причина? Сработала ли здесь невидимая рука капиталистического предприятия, которое обречено расширяться или погибнуть? Был ли это ответ на насыщение местного рынка? Или это явление той же природы, что и всеевропейская популярность исторического романа, созданного Вальтером Скоттом? Предлагаемый нам механизм постепенного расширения рынков, несомненно, вполне правдоподобен, но нам его по-прежнему не с чем сравнивать. Поэтому его применимость представляется эмпирической и обоснованной лишь для конкретных примеров; в некоторых случаях (например, в отношении телевизионных «мыльных опер») вообще утверждается, что значение имеет только местный рынок, потому что данный товар не ценится за рубежом. Однако многие главные герои Жюля Верна – не французы, да и многие голливудские фильмы, включая «Касабланку», снимались почти исключительно иностранцами с участием иностранных актеров, хотя и финансировались американцами. Но что выступает гарантией привлекательности иностранных актеров и героев? А если таких гарантий не имеется, где и каким образом мы можем выявить сознательность такого выбора?В другом месте книги главным источником привлекательности американских фильмов для глобальной аудитории объявляются их «спецэффекты», а не мультинациональный состав. Почему же специальные эффекты должны быть более привлекательными, чем, скажем, любовные сцены? Здесь очень полезным мог бы стать более подробный разговор о том, отчего культурные рынки бывают рационально предсказуемыми или, наоборот, безнадежно иррациональными. Например, сами США – в настоящее время источник большей части мировой культуры – в глазах Сассуна являются даже слишком адекватным подтверждением идеи о том, что «гегемонистские страны провинциальны, замкнуты на себя и страдают от нарциссизма» – это доказывается тем «фактом», что 91% продаваемых в Америке книг написан американскими авторами, а на американском телевидении почти не появляется зарубежных программ. В связи с этим было бы интересно проследить, каким образом якобы космополитическая рыночная стратегия голливудского кино соответствует или не соответствует этому печальному состоянию дел на внутреннем рынке США.
В той степени, в какой подобный анализ по неизбежности может производиться лишь постфактум, он приводит нас к определенной тавтологии, присутствующей в некоторых выводах Сассуна: нечто случается потому, что оно случается. Так, доминирование Франции и Великобритании в производстве культурной продукции в XIX веке объясняется «их способностью производить престижные и популярные товары для культурного рынка». Успех театра в эпоху телевидения приписывается его умению обещать своей аудитории нечто, «чего она не может получить дома с экрана телевизора», но если бы театр умирал, можно было бы найти ровно противоположные аргументы и возложить всю вину на телевидение. Какому правилу подчиняется желание иметь нечто иное вместо прибавки к тому, что у тебя и так есть? В другом месте нам говорят, что «эпоха национализма посеяла космополитизм меж представителями среднего класса, выказывавших растущий интерес к другим странам», но вполне можно указать и на противоположные явления для объяснения тех или иных случаев воинствующего изоляционизма наподобие сожжения книг фашистами. Не убежден я и в том, что появление звукозаписи вынудило серьезных композиторов пойти на «радикальные новшества с тем, чтобы отличаться от своих предшественников»: как указывается на другой странице книги, внедрение музыкальных записей могло бы усилить искушение воспроизводить старые и проверенные рецепты самых успешных записей, внося в них небольшие вариации. Мы пытаемся объяснить то, что случилось, но оно совсем не обязано было случаться,
И думаю, Сассун согласился бы с этим: риск таится всюду, ничего неизбежного не бывает. Польза разговора о цифрах состоит не в том, что тогда мы видим всю картину, а в том, что проявляются общие тенденции, в общем и целом не заслоненные локальными пространственно-временными пертурбациями. Но для того, чтобы рассказ вышел увлекательным, одних чисел недостаточно: они должны сопровождаться яркими догадками. Ни один литературный критик не впечатлится словами о том, что успех «Дон Кихота» можно объяснить его открытостью для «множества интерпретаций». Поразительно, но нам говорят, что низкая оценка немецких фильмов во Франции в 1944 году «почти не связана с антифашистскими настроениями; просто немецкие исторические фильмы и легкие оперетты не отвечали вкусу французов».
Очевидно, что в проекте такого масштаба неизбежны ошибки и недочеты вследствие зависимости от вторичных источников, которые ни один исследователь не успеет проверить или подвергнуть переоценке за время своей жизни. Роберт Бернс вовсе не писал по-гэльски, а Шекспира в середине XVII века не воспринимали как важнейшего англоязычного автора – это пришло лишь столетие спустя, как указывает в другом месте сам Сассун. Поэты викторианской и эдвардианской эпохи едва ли были «забыты», если они, подобно Киплингу и Теннисону, оказались в школьной программе, а их стихи учат наизусть миллионы людей. А если «великие диктаторы межвоенного периода» регулярно не выступали перед своими аудиториями в эфире, вследствие чего они не имеют отношения к радиовещательному бизнесу, то разве их отдельные выступления от этого лишались культурной значимости для огромного числа людей? Еще большая проблема связана со склонностью автора к необоснованным обобщениям – например, когда он утверждает, что из-за отсутствия в США до 1880 года «разнородного массового рынка» эта страна в культурном плане «по-прежнему была колонией». Здесь неявно присутствует тезис о жесткой взаимосвязи между движениями за национальную независимость и массовой печатной культурой, который при этом ни разу не формулируется и не проверяется в качестве определяющего фактора в сфере межкультурной взаимозависимости.
Хотя повествование Сассуна об отдельных авторах неизбежно носит несколько выборочный характер, читателя ожидают подкупающие рассказы о Скотте, Сю, Диккенсе, Дюма, Гюго, Берне и Сегюре, если говорить только о сфере художественной прозы. Например, отдельная глава в середине книге посвящена Золя. Был ли он последним автором из области высокой культуры, выстраивавшим свою работу как личный бизнес, и в этом качестве не служит ли он чем-то вроде воплощения определенной ностальгии по тем временам, когда бизнес по видимости имел имена и лица, и когда явления, выходившие за рамки национальных границ, обладали бесспорным критическим содержанием? Вердикт, который Сассун выносит в отношении влияния дела Дрейфуса на репутацию Золя, звучит намного более современно: Золя стал «знаменитостью», его имя превратилось в «брэнд».
В «Культуре европейцев» освещается более широкий спектр субкультур, чем можно было бы ожидать от однотомной книги. Библиография и источники к книге представляют собой бесценный справочный материал в любой конкретной сфере. И прежде всего следует подчеркнуть, что исторический рассказ Сассуна никогда не опускается на уровень простого перечисления интересных фактов. Заходит ли речь о телевидении в советской России, о поп-музыке в ГДР или о мнимой терпимости к американским фильмам в фашистских государствах, не могу себе представить, чтобы нашелся читатель, не вынесший хотя бы что-нибудь из этой амбициозной и смелой книги.
ДОНАЛЬД САССУН – ПРОФЕССОР СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИИ КОЛЛЕДЖА КУИН МЕРИ ПРИ ЛОНДОНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ); СПЕЦИАЛИСТ ПО ИСТОРИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ И ИСТОРИИ ИТАЛИИ, АВТОР РЯДА РАБОТ ПО ИСТОРИИ ИСКУССТВА И ЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.
БИБЛИОГРАФИЯ
One Hundred Years of Socialism: The West European Left in the Twentieth Century, New York: The New Press, 1996 (Сто лет социализма: западноевропейские левые в XX веке).Мопа Lisa: The History of the World's Most Famous Painting, London: Harper Collins 2001 (Мона Лиза: История самой знаменитой в мире картины).
Mussolini and the Rise of Fascism, London: Harper Collins 2001 (Муссолини и возникновение фашизма).
КУЛЬТУРА
Императив авангарда в неолиберальную эпоху
Кети Чухров
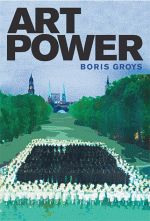
Не секрет, что Россия после долгого перерыва активно вступает в культурную индустрию современного искусства. Впрочем, параллельно с остальными странами далеко не первого мира. Современное искусство в данном случае выполняет роль индульгенции, которая доказывает наличие в стране модернизационных настроений, а также подтверждает стабилизацию экономики, способной не только накапливать, но и вкладывать в культуру. Однако столь долго ожидаемая активизация артрынка и подключение к ней людей, для которых культура и искусство являются всего лишь более цивилизованным видом бизнеса или просто украшают имидж того или иного фонда или компании, немедленно вызвало разделение художественного и критического сообщества на два полюса. На тех, кто оплакивает внерыночное, почти коммунитарное художественное сообщество 1980-х и 1990-х годов, и тех, кто торжествует оттого, что, наконец, началось культурное производство, основанное на современных технологиях и когнитивных практиках.
В западном культурно-художественном пространстве эти две, на первый взгляд, полярные парадигмы (социально-активистская, некоммерческая, и рыночная) представляют собой взаимодополняющие программы постиндустриальной либеральной культуры. Рынок отвечает за повышение коммерческой и символической цены искусства, а общественные, так называемые неправительственные и некоммерческие организации осуществляют критику коммерциализации художественных процессов, образуя зону критической социальной активности, или зону так называемой институциональной критики.
В своей последней книге «Власть искусства» (Art Power) философ и теоретик искусства Борис Гройс предлагает и вовсе прекратить различать коммерческое («плохое») и критическо-социальное («хорошее») искусство на том основании, что одно конъюнктурно, а другое – нет. В капиталистическом обществе, где экономику вне рынка представить себе невозможно, критиковать рыночно успешное искусство означает, с точки зрения автора, лишь создавать еще один специфический товар или даже специфический рынок – рынок «некоммерческой» социальной активности.
Это гройсовское утверждение часто выводит из себя критически настроенных западных левых, как, впрочем, и обескураженных монетизацией культуры российских критиков, рассчитывающих на то, что критические институции, функционирующие по западной социально-демократической модели, способны воздействовать на инфраструктуру капитала. Однако, с точки зрения Гройса, ни один демократически настроенный критик не согласился бы в конечном итоге быть тотально последовательным даже по отношению к собственной критике рынка, то есть просто-напросто вообразить тотальный отказ от рынка со всеми вытекающими из этого последствиями: абсолютной аскезой по отношению к вещественно-товарному миру.
Гройс выводит искусство за пределы дилеммы между коммерческим и критическим проектами, размещая его (искусства) власть над обеими альтернативами. Искусству, если оно искусство, удается не просто описывать мир таким, какой он есть, а порождать картину мира в режиме утопии. Образ же утопии есть образ той политической модели мира, которой нет и которая должна быть. А значит, взывая к этой утопической модели, происходит и взывание к власти именно такой картины мира.
Но может ли быть утопия столь же многообразной, сколь и многообразны образы мира и представления о мире? Да, утопии бывают разными по структуре. Однако самое главное в них остается неизменным. Это полная отмена того, что Казимир Малевич в своих работах называет «харчевым принципом», то есть отмена зависимости от фетишизированного вещественного мира, в котором человек проживает от рождения до смерти. И здесь можно задаться вопросом. Что является более естественным состоянием для общества и человека: 1) «харчевой принцип», от которого не может избавиться ни одна социальная демократия (коль скоро она не избавляется от частной собственности, а значит, и «капитализма» общественного сознания), или г) эволюция в сторону «коммунистического» сознания, которая изживает коммерческо-утилитарную составляющую в социуме (как утверждал Маркс в «Экономическо-философских рукописях 1844 года»)?
Как известно, Советский Союз строил государственную инфраструктуру так, чтобы идеологически общество «естественным» образом отказалось от рынка. Не секрет, что такая естественность стоила огромных искусственных усилий Западная либеральная демократия, напротив, признает изначальную слабость человеческого сообщества («харчевой принцип») естественным человеческим свойством и позволяет ему эту слабость. Именно поэтому Гройс не делает различия между хорошей западной демократией (гуманным капитализмом и умеренным рынком) и плохими демократиями вне Европы, потому что и та и другая модели по сути своей «базарные».
Так что если рынок и коммерцию считать реальностью жизни, тогда он и будет гуманизмом, а требование малевичевской аскезы – антигуманно. И наоборот, если общество стремится к жизни, которая больше не тратит времени ни на что потребительское и обменно-прибыльное, то «гуманизмом» является этика авангарда и биополитическая утопия Малевича.[19]
Несмотря на то, что Гройс пишет из самого эпицентра рынка и капитализма, он требует от искусства именно того, что важно для авангарда, – продолжать мыслить утопию. Именно в интенсивности и силе такого утопического воображения и заключается «власть искусства» (Art Power). Но условия нашей современности не позволяют относиться к проекту утопии как методу ее переполагания на будущее (тем более что фигуры политических идей будущего не пользуются популярностью, уступая место диверсификационным сетям спроса и предложения), способ мыслить сегодня утопию все-таки существует. Этот способ – гетеротопия. Гетеротопия (другое место или даже место Другого) – это возможность утопии здесь и сейчас, даже когда утопический и авангардный проект кажется невозможным.
У Гройса основным локусом гетеротопии становится музей. Музей – не как здание, не как конкретное место, и даже не как культурное отгораживание вечного и бесконечного (духовного) от конечного и смертного. Музей – это ментальная фигура, которая позволяет смотреть на жизнь как бы из точки уже осуществившейся смерти, смерти – как явления неминуемого. И из этого понимания смертного, умершего и даже мертвого как первичного по отношению к жизни и выстраивается риторика авангарда в его противостоянии случайному, сиюминутному. Из данной же логики вытекает и возможность утопии. Ибо только то, что не считает смерть препятствием, способно не упорствовать в той модели жизни, которая охвачена утилитарно-рыночными интересами. Так понятая гетеротопия (как присутствие утопии здесь и сейчас) избегает иерархического реестра вкуса, мнений и текущих политических ситуаций. И именно это делает подобное положение мысли действительно политическим.
В этом смысле искусство всегда политично, потому что оно, как это ни парадоксально, возвышается над прикладной политикой ради «политики бессмертия». Поэтому и политика коммунизма может быть помыслена именно в рамках политики бессмертия – политики, от которой навсегда отчислен «харчевой» принцип. Это принцип «жизни», все время находящийся внутри конкуренции прибыльного, убыточного, выигрышного или, наоборот, проигрышного. С точки зрения политики и этики авангарда, такая жизнь – недожизнь. Из жизни надо сделать нечто радикально неутилитарное, художественное, чтобы она стала настоящей жизнью. Иначе говоря, только когда жизнь становится искусством, то есть становится вечной, тогда она и становится жизнью.
