Думаю, что следует относиться с большим пониманием к личности в спорте и уважать стремление атлета к спортивному росту.
Тем не менее ничто не может оправдать спортсмена, если он покидает свою команду в разгар сезона, зная при этом, что ставит ее в трудное положение. Время переходов, мне кажется, должно быть непременно регламентировано. Месяц ли, два ли, больше или меньше, но время такое необходимо.
Итак, началась моя спортивная жизнь в новом клубе. Психологическая акклиматизация в коллективе прошла очень быстро. Буквально неделю спустя я уже был своим человеком в команде и чувствовал себя так, словно всю жизнь здесь провел. Впрочем, удивляться не приходится: ребята хорошо меня знали.
Не успел я прийти, как тут же втянулся в кампанию по вербовке еще одного игрока…
Как-то в павильон дяди Саши пришел вратарь команды Николай Соколов и мощным голосом, перекрывая шум, сказал:
– Так вот, братцы, я нынче понял, чего нам не хватает для полного успеха… – Желая заинтриговать ребят, он сделал паузу. И впрямь все разинули рты, поскольку знали: Соколов слов на ветер не бросает – его уважали как человека и боготворили как вратаря. Голкипер он отменный – не брал лишь те мячи, которые вообще невозможно взять, и не случайно стал первым стражем ворот сборной СССР. – Не хватает нам, – продолжал он, – рыжего игрока!
– Этого нам только и не хватает! – с иронией подхватил полузащитник Сева Кузнецов.
– Представь, этого… Видел сегодня… не то что рыжего – огненного футболиста. Скажу вам: божьей милостью футболист! Нам бы такого заиметь, и тогда никакие питерцы не страшны. Играет в СКЛ. И они его, братцы, в третьей команде держат! Будто в первой у них сплошь олимпийские чемпионы… И парень, видно, хороший. Честно играет – выкладывается весь, до ногтей. Футболку – хоть выжимай…
Не исключено, что знаменитый Федор Селин так никогда и не узнал, что история его перехода в 1-ю команду СКЗ началась именно с этого разговора.
Мы ходили на матчи первенства лиги средних учебных заведений, приглядывались к командам, игрокам– искали футбольные таланты. И находили.
Игроки шли к нам с большой охотой, хотя никаких материальных соблазнов не было. Но в спорте все соревновательно, в том числе и моральный микроклимат, сложившийся в командах. В «Стрекозе» ребята собственноручно его сделали таким, что он притягивал к себе атлетов из других клубов.
Пожалуй, ни одну команду не охватывало так увлечение вспомогательными видами спорта, как «Стрекозу», которая запасалась силой, ловкостью и летом и зимой. Мы увлекались теннисом, легкой атлетикой, зимой ходили на лыжах, посещали городские катки… По молодости, однако, не всегда умели правильно распределить свои силы. Может, этим как раз следует объяснить некоторую неровность наших выступлений в первенствах?
В тот год (1916) «Стрекоза» играла очень неровно. Болельщики иной раз ошалело вглядывались в таблицу и никак не могли понять: что же это за команда, «Стрекоза»? Очень она слабая или очень сильная?
Команда выступала по самому высокому классу МФЛ, обозначенному литером «А». В класс «А» входили восемь команд, и среди них знаменитая, непобедимая «Новогиреево» – состав которой шел почти без поражений не только во встречах с москвичами, но и с петроградцами. Мастерство этой команды явно обогнало свое время и, думается, соответствовало примерно уровню тридцатых годов. По классу «А» играли и другие очень сильные команды – КСО (морозовцы), ОЛЛС (Общество любителей лыжного спорта), ЗКС (Замоскворецкий клуб спорта)…
И вот начинается сезон, идет первый круг. «Стрекоза» встречается с ОФВ (Общество физического воспитания): у игроков первой – авторитет талантливой, многообещающей молодежи. От нее ждут сюрпризов самого позитивного толка, ибо знают: она уже потрясла болельщиков сенсацией, обыграв «Новогиреево». И верно – она подтверждает свое реноме. Матч «Стрекоза» – ОФВ заканчивается счетом 6:0. «Браво!» – кричат болельщики. «Браво!» – восклицает пресса. И – те и другие ломают головы насчет прогноза: кого нынче ожидает чемпионство – «Новогиреево» или «Стрекозу»?
Следующий матч с КСО. Играем и… проигрываем со счетом… 1:7! Опять сенсация. Только уж с обратным знаком. А дальше терпим поражение от ОЛЛС (1:2), ЗКС (0:6), КФС (1:8).
Единственно, чего мы добиваемся, так это того, что о нас говорят и говорят – здесь мы чемпионы. Чего только не говорят! И сплошь ругательные слова. Послушать, так каждому из нас нужно упрятать форму в сундук и проситься в приют для калек. «…СКЗ, красиво игравшая всю весну, имевшая такие блестящие победы, как над «Новогиреевом» и «Меркуром» (петроградская команда. – М. С), в настоящее время до безобразия плохо играет, проигрывая с большим счетом таким, как КФС.
Этот матч (речь идет о предстоящей встрече с ОФВ во втором круге. – М. С.) не будет иметь ничего общего с матчами класса «А».
Но оракул из «Русского спорта» угодил в лужу – мы выиграли этот матч…
А дальше… Дальше легкомысленная «Стрекоза» повергает московский футбольный мир в другую крайность. И снова: «Браво!», «Парад СКЗ!» Да, наша «Стрекоза» шествует по второму кругу парадным маршем. «Новогиреево» у нас уходит с поля, понуро опустив голову, потому что на языке подобного счета – 6:3 – с ними еще никто не разговаривал. Потом мы буквально учиняем расправу эмфээловской команде номер два – КСО, морозовцам. Они у нас проглотили счет 10:1! Потом выигрываем у ОЛЛС – 4:1, у СКЛ – 4:2…
Один матч в этом круге мы все же проиграли. Встреча СКЗ – ЗКС закончилась счетом 3:4 в пользу ЗКС. Мы упорно боролись, долгое время вели со счетом 3:2. Но дальше обстоятельства сложились не в нашу пользу – за 25 минут до конца матча судья удалил с поля Федора Селина, теперь уж не помню за что.
Все это время пресса без устали комментировала футбольные события сезона. Фавориты, кумиры на ее страницах вздымались с молниеносностью ракет и, подобно фейерверку, сгорали, падали. В отчетах то и дело мелькали фамилии центровой тройки «Стрекозы»: Александр Георгиевский, Михаил Сушков, Сергей Лякстутович. Хорошо отзывались о голкипере Николае Соколове, полузащитнике Всеволоде Кузнецове. Федора Селина то ругали – «Он, как всегда, веселил публику своими дикими прыжками», – то хвалили, признавая его талант. Защитника Михаила Рущинского журналисты называли новой звездой, захлебывались, восторгаясь его одаренностью. А месяц спустя внесли поправку: оказалось, Рущинский уже не звезда, а только лишь метеор – дескать, вспыхнул и сгорел. Однако газеты рановато принялись отпевать Рущинского – ему еще предстояло играть за сборную Москвы, а потом и за сборную СССР.
«Стрекоза» заняла в турнирной таблице пятое место – к сожалению, результаты первого круга со счетов не скинешь. Эту, мягко говоря, неровность команды во многом можно объяснить неумелым использованием вспомогательных видов спорта.
Помню, кто-то из знатоков футбола сказал тогда о «Стрекозе»: у большинства из этих ребят имеется весь набор, достоинств, которые в сумме составляют талант. Им не хватает лишь одной вещи – той, что всегда в дефиците у юности, – мудрости. Верно, мы часто забывали, что главное, а что второстепенное. В этом и заключалась нехватка мудрости.
И все же футбол для нас оставался футболом. В сезоне 1917 года в сумме не набралось бы и недели моего неприсутствия на поле СКЗ. Хотя, чтобы попасть на стадион, приходилось отмерять километров десять – трамваи стояли. Ведь шел семнадцатый год!
Большая часть тренировки сводилась к двусторонней игре и ударам по воротам. Разыгрывали простенькую комбинацию. Скажем, Василий Выборное и Иосиф Филимонов ведут мячи по краям. Не доходя метров шести-восьми до лицевой линии, стараются подать их в площадку между точкой одиннадцатиметрового и дальней штангой – в четырех-пяти метрах от нее. Мяч летит навесом, прострелом, а может, и катится по земле. Его-то мы и должны без обработки направить в ворота. Мы и не замечали, как проходило таким образом два-три часа. Потом разбивались на две равные группы и начинали игру. А здесь возникали, понятно, самые разные – и те, что невозможно ни придумать, ни предвидеть, – ситуации, из которых, хочешь – не хочешь, а находить выход надо. Мы, естественно, хорошо знали и типичные ситуации и немало их репетировали. Однако был у нас тренаж, который не смогли бы заменить и самые остроумные выдумки тренеров. Называли его «Занзибар и Мадагаскар». Название продиктовано, вероятно, нашим таинственным и туманным мальчишеским представлением о далеких, непонятных землях.
Между футбольным полем и теннисным кортом оставалась неокультуренная, так сказать, первородная площадка, заросшая довольно редким кустарником да репейником. Она как раз примыкала к павильону дяди Саши. Тут же, возле павильона, стояли лавочки, на которых мы рассаживались в перерывах. Впрочем, мы не садились на них, а буквально падали. Однако проходили две-три минуты, снималась первая усталость, и начинала действовать инерция только что прерванной работы. Кто-нибудь вскакивал, хватал мяч и начинал водить его тут же, перед лавочками. Мяч закатывался в кустарник, но игрок настигал его и продолжал свои действия уже там. Возникал интерес поводить мяч в осложненных условиях. Потом стало ясно, что обводка кустов – прекрасное упражнение для дриблинга.
Мы узаконили это упражнение, отвели ему время на тренировках и занимались им регулярно. В конце концов пустырь превратился у нас в своеобразное футбольное поле, где устраивали состязания – сперва один на один, а дальше команда на команду. Сложился постоянный состав этих групп. Один из них назывался «Занзибар», другой – «Мадагаскар». Ворот в таких соревнованиях не было, встречи проходили без счета. Увлекал сам процесс этой необычной игры.
Пользу от такого упражнения трудно переоценить. Росло мастерство нашего владения мячом, отрабатывалось тактическое чутье. Но возникал еще один очень важный – психологический фактор. Потом, когда после таких вот сложных условий мы выходили на ровное, открытое поле, ощущали его простор, души наши охватывала радость: как приятно, легко, весело работать на этой удобной поляне! И если говорят, будто в своем доме и стены помогают, то для нас родным становилось даже чужое поле…
О графе Монте-Кристо и профессии управдома
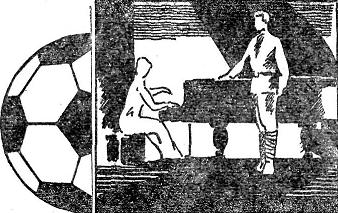
Параллельно с футбольной стороной моей жизни развивалась и артистическая.
В семействе нашем шел упорный слух о моих музыкальных способностях. Возник он давно. Еще в 1905 году в доме появилась некая музыкальная машина. Ничего общего с фонографом эта штука не имела. Принцип ее чисто механический и походил скорее на принцип шарманки.
Дисков было много. Каждый содержал в себе шифр какого-либо произведения. И вот в свои шесть лет, не умея читать, я безошибочно мог сказать, на каком из них что записано, – признак, который говорил скорее о моей зрительной памяти, наблюдательности. Однако сей феномен почему-то сочли приметой музыкального таланта. А то, что я чисто пел вальсы, марши, романсы, производимые чудо-техникой, считалось как раз делом обычным, скорее всего оттого, что в семье у нас у всех хороший слух.
С опозданием, весьма значительным, ибо музыке, как известно, начинают учить в раннем детстве, в пору моего восемнадцатилетия бабушка подарила рояль. Родители тут же решили нанять учителя. Но прошло несколько месяцев, прежде чем исполнили намерение.
Все это время я не отходил от инструмента. Подбирал по слуху популярные песенки, танцы и не переставал удивляться, как все это просто и споро получается, как пальцы сами находят нужные звуки, как здорово левая рука подлаживается к правой и как четко, ясно все голоса звучат у меня в голове. Удивлялся я и другому: почему никому из моих домашних не удавалась эта простая штука, почему они мучились в поисках следующего звука, часто безрезультатно, когда нота сама на тебя смотрит, когда палец неудержимо тянется к ней сам? Удивлялся, поскольку не знал, что подобное ощущение – плод особого устройства мозга.
Осенью в доме появилась, как называли у нас, учительша-музыкантша. Фортепианные дела мои пошли быстро. По молодости моя наставница тщательно соблюдала принятую в те годы педагогическую форму: строгость, скупость на проявление чувств…
Вероятно, родителям она говорила гораздо больше, чем мне, поскольку с некоторых пор я стал замечать на себе непривычные, странные взгляды домочадцев – уважительные, с неким оттенком недоумения, точно в них содержался вопрос: откуда, мол, ты такой взялся?
Вскоре старшие братья стали брать меня с собой на вечеринки, и уж само собой разумелось мое присутствие, когда молодежь собиралась у нас. Я превратился в тапера. Впрочем, роль эта мне очень нравилась…
Нынче мне и самому кажется малодостоверной возможность уместить столько дел в течение 24 часов. Но от факта никуда не денешься: заканчивал гимназию, музыкой, как уже сказано, занимался упорно, футболом, понятно, тоже.
Миновал нелегкий, насыщенный, длинный, как век, семнадцатый год. Великая революция свершилась! В наследство молодой Республике Советов достались разруха, неразбериха, саботаж…
Голод, холод, болезни… Но нужно выжить! А «выжить» в революционном смысле означало не только защитить революцию от врагов, но и наладить нормальную жизнь во всем ее комплексе – с экономикой и культурой.
Вот почему голодные, неустроенные люди учатся игре на фортепиано, играют в футбол, ходят на лекции в университет. Все это, если и обесценилось, то лишь самую малость. Да и то потому, что кусок хлеба сильно подорожал. Нехватка его, разумеется, сказывалась повсюду…
Обычно в книгах о годах революции и гражданской войны пишут только в наиболее броском и ставшем уже привычным плане – политической борьбы, боевых сражений и экономических трудностей. Но была и другая сторона этого великого народного подвига…
Да, мы играли в футбол и не слишком сильно теряли зрителя. Первенства МФЛ разыгрывались планомерно: и в 1917-м и в 1918-м календари выполнялись неуклонно, не прерывались в самые тяжелые дни. Новое общество держало дисциплину, ибо стремилось сберечь и взять с собой в новую жизнь все истинно ценное, что создало старое.
К тому времени я закончил гимназию и поступил на работу в районный отдел народного образования. Обязанности здесь, правда, были не слишком большие и сложные. Именно поэтому я счел возможным еще и поступить на юридический факультет Московского университета.
Я приходил на службу в роно, и мне там говорили: вот тебе задание – нужно составить списки лиц, которых можно привлечь к работе в народном образовании. Сделаешь – можешь быть свободным. Играй в свой футбол, ходи на лекции… Мне внушали, что я должен этим заниматься, как бы ни было трудно, поскольку это важно и нужно не только мне, но и революции. Тогда об этом говорили с глубоким пониманием и сознанием истинности таких слов. Тем более что работники просвещения, как никто, осознавали ответственность за духовную жизнь нации.
В канцелярии отдела сидела юная машинистка – стройная, миниатюрная блондинка с аккуратными тугими косичками, на редкость собранная, дисциплинированная. Тоненьким голоском с удивительно четкой дикцией, обращавшей на себя внимание, она говорила мне:
– Миша, на чистовик не пиши, не теряй времени – я отпечатаю. Ступай, а то опоздаешь!
– Спасибо, Машенька, но тебе и без того работы хватает…
– Ничего, посижу на полчаса больше…
Кто мог тогда подумать, что голос этой девочки зазвучит по всей стране, что имя ее станет одним из самых популярных в Советском Союзе и войдет в историю советского театра?
Но тогда сотрудники отдела образования замечали в будущей народной артистке СССР Марии Бабановой только одно призвание – печатать на машинке…
Но так продолжалось недолго…
Рождение Красной Армии уже состоялось. Сейчас в срочном порядке формировались воинские части для отправки на фронт.
Семья Сушковых не осталась в стороне от великих событий. Старший брат Сергей уже воевал на фронте. Мы с Александром, захваченные новыми идеями, сознавая себя взрослыми, физически сильными, способными держать орущие, чувствовали свою гражданскую обязанность. Записались в Красную Армию и мы.
В большом особняке господина Шена, что в Сыромятниках, у Курского вокзала, покинутом хозяином еще в дни Октября, 2-я латышская стрелковая дивизия расположила свой ружейно-пулеметный склад. Сюда-то нас и направили. Меня, как человека не имеющего военного образования, зачислили писарем. Александр перед самой революцией закончил школу прапорщиков, но И его почему-то послали сюда же. А мы рвались на фронт.
В январе 1919 года пришел долгожданный приказ. Наша дивизия наконец погрузилась в эшелоны и отправилась на запад в город Режицу (ныне Резекне).
Части дивизии, получившие зеленую улицу до самой Режицы, подолгу в тупиках не отстаивались, но тем не менее пробивались сквозь железнодорожные пробки с трудом. Отправляли нас в первую очередь, но этой первой тоже приходилось подолгу ждать.
Перроны, вокзалы забивали ревущие, страстями кипевшие толпы. Оглушительный гам раздражал, взвинчивал, нагнетал истерию даже в самые флегматичные души. Нигде так не обнажились страшные черты социального катаклизма, как здесь, на железных дорогах. Роскошные шубы, подбитые дорогими мехами, шикарные дамские шляпки мешались в кучу с дерюгой, домоткаными платками, чемоданы, баулы с холщовыми мешками, котомками. Тонкие, благородные лица аристократов утратили сейчас и тонкость и благородство. Достоинство, респектабельность, высокомерие как рукой сняло.
Вот где рождалась истинная демократия – демократия чувств. С хозяев жизни сбивалась спесь, оголялась их человеческая слабость, беспомощность, а души простолюдинов, обнаруживших вдруг мнимость барского превосходства, освобождались от чувства рабства, от безудержного желания ломать шапку, кланяться низко в пояс.
…До Режицы добрались мы сравнительно быстро. Но моя колесная жизнь на этом не кончилась – на другой же день вызвали в штаб дивизии, вручили секретный пакет и снова отправили в Москву.
По возвращении в Режицу случилась неприятность – я заболел сыпным тифом и попал в госпиталь.
Тифозных в этой лечебнице было едва ли не меньше, чем раненых. А смертность от сыпняка намного больше, чем от ранений.
Недели две я умирал, но «футбольный» мой организм все-таки выстоял. Пережив кризис, я пошел на поправку.
Отлежал месяц в госпитале, выписался и отправился в часть. Оказалось, за это время 2-ю латышскую дивизию переформировали в 15-ю армию. Я получил назначение в ее штаб – в распоряжение начальника полевого штаба товарища Хрулева.
Я был недоволен своим положением военного писаря. Тем более что брат Александр уже воевал на передовой. Его, как человека с военной специальностью, отправили в 4-ю стрелковую дивизию командиром роты.
О том, чтобы мне проситься на передовую, не могло быть и речи. Такая просьба могла вызывать только смех – после болезни меня буквально шатало из стороны в сторону. Но, когда началось наступление нашей армии, я стал фельдъегерем полевого штаба, и уж чего-чего, а романтики опасности в моей новой службе хватало. Работал в секретном отделе, распоряжался автомобилем с телеграфной установкой, мотоциклом, который грузился в кузов, и двумя красноармейцами – телеграфистом и мотоциклистом.
Армия наша быстро продвигалась на запад. Мы вошли в Польшу и устремились к Варшаве.
Брат иногда присылал мне весточки. Хоть и не очень регулярная, но все же связь. Пару раз мы даже виделись – когда их часть переводили в резерв. Но потом вести от него прекратились.
Несколько месяцев неизвестности. В голову лезло самое плохое, но надежда все же не покидала.
К тому времени части 15-й армии заняли Белосток. Моя фельдъегерская группа квартировала в небольшом доме какого-то польского мещанина.
Однажды, поближе к ночи – я уж собрался было спать, – прибежал вестовой и сообщил, что меня срочно требует товарищ Хрулев. Спешка была такая, что я едва успел одеться. Красноармеец сказал: приказано, мол, доставить как есть, в чем есть. Я стал допытываться о причине, и он ответил: «На пианине играть будешь». Я выругался, подумав, что у крупного руководителя Красной Армии генеральские замашки. Подумал, потому что не знал о второй причине моего вызова. Из-за нее-то Хрулев и облек в шутливую форму этот по приятному случаю приказ, который красноармеец понял буквально.
Я вошел в зал и, отыскав глазами начальника штаба, направился к нему, чтобы доложить о прибытии. Но не успел сделать и нескольких шагов, как услышал… Голос донесся от одного из столов, за которым сидело с десяток военных.
– Миша!
Ко мне, раскрыв объятия, летел Александр…
Он похудел, лицо уставшее, серое. Оно показалось мне сперва чужим, утратившим знакомую мальчишескую мягкость, скупым на улыбку. Только минуту спустя в смеющихся глазах обнаружил родное, близкое и… не то, чтобы детское – сохраненное, донесенное от детства.
Он усадил меня за стол рядом с собой. Кто-то предложил выпить за счастливую встречу. Минут десять мы с ним сбивчиво, прерывая друг друга, рассказывали о себе. Потом Хрулев, перекрывая голоса, крикнул:
– Ну ладно, братья, нынче еще успеете наговориться – вся ночь ваша. Ты, Михаил, сыграл бы нам… что-нибудь для души. Хочется хорошей музыки послушать, истосковались по красивому, людскому…
И верно, истосковались. Бойцы облепили рояль и слушали вальс Шопена, который, несмотря на большой перерыв, получался у меня неплохо. И это потому, что стояла неожиданная, удивительная для подвыпившей компании тишина. Здесь были и такие, кто, возможно, видел рояль и слышал его звуки впервые. Но слушали, как знатоки большого музыканта. Я это чувствовал. Чувствовал, как прихватил их сердца, ощущал вокруг себя весеннюю капель, оттаивание заиндевелых душ.
От музыки дохнул на них аромат той истинно красивой жизни, к которой они стремились, за которую вели эту войну. Сейчас им чуть приоткрылся лик этой жизни и показался прекрасней, чем они того ожидали.
Я обратил внимание, как хмелели эти люди…, вернее, на качество, что ли, охмеления – ничего похожего на разгульно-купеческое, бесшабашное «пей-гуляй»… На уставших, изнуренных лицах блестели глаза. И улыбка… не то, чтобы сдержанная – какая-то бессильная.
Потом они пели под мой аккомпанемент, очень немногие танцевали, плясали, к тому же не слишком дружно. Большинство оставались за столами и в основном слушали – вальсы, польки, падеспани, которые я подбирал по слуху. Под конец ко мне подошел начштаба Хрулев и сказал:
– Ну, Миша… Спасибо тебе, брат! Я и не знал, что ты так хорошо играешь. Я, конечно, не шибко в этом разбираюсь, но кажется мне, человек ты талантливый. Думаю, скоро мир наступит. Останешься жив, непременно иди учиться. И не слушай дураков, которые говорят, что революции эти дела не нужны. Ты нынче сам видел: нужны или нет?!
Наступил 1921 год. Военные действия на западном театре войны закончились. 15-ю армию перевели в Россию, в Великие Луки. Случайно ли так совпало, или кто-то подсказал квартирмейстерам, но при расквартировании штаба меня поселили в дом, где имелось пианино.
Несколько дней спустя в дверях штаба я случайно встретился с Хрулевым. Он прошел мимо, не обратив на меня внимания. Но вдруг остановился, оглянулся и сказал:
– Сушков, поди-ка сюда. Я подошел.
– Проезжал я тут… из машины заметил вывеску: «Великолукская музыкальная школа». Ты узнай, может, она и не работает? Если работает, запишись и начинай учиться. Я скажу, чтобы тебя отпускали. Выйдут какие сложности, приходи ко мне. Чем смогу, помогу.
Школа работала. Я стал учащимся ее фортепианного отделения. Но вскоре, по совету нашего хормейстера, который нашел у меня неплохой голос, поступил в класс вокала.
…Поздней осенью 1921 года наступил конец моей солдатской жизни – пришел приказ о демобилизации. Один из товарищей по службе уговаривал меня поехать к нему на родину, в Симбирск. Я серьезно отнесся к этой мысли – в Москве мне нечего было делать. К этому времени я уже получил печальные вести. Семья моя уехала в Ростов еще в девятнадцатом году. Там от черной оспы умерла мать… На фронте погиб брат Сергей. Остальные разъехались кто куда, след их временно потерялся.
Я согласился ехать в Симбирск с одним непременным условием: остановиться на несколько дней в Москве.
Первая же встреча здесь поломала мои планы.
Сева Кузнецов (напомню: полузащитник из СКЗ) буквально бросился мне на шею. Он тискал меня, обнимал. В глазах его стояли слезы.
– Мишка! Живой! – восклицал он. – Ну, радость какая! Ребята нынче умрут от радости!
И тут я понял: попал домой. Домой! Во всей глубине, сложности и многозначности этого слова. В то место, где тебя ждут, где тебя знают, где в тебе нуждаются, где по тебе тоскуют, наконец. В место, где тебя понимают, где тебе помогают, где на тебя сердятся за то, что делаешь глупости в ущерб самому себе.
Я не лежал в окопах, но два с половиной года тем не менее изо дня в день моя жизнь висела на волоске. Редко бывало, когда наш полевой штаб находился вне зоны артиллерийского обстрела, не раз приходилось выходить из тылов противника, пробиваться сквозь смертоносные полосы сплошного огня. И потому за эти два с половиной года я прожил жизнь куда более длинную, чем мои московские друзья. Думаю, им здесь тоже было несладко. Сейчас мне казалось, что прошло очень много времени и вряд ли кто-либо, кроме родных, способен на столь длинную дружескую память обо мне. К тому же во мне говорил неизбежный комплекс возвращающегося на родину солдата – он ощущает в себе некую ущербность, ему кажется: пока он служил, товарищи его росли, набирались ума, утверждались в жизни. Он чувствует свое сильное отставание и боится снисходительных взглядов.
Тем не менее ничто не может оправдать спортсмена, если он покидает свою команду в разгар сезона, зная при этом, что ставит ее в трудное положение. Время переходов, мне кажется, должно быть непременно регламентировано. Месяц ли, два ли, больше или меньше, но время такое необходимо.
Итак, началась моя спортивная жизнь в новом клубе. Психологическая акклиматизация в коллективе прошла очень быстро. Буквально неделю спустя я уже был своим человеком в команде и чувствовал себя так, словно всю жизнь здесь провел. Впрочем, удивляться не приходится: ребята хорошо меня знали.
Не успел я прийти, как тут же втянулся в кампанию по вербовке еще одного игрока…
Как-то в павильон дяди Саши пришел вратарь команды Николай Соколов и мощным голосом, перекрывая шум, сказал:
– Так вот, братцы, я нынче понял, чего нам не хватает для полного успеха… – Желая заинтриговать ребят, он сделал паузу. И впрямь все разинули рты, поскольку знали: Соколов слов на ветер не бросает – его уважали как человека и боготворили как вратаря. Голкипер он отменный – не брал лишь те мячи, которые вообще невозможно взять, и не случайно стал первым стражем ворот сборной СССР. – Не хватает нам, – продолжал он, – рыжего игрока!
– Этого нам только и не хватает! – с иронией подхватил полузащитник Сева Кузнецов.
– Представь, этого… Видел сегодня… не то что рыжего – огненного футболиста. Скажу вам: божьей милостью футболист! Нам бы такого заиметь, и тогда никакие питерцы не страшны. Играет в СКЛ. И они его, братцы, в третьей команде держат! Будто в первой у них сплошь олимпийские чемпионы… И парень, видно, хороший. Честно играет – выкладывается весь, до ногтей. Футболку – хоть выжимай…
Не исключено, что знаменитый Федор Селин так никогда и не узнал, что история его перехода в 1-ю команду СКЗ началась именно с этого разговора.
Мы ходили на матчи первенства лиги средних учебных заведений, приглядывались к командам, игрокам– искали футбольные таланты. И находили.
Игроки шли к нам с большой охотой, хотя никаких материальных соблазнов не было. Но в спорте все соревновательно, в том числе и моральный микроклимат, сложившийся в командах. В «Стрекозе» ребята собственноручно его сделали таким, что он притягивал к себе атлетов из других клубов.
Пожалуй, ни одну команду не охватывало так увлечение вспомогательными видами спорта, как «Стрекозу», которая запасалась силой, ловкостью и летом и зимой. Мы увлекались теннисом, легкой атлетикой, зимой ходили на лыжах, посещали городские катки… По молодости, однако, не всегда умели правильно распределить свои силы. Может, этим как раз следует объяснить некоторую неровность наших выступлений в первенствах?
В тот год (1916) «Стрекоза» играла очень неровно. Болельщики иной раз ошалело вглядывались в таблицу и никак не могли понять: что же это за команда, «Стрекоза»? Очень она слабая или очень сильная?
Команда выступала по самому высокому классу МФЛ, обозначенному литером «А». В класс «А» входили восемь команд, и среди них знаменитая, непобедимая «Новогиреево» – состав которой шел почти без поражений не только во встречах с москвичами, но и с петроградцами. Мастерство этой команды явно обогнало свое время и, думается, соответствовало примерно уровню тридцатых годов. По классу «А» играли и другие очень сильные команды – КСО (морозовцы), ОЛЛС (Общество любителей лыжного спорта), ЗКС (Замоскворецкий клуб спорта)…
И вот начинается сезон, идет первый круг. «Стрекоза» встречается с ОФВ (Общество физического воспитания): у игроков первой – авторитет талантливой, многообещающей молодежи. От нее ждут сюрпризов самого позитивного толка, ибо знают: она уже потрясла болельщиков сенсацией, обыграв «Новогиреево». И верно – она подтверждает свое реноме. Матч «Стрекоза» – ОФВ заканчивается счетом 6:0. «Браво!» – кричат болельщики. «Браво!» – восклицает пресса. И – те и другие ломают головы насчет прогноза: кого нынче ожидает чемпионство – «Новогиреево» или «Стрекозу»?
Следующий матч с КСО. Играем и… проигрываем со счетом… 1:7! Опять сенсация. Только уж с обратным знаком. А дальше терпим поражение от ОЛЛС (1:2), ЗКС (0:6), КФС (1:8).
Единственно, чего мы добиваемся, так это того, что о нас говорят и говорят – здесь мы чемпионы. Чего только не говорят! И сплошь ругательные слова. Послушать, так каждому из нас нужно упрятать форму в сундук и проситься в приют для калек. «…СКЗ, красиво игравшая всю весну, имевшая такие блестящие победы, как над «Новогиреевом» и «Меркуром» (петроградская команда. – М. С), в настоящее время до безобразия плохо играет, проигрывая с большим счетом таким, как КФС.
Этот матч (речь идет о предстоящей встрече с ОФВ во втором круге. – М. С.) не будет иметь ничего общего с матчами класса «А».
Но оракул из «Русского спорта» угодил в лужу – мы выиграли этот матч…
А дальше… Дальше легкомысленная «Стрекоза» повергает московский футбольный мир в другую крайность. И снова: «Браво!», «Парад СКЗ!» Да, наша «Стрекоза» шествует по второму кругу парадным маршем. «Новогиреево» у нас уходит с поля, понуро опустив голову, потому что на языке подобного счета – 6:3 – с ними еще никто не разговаривал. Потом мы буквально учиняем расправу эмфээловской команде номер два – КСО, морозовцам. Они у нас проглотили счет 10:1! Потом выигрываем у ОЛЛС – 4:1, у СКЛ – 4:2…
Один матч в этом круге мы все же проиграли. Встреча СКЗ – ЗКС закончилась счетом 3:4 в пользу ЗКС. Мы упорно боролись, долгое время вели со счетом 3:2. Но дальше обстоятельства сложились не в нашу пользу – за 25 минут до конца матча судья удалил с поля Федора Селина, теперь уж не помню за что.
Все это время пресса без устали комментировала футбольные события сезона. Фавориты, кумиры на ее страницах вздымались с молниеносностью ракет и, подобно фейерверку, сгорали, падали. В отчетах то и дело мелькали фамилии центровой тройки «Стрекозы»: Александр Георгиевский, Михаил Сушков, Сергей Лякстутович. Хорошо отзывались о голкипере Николае Соколове, полузащитнике Всеволоде Кузнецове. Федора Селина то ругали – «Он, как всегда, веселил публику своими дикими прыжками», – то хвалили, признавая его талант. Защитника Михаила Рущинского журналисты называли новой звездой, захлебывались, восторгаясь его одаренностью. А месяц спустя внесли поправку: оказалось, Рущинский уже не звезда, а только лишь метеор – дескать, вспыхнул и сгорел. Однако газеты рановато принялись отпевать Рущинского – ему еще предстояло играть за сборную Москвы, а потом и за сборную СССР.
«Стрекоза» заняла в турнирной таблице пятое место – к сожалению, результаты первого круга со счетов не скинешь. Эту, мягко говоря, неровность команды во многом можно объяснить неумелым использованием вспомогательных видов спорта.
Помню, кто-то из знатоков футбола сказал тогда о «Стрекозе»: у большинства из этих ребят имеется весь набор, достоинств, которые в сумме составляют талант. Им не хватает лишь одной вещи – той, что всегда в дефиците у юности, – мудрости. Верно, мы часто забывали, что главное, а что второстепенное. В этом и заключалась нехватка мудрости.
И все же футбол для нас оставался футболом. В сезоне 1917 года в сумме не набралось бы и недели моего неприсутствия на поле СКЗ. Хотя, чтобы попасть на стадион, приходилось отмерять километров десять – трамваи стояли. Ведь шел семнадцатый год!
Большая часть тренировки сводилась к двусторонней игре и ударам по воротам. Разыгрывали простенькую комбинацию. Скажем, Василий Выборное и Иосиф Филимонов ведут мячи по краям. Не доходя метров шести-восьми до лицевой линии, стараются подать их в площадку между точкой одиннадцатиметрового и дальней штангой – в четырех-пяти метрах от нее. Мяч летит навесом, прострелом, а может, и катится по земле. Его-то мы и должны без обработки направить в ворота. Мы и не замечали, как проходило таким образом два-три часа. Потом разбивались на две равные группы и начинали игру. А здесь возникали, понятно, самые разные – и те, что невозможно ни придумать, ни предвидеть, – ситуации, из которых, хочешь – не хочешь, а находить выход надо. Мы, естественно, хорошо знали и типичные ситуации и немало их репетировали. Однако был у нас тренаж, который не смогли бы заменить и самые остроумные выдумки тренеров. Называли его «Занзибар и Мадагаскар». Название продиктовано, вероятно, нашим таинственным и туманным мальчишеским представлением о далеких, непонятных землях.
Между футбольным полем и теннисным кортом оставалась неокультуренная, так сказать, первородная площадка, заросшая довольно редким кустарником да репейником. Она как раз примыкала к павильону дяди Саши. Тут же, возле павильона, стояли лавочки, на которых мы рассаживались в перерывах. Впрочем, мы не садились на них, а буквально падали. Однако проходили две-три минуты, снималась первая усталость, и начинала действовать инерция только что прерванной работы. Кто-нибудь вскакивал, хватал мяч и начинал водить его тут же, перед лавочками. Мяч закатывался в кустарник, но игрок настигал его и продолжал свои действия уже там. Возникал интерес поводить мяч в осложненных условиях. Потом стало ясно, что обводка кустов – прекрасное упражнение для дриблинга.
Мы узаконили это упражнение, отвели ему время на тренировках и занимались им регулярно. В конце концов пустырь превратился у нас в своеобразное футбольное поле, где устраивали состязания – сперва один на один, а дальше команда на команду. Сложился постоянный состав этих групп. Один из них назывался «Занзибар», другой – «Мадагаскар». Ворот в таких соревнованиях не было, встречи проходили без счета. Увлекал сам процесс этой необычной игры.
Пользу от такого упражнения трудно переоценить. Росло мастерство нашего владения мячом, отрабатывалось тактическое чутье. Но возникал еще один очень важный – психологический фактор. Потом, когда после таких вот сложных условий мы выходили на ровное, открытое поле, ощущали его простор, души наши охватывала радость: как приятно, легко, весело работать на этой удобной поляне! И если говорят, будто в своем доме и стены помогают, то для нас родным становилось даже чужое поле…
О графе Монте-Кристо и профессии управдома
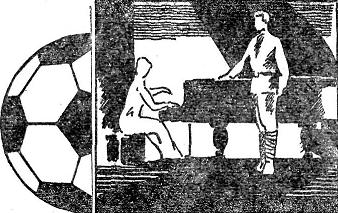
Параллельно с футбольной стороной моей жизни развивалась и артистическая.
В семействе нашем шел упорный слух о моих музыкальных способностях. Возник он давно. Еще в 1905 году в доме появилась некая музыкальная машина. Ничего общего с фонографом эта штука не имела. Принцип ее чисто механический и походил скорее на принцип шарманки.
Дисков было много. Каждый содержал в себе шифр какого-либо произведения. И вот в свои шесть лет, не умея читать, я безошибочно мог сказать, на каком из них что записано, – признак, который говорил скорее о моей зрительной памяти, наблюдательности. Однако сей феномен почему-то сочли приметой музыкального таланта. А то, что я чисто пел вальсы, марши, романсы, производимые чудо-техникой, считалось как раз делом обычным, скорее всего оттого, что в семье у нас у всех хороший слух.
С опозданием, весьма значительным, ибо музыке, как известно, начинают учить в раннем детстве, в пору моего восемнадцатилетия бабушка подарила рояль. Родители тут же решили нанять учителя. Но прошло несколько месяцев, прежде чем исполнили намерение.
Все это время я не отходил от инструмента. Подбирал по слуху популярные песенки, танцы и не переставал удивляться, как все это просто и споро получается, как пальцы сами находят нужные звуки, как здорово левая рука подлаживается к правой и как четко, ясно все голоса звучат у меня в голове. Удивлялся я и другому: почему никому из моих домашних не удавалась эта простая штука, почему они мучились в поисках следующего звука, часто безрезультатно, когда нота сама на тебя смотрит, когда палец неудержимо тянется к ней сам? Удивлялся, поскольку не знал, что подобное ощущение – плод особого устройства мозга.
Осенью в доме появилась, как называли у нас, учительша-музыкантша. Фортепианные дела мои пошли быстро. По молодости моя наставница тщательно соблюдала принятую в те годы педагогическую форму: строгость, скупость на проявление чувств…
Вероятно, родителям она говорила гораздо больше, чем мне, поскольку с некоторых пор я стал замечать на себе непривычные, странные взгляды домочадцев – уважительные, с неким оттенком недоумения, точно в них содержался вопрос: откуда, мол, ты такой взялся?
Вскоре старшие братья стали брать меня с собой на вечеринки, и уж само собой разумелось мое присутствие, когда молодежь собиралась у нас. Я превратился в тапера. Впрочем, роль эта мне очень нравилась…
Нынче мне и самому кажется малодостоверной возможность уместить столько дел в течение 24 часов. Но от факта никуда не денешься: заканчивал гимназию, музыкой, как уже сказано, занимался упорно, футболом, понятно, тоже.
Миновал нелегкий, насыщенный, длинный, как век, семнадцатый год. Великая революция свершилась! В наследство молодой Республике Советов достались разруха, неразбериха, саботаж…
Голод, холод, болезни… Но нужно выжить! А «выжить» в революционном смысле означало не только защитить революцию от врагов, но и наладить нормальную жизнь во всем ее комплексе – с экономикой и культурой.
Вот почему голодные, неустроенные люди учатся игре на фортепиано, играют в футбол, ходят на лекции в университет. Все это, если и обесценилось, то лишь самую малость. Да и то потому, что кусок хлеба сильно подорожал. Нехватка его, разумеется, сказывалась повсюду…
Обычно в книгах о годах революции и гражданской войны пишут только в наиболее броском и ставшем уже привычным плане – политической борьбы, боевых сражений и экономических трудностей. Но была и другая сторона этого великого народного подвига…
Да, мы играли в футбол и не слишком сильно теряли зрителя. Первенства МФЛ разыгрывались планомерно: и в 1917-м и в 1918-м календари выполнялись неуклонно, не прерывались в самые тяжелые дни. Новое общество держало дисциплину, ибо стремилось сберечь и взять с собой в новую жизнь все истинно ценное, что создало старое.
К тому времени я закончил гимназию и поступил на работу в районный отдел народного образования. Обязанности здесь, правда, были не слишком большие и сложные. Именно поэтому я счел возможным еще и поступить на юридический факультет Московского университета.
Я приходил на службу в роно, и мне там говорили: вот тебе задание – нужно составить списки лиц, которых можно привлечь к работе в народном образовании. Сделаешь – можешь быть свободным. Играй в свой футбол, ходи на лекции… Мне внушали, что я должен этим заниматься, как бы ни было трудно, поскольку это важно и нужно не только мне, но и революции. Тогда об этом говорили с глубоким пониманием и сознанием истинности таких слов. Тем более что работники просвещения, как никто, осознавали ответственность за духовную жизнь нации.
В канцелярии отдела сидела юная машинистка – стройная, миниатюрная блондинка с аккуратными тугими косичками, на редкость собранная, дисциплинированная. Тоненьким голоском с удивительно четкой дикцией, обращавшей на себя внимание, она говорила мне:
– Миша, на чистовик не пиши, не теряй времени – я отпечатаю. Ступай, а то опоздаешь!
– Спасибо, Машенька, но тебе и без того работы хватает…
– Ничего, посижу на полчаса больше…
Кто мог тогда подумать, что голос этой девочки зазвучит по всей стране, что имя ее станет одним из самых популярных в Советском Союзе и войдет в историю советского театра?
Но тогда сотрудники отдела образования замечали в будущей народной артистке СССР Марии Бабановой только одно призвание – печатать на машинке…
Но так продолжалось недолго…
Рождение Красной Армии уже состоялось. Сейчас в срочном порядке формировались воинские части для отправки на фронт.
Семья Сушковых не осталась в стороне от великих событий. Старший брат Сергей уже воевал на фронте. Мы с Александром, захваченные новыми идеями, сознавая себя взрослыми, физически сильными, способными держать орущие, чувствовали свою гражданскую обязанность. Записались в Красную Армию и мы.
В большом особняке господина Шена, что в Сыромятниках, у Курского вокзала, покинутом хозяином еще в дни Октября, 2-я латышская стрелковая дивизия расположила свой ружейно-пулеметный склад. Сюда-то нас и направили. Меня, как человека не имеющего военного образования, зачислили писарем. Александр перед самой революцией закончил школу прапорщиков, но И его почему-то послали сюда же. А мы рвались на фронт.
В январе 1919 года пришел долгожданный приказ. Наша дивизия наконец погрузилась в эшелоны и отправилась на запад в город Режицу (ныне Резекне).
Части дивизии, получившие зеленую улицу до самой Режицы, подолгу в тупиках не отстаивались, но тем не менее пробивались сквозь железнодорожные пробки с трудом. Отправляли нас в первую очередь, но этой первой тоже приходилось подолгу ждать.
Перроны, вокзалы забивали ревущие, страстями кипевшие толпы. Оглушительный гам раздражал, взвинчивал, нагнетал истерию даже в самые флегматичные души. Нигде так не обнажились страшные черты социального катаклизма, как здесь, на железных дорогах. Роскошные шубы, подбитые дорогими мехами, шикарные дамские шляпки мешались в кучу с дерюгой, домоткаными платками, чемоданы, баулы с холщовыми мешками, котомками. Тонкие, благородные лица аристократов утратили сейчас и тонкость и благородство. Достоинство, респектабельность, высокомерие как рукой сняло.
Вот где рождалась истинная демократия – демократия чувств. С хозяев жизни сбивалась спесь, оголялась их человеческая слабость, беспомощность, а души простолюдинов, обнаруживших вдруг мнимость барского превосходства, освобождались от чувства рабства, от безудержного желания ломать шапку, кланяться низко в пояс.
…До Режицы добрались мы сравнительно быстро. Но моя колесная жизнь на этом не кончилась – на другой же день вызвали в штаб дивизии, вручили секретный пакет и снова отправили в Москву.
По возвращении в Режицу случилась неприятность – я заболел сыпным тифом и попал в госпиталь.
Тифозных в этой лечебнице было едва ли не меньше, чем раненых. А смертность от сыпняка намного больше, чем от ранений.
Недели две я умирал, но «футбольный» мой организм все-таки выстоял. Пережив кризис, я пошел на поправку.
Отлежал месяц в госпитале, выписался и отправился в часть. Оказалось, за это время 2-ю латышскую дивизию переформировали в 15-ю армию. Я получил назначение в ее штаб – в распоряжение начальника полевого штаба товарища Хрулева.
Я был недоволен своим положением военного писаря. Тем более что брат Александр уже воевал на передовой. Его, как человека с военной специальностью, отправили в 4-ю стрелковую дивизию командиром роты.
О том, чтобы мне проситься на передовую, не могло быть и речи. Такая просьба могла вызывать только смех – после болезни меня буквально шатало из стороны в сторону. Но, когда началось наступление нашей армии, я стал фельдъегерем полевого штаба, и уж чего-чего, а романтики опасности в моей новой службе хватало. Работал в секретном отделе, распоряжался автомобилем с телеграфной установкой, мотоциклом, который грузился в кузов, и двумя красноармейцами – телеграфистом и мотоциклистом.
Армия наша быстро продвигалась на запад. Мы вошли в Польшу и устремились к Варшаве.
Брат иногда присылал мне весточки. Хоть и не очень регулярная, но все же связь. Пару раз мы даже виделись – когда их часть переводили в резерв. Но потом вести от него прекратились.
Несколько месяцев неизвестности. В голову лезло самое плохое, но надежда все же не покидала.
К тому времени части 15-й армии заняли Белосток. Моя фельдъегерская группа квартировала в небольшом доме какого-то польского мещанина.
Однажды, поближе к ночи – я уж собрался было спать, – прибежал вестовой и сообщил, что меня срочно требует товарищ Хрулев. Спешка была такая, что я едва успел одеться. Красноармеец сказал: приказано, мол, доставить как есть, в чем есть. Я стал допытываться о причине, и он ответил: «На пианине играть будешь». Я выругался, подумав, что у крупного руководителя Красной Армии генеральские замашки. Подумал, потому что не знал о второй причине моего вызова. Из-за нее-то Хрулев и облек в шутливую форму этот по приятному случаю приказ, который красноармеец понял буквально.
Я вошел в зал и, отыскав глазами начальника штаба, направился к нему, чтобы доложить о прибытии. Но не успел сделать и нескольких шагов, как услышал… Голос донесся от одного из столов, за которым сидело с десяток военных.
– Миша!
Ко мне, раскрыв объятия, летел Александр…
Он похудел, лицо уставшее, серое. Оно показалось мне сперва чужим, утратившим знакомую мальчишескую мягкость, скупым на улыбку. Только минуту спустя в смеющихся глазах обнаружил родное, близкое и… не то, чтобы детское – сохраненное, донесенное от детства.
Он усадил меня за стол рядом с собой. Кто-то предложил выпить за счастливую встречу. Минут десять мы с ним сбивчиво, прерывая друг друга, рассказывали о себе. Потом Хрулев, перекрывая голоса, крикнул:
– Ну ладно, братья, нынче еще успеете наговориться – вся ночь ваша. Ты, Михаил, сыграл бы нам… что-нибудь для души. Хочется хорошей музыки послушать, истосковались по красивому, людскому…
И верно, истосковались. Бойцы облепили рояль и слушали вальс Шопена, который, несмотря на большой перерыв, получался у меня неплохо. И это потому, что стояла неожиданная, удивительная для подвыпившей компании тишина. Здесь были и такие, кто, возможно, видел рояль и слышал его звуки впервые. Но слушали, как знатоки большого музыканта. Я это чувствовал. Чувствовал, как прихватил их сердца, ощущал вокруг себя весеннюю капель, оттаивание заиндевелых душ.
От музыки дохнул на них аромат той истинно красивой жизни, к которой они стремились, за которую вели эту войну. Сейчас им чуть приоткрылся лик этой жизни и показался прекрасней, чем они того ожидали.
Я обратил внимание, как хмелели эти люди…, вернее, на качество, что ли, охмеления – ничего похожего на разгульно-купеческое, бесшабашное «пей-гуляй»… На уставших, изнуренных лицах блестели глаза. И улыбка… не то, чтобы сдержанная – какая-то бессильная.
Потом они пели под мой аккомпанемент, очень немногие танцевали, плясали, к тому же не слишком дружно. Большинство оставались за столами и в основном слушали – вальсы, польки, падеспани, которые я подбирал по слуху. Под конец ко мне подошел начштаба Хрулев и сказал:
– Ну, Миша… Спасибо тебе, брат! Я и не знал, что ты так хорошо играешь. Я, конечно, не шибко в этом разбираюсь, но кажется мне, человек ты талантливый. Думаю, скоро мир наступит. Останешься жив, непременно иди учиться. И не слушай дураков, которые говорят, что революции эти дела не нужны. Ты нынче сам видел: нужны или нет?!
Наступил 1921 год. Военные действия на западном театре войны закончились. 15-ю армию перевели в Россию, в Великие Луки. Случайно ли так совпало, или кто-то подсказал квартирмейстерам, но при расквартировании штаба меня поселили в дом, где имелось пианино.
Несколько дней спустя в дверях штаба я случайно встретился с Хрулевым. Он прошел мимо, не обратив на меня внимания. Но вдруг остановился, оглянулся и сказал:
– Сушков, поди-ка сюда. Я подошел.
– Проезжал я тут… из машины заметил вывеску: «Великолукская музыкальная школа». Ты узнай, может, она и не работает? Если работает, запишись и начинай учиться. Я скажу, чтобы тебя отпускали. Выйдут какие сложности, приходи ко мне. Чем смогу, помогу.
Школа работала. Я стал учащимся ее фортепианного отделения. Но вскоре, по совету нашего хормейстера, который нашел у меня неплохой голос, поступил в класс вокала.
…Поздней осенью 1921 года наступил конец моей солдатской жизни – пришел приказ о демобилизации. Один из товарищей по службе уговаривал меня поехать к нему на родину, в Симбирск. Я серьезно отнесся к этой мысли – в Москве мне нечего было делать. К этому времени я уже получил печальные вести. Семья моя уехала в Ростов еще в девятнадцатом году. Там от черной оспы умерла мать… На фронте погиб брат Сергей. Остальные разъехались кто куда, след их временно потерялся.
Я согласился ехать в Симбирск с одним непременным условием: остановиться на несколько дней в Москве.
Первая же встреча здесь поломала мои планы.
Сева Кузнецов (напомню: полузащитник из СКЗ) буквально бросился мне на шею. Он тискал меня, обнимал. В глазах его стояли слезы.
– Мишка! Живой! – восклицал он. – Ну, радость какая! Ребята нынче умрут от радости!
И тут я понял: попал домой. Домой! Во всей глубине, сложности и многозначности этого слова. В то место, где тебя ждут, где тебя знают, где в тебе нуждаются, где по тебе тоскуют, наконец. В место, где тебя понимают, где тебе помогают, где на тебя сердятся за то, что делаешь глупости в ущерб самому себе.
Я не лежал в окопах, но два с половиной года тем не менее изо дня в день моя жизнь висела на волоске. Редко бывало, когда наш полевой штаб находился вне зоны артиллерийского обстрела, не раз приходилось выходить из тылов противника, пробиваться сквозь смертоносные полосы сплошного огня. И потому за эти два с половиной года я прожил жизнь куда более длинную, чем мои московские друзья. Думаю, им здесь тоже было несладко. Сейчас мне казалось, что прошло очень много времени и вряд ли кто-либо, кроме родных, способен на столь длинную дружескую память обо мне. К тому же во мне говорил неизбежный комплекс возвращающегося на родину солдата – он ощущает в себе некую ущербность, ему кажется: пока он служил, товарищи его росли, набирались ума, утверждались в жизни. Он чувствует свое сильное отставание и боится снисходительных взглядов.
