Страница:
Глава девятая
«ВИДИМОСТЬ—ХОРОШАЯ»
Не следует думать, что Миша никогда не видел самолётов! Конечно, видел. Видел во время парадов на Красной площади, когда они крыльями затмевают небо над Москвой, а гулом моторов заглушают всё: и медную музыку оркестров и весёлые песни демонстрантов.
Видел Миша самолёты и на празднике авиации в Тушине — давно, до войны.
Они проделывали самые замысловатые фигуры. То кинутся в штопор, то опишут мёртвую петлю, то покажут «бочку».
Они кувыркались и вились в небе, словно бабочки над лугом в погожий летний день.
А то вдруг посыплются из самолётов чёрные точки и понесутся к земле. Кажется, вот-вот упадут. Но нет — точки на лету превращаются в огромные диковинные цветы. Цветы медленно идут к земле, опадаьот, и вот они уже обернулись бойцами, которые бегут по полю и строятся в плотные, ровные шеренги.
Но одно дело — видеть самолёты издали, и совсем другое дело — видеть их вблизи, на аэродроме. И не только видеть, но и знать, что на одном из них ты сейчас полетишь.
Не мудрено, что Миша от волнения то и дело дёргал папу за руку:
— Папа, а где наш?.. Папа, а где наш?
На поле было много самолётов. Одни неподвижно стояли рядом на земле и чуть ли не касались друг друга своими большими, раз навсегда распростёртыми крыльями.
Другие шли по траве. Миша знал: это называется рулить.
Третьи были в воздухе.
— А вот и наш! — сказал папа.
Миша спросил:
— Где?.. Где?
— Вон там!
В сторонке стоял большой зелёный самолёт с красными крестами на кузове и на крыльях. Издали был виден большой чёрный номер: «С-15022». Кабина лётчика выдавалась далеко вперёд. Два пропеллера по обеим её сторонам быстро вращались. Низкое солнце блестело на них, словно на громадных патефонных пластинках.
— Двухмоторный, АНТ… Да, папа?
— Об этом ты у дяди Серёжи спроси, — сказал папа. — Он лучше в таких делах разбирается.
Дежурный ещё раз проверил у них документы и повёл Мишу с папой по мокрой от росы траве к самолёту. И тут оказалось, что непонятные тележки со ступеньками — это просто такие лестницы, трапы. Когда нужно, их подкатывают к дверце самолёта.
Миша с папой поднялись по такой тележке-лестнице и очутились в машине.
Пол круто поднимался вверх. Слева и справа были длинные скамейки. Похоже было на автобус. И, как в автобусе, пахло бензином.
Миша сел было, но сразу же вскочил:
— Папа, а мы ещё не летим? А когда мы полетим?
Он всё вертелся. То смотрел зад — туда, где дверь, то вперёд — в окно, то на кабину пилота.
Там, за приоткрытой дверцей сверкали рычаги, кнопки, приборы…
Вдруг оттуда выглянул дядя Серёжа. Его трудно было узнать. На нём был синий комбинезон, кожаный шлем, кожаные перчатки.
Миша крикнул:
— Дядя Серёжа! Это вы нас повезёте?
Дядя Серёжа кивнул головой.
— А скоро мы полетим?
— А тебе не терпится?
— Ага!
— Ну, тогда скоро.
Дядя Серёжа помахал Мише рукой в перчатке. Дверца закрылась. Моторы заревели громче. Папа сказал:
— Не вертись! Сиди спокойно.
— Папа, а если я не могу… Я поверчусь и перестану.
Моторы зашумели ещё громче. Самолёт дрогнул и покатился по земле.
— Ура, летим! — закричал Миша.
Но самолёт всё шёл по земле, как самый обыкновенный автобус.
Миша припал к окошку. Совсем близко мелькала жёлто-зелёная земля.
— Папа, — крикнул Миша, — смотри, не можем взлететь!
Но тут боец с флажком, который стоял на поле, сразу как-то укоротился, перекосился и промелькнул под крылом. И всё поле немного перекосилось.
— Что это, папа?
Миша не столько услышал, сколько понял по папиным губам, спрятанным в густой бороде:
— Летим!
— Как? Мы же не взлетали! Ой, правда, летим, летим!
Миша повернулся к папе и крепко обнял его. Он был счастлив. Да и то сказать — не каждому мальчику удаётся полетать на самолёте, да ещё с папой, да ещё со знакомым лётчиком!
— Папа, я сразу дневник, ладно? Папа кивнул головой.
Миша достал из кармана красную книжечку, вынул из полотняной петельки карандаш и стал записывать: «Путешествие началось. Моторы работают нормально. Видимость…»
Миша посмотрел в окно, чтобы определить видимость.
Внизу зеленела земля. Она стала огромной. Её края незаметно сливались с небом. Они словно были подёрнуты туманом.
На зелёном фоне белели крохотные домишки, кудрявились кусты, блестела длинная, извилистая ленточка с чёрточками, тянулись серые нитки. Всё было немного перекошенное.
Не сразу Миша догадался, что кусты — это лес, ленточка — Москва-река, чёрточки на ней — мосты, а нитки — шоссе.
Круглые тени от облаков лежали неподвижно на земле. Моторы равномерно шумели.
Иногда самолёт нырял вниз, и тогда Мише казалось, будто он на саночках скатывается с крутой горы, и в животе становится щекотно.
Иногда самолёт чуть покачивался с крыла на крыло.
А за окном всё плыла и плыла освещенная солнцем земля. Всё было хорошо видно.
Миша нагнулся над своей книжечкой и дописал:
«Видимость — хорошая».
Видел Миша самолёты и на празднике авиации в Тушине — давно, до войны.
Они проделывали самые замысловатые фигуры. То кинутся в штопор, то опишут мёртвую петлю, то покажут «бочку».
Они кувыркались и вились в небе, словно бабочки над лугом в погожий летний день.
А то вдруг посыплются из самолётов чёрные точки и понесутся к земле. Кажется, вот-вот упадут. Но нет — точки на лету превращаются в огромные диковинные цветы. Цветы медленно идут к земле, опадаьот, и вот они уже обернулись бойцами, которые бегут по полю и строятся в плотные, ровные шеренги.
Но одно дело — видеть самолёты издали, и совсем другое дело — видеть их вблизи, на аэродроме. И не только видеть, но и знать, что на одном из них ты сейчас полетишь.
Не мудрено, что Миша от волнения то и дело дёргал папу за руку:
— Папа, а где наш?.. Папа, а где наш?
На поле было много самолётов. Одни неподвижно стояли рядом на земле и чуть ли не касались друг друга своими большими, раз навсегда распростёртыми крыльями.
Другие шли по траве. Миша знал: это называется рулить.
Третьи были в воздухе.
— А вот и наш! — сказал папа.
Миша спросил:
— Где?.. Где?
— Вон там!
В сторонке стоял большой зелёный самолёт с красными крестами на кузове и на крыльях. Издали был виден большой чёрный номер: «С-15022». Кабина лётчика выдавалась далеко вперёд. Два пропеллера по обеим её сторонам быстро вращались. Низкое солнце блестело на них, словно на громадных патефонных пластинках.
— Двухмоторный, АНТ… Да, папа?
— Об этом ты у дяди Серёжи спроси, — сказал папа. — Он лучше в таких делах разбирается.
Дежурный ещё раз проверил у них документы и повёл Мишу с папой по мокрой от росы траве к самолёту. И тут оказалось, что непонятные тележки со ступеньками — это просто такие лестницы, трапы. Когда нужно, их подкатывают к дверце самолёта.
Миша с папой поднялись по такой тележке-лестнице и очутились в машине.
Пол круто поднимался вверх. Слева и справа были длинные скамейки. Похоже было на автобус. И, как в автобусе, пахло бензином.
Миша сел было, но сразу же вскочил:
— Папа, а мы ещё не летим? А когда мы полетим?
Он всё вертелся. То смотрел зад — туда, где дверь, то вперёд — в окно, то на кабину пилота.
Там, за приоткрытой дверцей сверкали рычаги, кнопки, приборы…
Вдруг оттуда выглянул дядя Серёжа. Его трудно было узнать. На нём был синий комбинезон, кожаный шлем, кожаные перчатки.
Миша крикнул:
— Дядя Серёжа! Это вы нас повезёте?
Дядя Серёжа кивнул головой.
— А скоро мы полетим?
— А тебе не терпится?
— Ага!
— Ну, тогда скоро.
Дядя Серёжа помахал Мише рукой в перчатке. Дверца закрылась. Моторы заревели громче. Папа сказал:
— Не вертись! Сиди спокойно.
— Папа, а если я не могу… Я поверчусь и перестану.
Моторы зашумели ещё громче. Самолёт дрогнул и покатился по земле.
— Ура, летим! — закричал Миша.
Но самолёт всё шёл по земле, как самый обыкновенный автобус.
Миша припал к окошку. Совсем близко мелькала жёлто-зелёная земля.
— Папа, — крикнул Миша, — смотри, не можем взлететь!
Но тут боец с флажком, который стоял на поле, сразу как-то укоротился, перекосился и промелькнул под крылом. И всё поле немного перекосилось.
— Что это, папа?
Миша не столько услышал, сколько понял по папиным губам, спрятанным в густой бороде:
— Летим!
— Как? Мы же не взлетали! Ой, правда, летим, летим!
Миша повернулся к папе и крепко обнял его. Он был счастлив. Да и то сказать — не каждому мальчику удаётся полетать на самолёте, да ещё с папой, да ещё со знакомым лётчиком!
— Папа, я сразу дневник, ладно? Папа кивнул головой.
Миша достал из кармана красную книжечку, вынул из полотняной петельки карандаш и стал записывать: «Путешествие началось. Моторы работают нормально. Видимость…»
Миша посмотрел в окно, чтобы определить видимость.
Внизу зеленела земля. Она стала огромной. Её края незаметно сливались с небом. Они словно были подёрнуты туманом.
На зелёном фоне белели крохотные домишки, кудрявились кусты, блестела длинная, извилистая ленточка с чёрточками, тянулись серые нитки. Всё было немного перекошенное.
Не сразу Миша догадался, что кусты — это лес, ленточка — Москва-река, чёрточки на ней — мосты, а нитки — шоссе.
Круглые тени от облаков лежали неподвижно на земле. Моторы равномерно шумели.
Иногда самолёт нырял вниз, и тогда Мише казалось, будто он на саночках скатывается с крутой горы, и в животе становится щекотно.
Иногда самолёт чуть покачивался с крыла на крыло.
А за окном всё плыла и плыла освещенная солнцем земля. Всё было хорошо видно.
Миша нагнулся над своей книжечкой и дописал:
«Видимость — хорошая».
Глава десятая
ЗАЯВЛЕНИЕ
Наталья Лаврентьевна в это время всё ещё сидела у открытого окна. Только что в комнате было шумно, суматошно, шли сборы, гудел низкий голос мужа, без умолку шумел Миша… А сейчас сразу стало так тихо! На полу валяются бумажки, бечёвки…
Она вздохнула, поднялась и села к столу рисовать.
Утром работается очень хорошо! Она стала делать обложку для книги Миклухо-Маклая «Дневники». Она разделила её на две части. Слева она нарисовала, как Миклухо-Маклай высаживается на незнакомый берег. Вдали виден русский корабль «Витязь». А справа она нарисовала, как Миклухо-Маклай через год покидает этот же берег. Большая толпа жителей провожает его. Вдали виден корвет «Изумруд».
Вышло очень хорошо. Наталья Лаврентьевна отложила обложку в сторонку для просушки и стала вытирать кисточки.
Раздался звонок. Наталья Лаврентьевна пошла открыть дверь. Это пришла молочница, тётя Поля. Она сняла с плеча и медленно опустила на пол мешок с бидоном.
Наталья Лаврентьевна сказала:
— Сегодня, Поля, только одну кружку.
— Почему ж так мало? — спросила тётя Поля, осторожно нагибая полнёхонький бидон над алюминиевой кружкой.
— Пить некому, — ответила Наталья Лаврентьевна. — Миши нет.
— Как так — нет? Неужто опять в лагерь проводили?
— Нет, Поля, не в лагерь. Он улетел.
— Куда ж это он? — удивилась тётя Поля.
— Улетел… С Петром Никитичем… В Литву.
— Ох, и как же это вы его отпустили? — сказала тётя Поля, затыкая бидон. — Вам небось и скучно будет без него.
— Я ведь тоже собираюсь ехать.
— Что это все мои клиенты разъезжаются! — сказала тётя Поля, разводя руками. — Куда ж это вы, Наталья Лаврентьевна?
— Не знаю ещё. Надо поехать рисовать для альбома «Победа», да всё никак не решу куда.
— Поехала бы к нам, Наталья Лаврентьевна, — сказала тётя Поля, присаживаясь на край табуретки, которая стояла на кухне. — У нас сейчас аккурат самая уборка. Очень интересно. Выйдешь в поле, а там одни бабы, одни бабы!.. Ведь это, я скажу, они тоже для победы стараются… — Она поднялась. — Значит, улетел? Скажи, какой шустрый!
Она взвалила на спину мешок с бидоном и ушла. А Наталья Лаврентьевна вернулась в комнату и подошла к Мишиной полочке. Там висела старая карта Европы. Наталья Лаврентьевна долго смотрела на покрытое красной краской пространство, на котором широко разместились буквы «СССР». Как всё-таки велика наша страна! Какими маленькими, чутошными выглядят все другие страны рядом с ней!
Она провела пальцем по Уралу. Здесь огромные заводы, здесь делают танки, пушки, самолёты… Это всё для победы!
Наталья Лаврентьевна села к столу, обмакнула кисточку в синюю краску и на куске плотной рисовальной бумаги написала:
«Урал или Сибирь».
Потом она стала споласкивать кисточку в стакане с водой.
А что, если, верно, поехать в колхоз к тёте Поле, на уборку? Ведь это тоже для победы.
Она коснулась кисточкой зелёной краски и написала:
«Колхоз».
А уголь? Шахтёры? Они тоже помогают победе. Наталья Лаврентьевна набрала чёрной краски и вывела:
«Донбасс или Кузбасс».
А можно ещё поехать к рыбакам. Нарисовать, как они выходят на путину, ловят рыбу. Они тоже помогают победе.
Ярко-синей краской Наталья Лаврентьевна написала:
«Волга или Каспий».
«Это всё хорошо, — раздумывала Наталья Лаврентьевна, — но ведь можно поехать и просто на фронт. Нарисовать, как идут в атаку наши бойцы, как стреляют „катюши“, как пробираются в тыл к врагу разведчики». Красной краской она написала:
«Фронт».
Потом она перечитала всю свою разноцветную запись, окунула кисточку в стакан, набрала лиловой краски и стала медленно всё зачёркивать, кроме одного коротенького слова: «Фронт».
Вдруг за открытым окном кто-то громко, настойчиво стал звать:
— Миша! Денисьев! Мишка-а!
Наталья Лаврентьевна выглянула в окно. Внизу, на краю тротуара, стоял Мишин приятель Олег. В одной руке у него была толстая доска, в другой — топор.
— Тётя Наташа, здравствуйте! — кричал он, задрав голову вверх. — Разбудите, пожалуйста, Мишу.
— А что случилось, Олег? — спросила Наталья Лаврентьевна.
— Мы тут с ним мост через яму уговорились делать… Хватит ему спать!
— Миши нет, — ответила Наталья Лаврентьевна. — Да ты зайди. Неудобно кричать на весь бульвар.
— Нет?..
Олег стремглав побежал к воротам. Через минуту он уже стоял запыхавшийся перед Натальей Лаврентьевной.
— Куда же он делся, тётя Наташа?
— Улетел наш Миша, — сказала Наталья Лаврентьевна.
— Куда улетел?
— На самолёте, с папой. В город Вильнюс… К началу занятий вернётся.
— Во так так! Вот это номер!.. — протянул Олег. — Как же так, мы ведь договорились? Ничего не сказал, не предупредил…
— Да это, Олежка, всё внезапно так, сразу получилось. Он тебе напишет.
Олег махнул топором:
— Напишет!..
Он повернулся к дверям. Наталья Лаврентьевна остановила его:
— Постой, Олег! У меня к тебе вопрос один. — Она помолчала. — Вот, если бы тебе сказали: Олег, поезжай куда хочешь, куда угодно — на Урал, в Сибирь, на Волгу… куда бы ты поехал?
— Куда хочу? — переспросил Олег.
— Ну да, в любое место…
— И… на войну тоже?
— Да говорят тебе — куда угодно!
— Я бы тогда, Наталья Лаврентьевна, знаете куда? На войну! Разведчиком там или ещё кем-нибудь. Я бы там за отца отомстил. — Он поправил кепку, потом опять сбил её на затылок. — Да ведь не пошлют! Это всё одни разговоры… Я пойду, тётя Наташа.
Он перехватил доску поудобней и, задев ею за дверь, вышел из комнаты.
Наталья Лаврентьевна подошла к столу, достала чистый лист бумаги и начала писать, только уже не кисточкой, а пером:
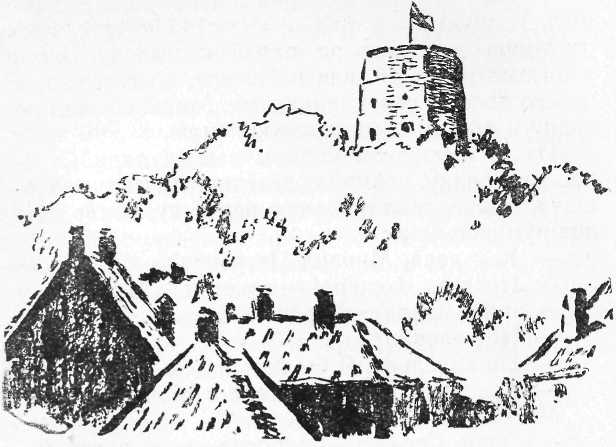
Она вздохнула, поднялась и села к столу рисовать.
Утром работается очень хорошо! Она стала делать обложку для книги Миклухо-Маклая «Дневники». Она разделила её на две части. Слева она нарисовала, как Миклухо-Маклай высаживается на незнакомый берег. Вдали виден русский корабль «Витязь». А справа она нарисовала, как Миклухо-Маклай через год покидает этот же берег. Большая толпа жителей провожает его. Вдали виден корвет «Изумруд».
Вышло очень хорошо. Наталья Лаврентьевна отложила обложку в сторонку для просушки и стала вытирать кисточки.
Раздался звонок. Наталья Лаврентьевна пошла открыть дверь. Это пришла молочница, тётя Поля. Она сняла с плеча и медленно опустила на пол мешок с бидоном.
Наталья Лаврентьевна сказала:
— Сегодня, Поля, только одну кружку.
— Почему ж так мало? — спросила тётя Поля, осторожно нагибая полнёхонький бидон над алюминиевой кружкой.
— Пить некому, — ответила Наталья Лаврентьевна. — Миши нет.
— Как так — нет? Неужто опять в лагерь проводили?
— Нет, Поля, не в лагерь. Он улетел.
— Куда ж это он? — удивилась тётя Поля.
— Улетел… С Петром Никитичем… В Литву.
— Ох, и как же это вы его отпустили? — сказала тётя Поля, затыкая бидон. — Вам небось и скучно будет без него.
— Я ведь тоже собираюсь ехать.
— Что это все мои клиенты разъезжаются! — сказала тётя Поля, разводя руками. — Куда ж это вы, Наталья Лаврентьевна?
— Не знаю ещё. Надо поехать рисовать для альбома «Победа», да всё никак не решу куда.
— Поехала бы к нам, Наталья Лаврентьевна, — сказала тётя Поля, присаживаясь на край табуретки, которая стояла на кухне. — У нас сейчас аккурат самая уборка. Очень интересно. Выйдешь в поле, а там одни бабы, одни бабы!.. Ведь это, я скажу, они тоже для победы стараются… — Она поднялась. — Значит, улетел? Скажи, какой шустрый!
Она взвалила на спину мешок с бидоном и ушла. А Наталья Лаврентьевна вернулась в комнату и подошла к Мишиной полочке. Там висела старая карта Европы. Наталья Лаврентьевна долго смотрела на покрытое красной краской пространство, на котором широко разместились буквы «СССР». Как всё-таки велика наша страна! Какими маленькими, чутошными выглядят все другие страны рядом с ней!
Она провела пальцем по Уралу. Здесь огромные заводы, здесь делают танки, пушки, самолёты… Это всё для победы!
Наталья Лаврентьевна села к столу, обмакнула кисточку в синюю краску и на куске плотной рисовальной бумаги написала:
«Урал или Сибирь».
Потом она стала споласкивать кисточку в стакане с водой.
А что, если, верно, поехать в колхоз к тёте Поле, на уборку? Ведь это тоже для победы.
Она коснулась кисточкой зелёной краски и написала:
«Колхоз».
А уголь? Шахтёры? Они тоже помогают победе. Наталья Лаврентьевна набрала чёрной краски и вывела:
«Донбасс или Кузбасс».
А можно ещё поехать к рыбакам. Нарисовать, как они выходят на путину, ловят рыбу. Они тоже помогают победе.
Ярко-синей краской Наталья Лаврентьевна написала:
«Волга или Каспий».
«Это всё хорошо, — раздумывала Наталья Лаврентьевна, — но ведь можно поехать и просто на фронт. Нарисовать, как идут в атаку наши бойцы, как стреляют „катюши“, как пробираются в тыл к врагу разведчики». Красной краской она написала:
«Фронт».
Потом она перечитала всю свою разноцветную запись, окунула кисточку в стакан, набрала лиловой краски и стала медленно всё зачёркивать, кроме одного коротенького слова: «Фронт».
Вдруг за открытым окном кто-то громко, настойчиво стал звать:
— Миша! Денисьев! Мишка-а!
Наталья Лаврентьевна выглянула в окно. Внизу, на краю тротуара, стоял Мишин приятель Олег. В одной руке у него была толстая доска, в другой — топор.
— Тётя Наташа, здравствуйте! — кричал он, задрав голову вверх. — Разбудите, пожалуйста, Мишу.
— А что случилось, Олег? — спросила Наталья Лаврентьевна.
— Мы тут с ним мост через яму уговорились делать… Хватит ему спать!
— Миши нет, — ответила Наталья Лаврентьевна. — Да ты зайди. Неудобно кричать на весь бульвар.
— Нет?..
Олег стремглав побежал к воротам. Через минуту он уже стоял запыхавшийся перед Натальей Лаврентьевной.
— Куда же он делся, тётя Наташа?
— Улетел наш Миша, — сказала Наталья Лаврентьевна.
— Куда улетел?
— На самолёте, с папой. В город Вильнюс… К началу занятий вернётся.
— Во так так! Вот это номер!.. — протянул Олег. — Как же так, мы ведь договорились? Ничего не сказал, не предупредил…
— Да это, Олежка, всё внезапно так, сразу получилось. Он тебе напишет.
Олег махнул топором:
— Напишет!..
Он повернулся к дверям. Наталья Лаврентьевна остановила его:
— Постой, Олег! У меня к тебе вопрос один. — Она помолчала. — Вот, если бы тебе сказали: Олег, поезжай куда хочешь, куда угодно — на Урал, в Сибирь, на Волгу… куда бы ты поехал?
— Куда хочу? — переспросил Олег.
— Ну да, в любое место…
— И… на войну тоже?
— Да говорят тебе — куда угодно!
— Я бы тогда, Наталья Лаврентьевна, знаете куда? На войну! Разведчиком там или ещё кем-нибудь. Я бы там за отца отомстил. — Он поправил кепку, потом опять сбил её на затылок. — Да ведь не пошлют! Это всё одни разговоры… Я пойду, тётя Наташа.
Он перехватил доску поудобней и, задев ею за дверь, вышел из комнаты.
Наталья Лаврентьевна подошла к столу, достала чистый лист бумаги и начала писать, только уже не кисточкой, а пером:
А внизу, за открытым окном, было слышно, как у ворот орудовал топором Олежка. Он там рубил, тесал, колотил — он строил мост.В СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ
Заявление
Прошу направить меня на зарисовки для альбома «Победа» в действующую армию, на фронт.
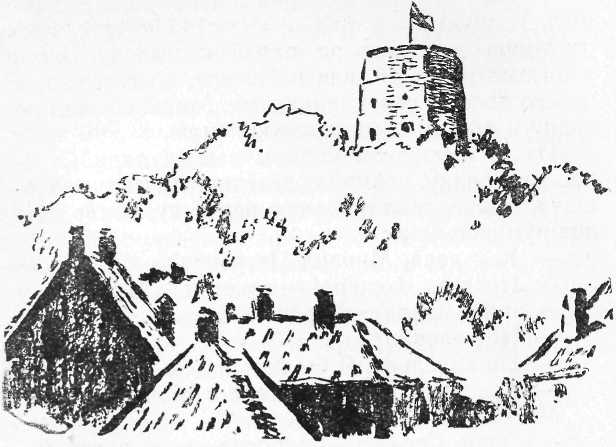
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СТРАШУН-УЛИЦА
Глава первая
ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В девять часов утра самолёт «С-15022» пошёл на посадку. Моторы замолчали. Пропеллеры вращались всё тише и тише, а потом и вовсе замерли.
А Мише казалось, будто он ещё летит. Кругом всё чуть покачивалось, двигалось. Перед глазами словно ещё плыла огромная зелёная земля с городами, полями, лесами и реками…
— Вот и прилетели, — сказал папа. — Пошли, Мишук!
Миша двинулся за папой к выходу. Здесь трап был не такой, как в Москве, не тележка, а просто доска с перекладинками. Миша сбежал по трапу и ступил на литовскую землю.
Из штурманской кабины вышел дядя Серёжа. Вразвалку, разминая затёкшие ноги, он подошёл к Мише, снял кожаную перчатку, вытер потное румяное лицо:
— Как дела, Михаил Петрович?
— Ничего, хорошо! — ответил Миша. Ему очень нравился дядя Серёжа.
— Не укачало?
— Ни капельки. Я бы целый день мог лететь!
— Молодец! Выходит, тебе в лётчики надо.
Миша был польщён.
— Дядя Серёжа, — спросил он, — здесь недавно были фашисты, да?
— Были, — ответил дядя Серёжа, — да сплыли.
Миша оглянулся. Ему захотелось увидеть следы фашистов. Но никаких следов как будто не было. Кругом зеленело поле, точь-в-точь такое же, как под Москвой, на станции «Отдых», где была детская железная дорога и где Миша один раз даже дежурил по станции.
— Миша, — позвал папа, — хочешь маме написать?
Папа приставил к груди полевую сумку и что-то писал на ней, будто на столике.
— Конечно, хочу!
— Тогда на вот, только побыстрей!
Миша взял папино толстое вечное перо и торопливо написал:
«Дорогая мама! Долетели хорошо. Дядя Серёжа угощал меня лётчицким шоколадом. Пока писать больше нечего, а то надо быстро. Твой М. Денисьев».
Папа передал письмо дяде Серёже:
— Вот, пожалуйста! Наталье Лаврентьевне.
— Будет сделано!
Недолго гостил дядя Серёжа на литовской земле. Самолёт стали заправлять горючим. Тем временем подкатил санитарный автомобиль. Из него на низеньких носилках стали выносить раненых и грузить в самолёт. Потом дядя Серёжа простился с Мишей и с папой, забрался к себе в кабину, моторы заревели, пропеллеры закружились, по полю пронёсся вихрь — и самолёт «С-15022» поднялся, лёг на курс и полетел навстречу солнцу, к Москве.
А Миша с папой сели в санитарную машину и поехали в город. Ехать было не интересно, потому что машина была крытая и Миша ничего не видел. Он уткнулся головой в папино плечо и задремал. Он устал после перелёта, да и ночью спал мало и плохо. Машину сильно подкидывало.
— Папа… пппочему так трясёт? Пап… а ребята тут есть?
— А где ж их нет? — отозвался папа. — Литовские есть, польские, всякие…
Но из-за тряски говорить было трудно, и папа замолчал. Машина быстро неслась по незнакомому городу. То и дело она сигналила, круто заворачивала, резко тормозила.
Наконец она остановилась. Стало слышно, как со скрипом открываются ворота. Миша вылез из машины и увидел обширный двор, вымощенный плитняком. В стороне белел маленький флигелёк, крытый тёмно-рыжей черепицей.
— Вот здесь моя «берлога», — сказал папа. — Заходи, Мишук, осваивай… Много мне с тобой бывать не придётся, так что ты уж привыкай.
Миша вошёл во флигелёк. Ему там очень понравилось. Там всё было белое — стены, кровать, стол, даже телефон.
Папа взял трубку, позвонил. Два санитара притащили большую, «взрослую» койку, матрац, бельё. Миша разделся, лёг на прохладную простыню, зажмурился:
— Здорово, папа! А ты?
— Я потом. Спи.
Папа вышел. Железный болт с визгом полез в отверстие в стене, и во флигельке стало темно. Миша понял: это папа закрыл ставни. Он свернулся в клубок и сразу заснул.
Сладко спалось ему на новом месте, так сладко, что он проспал весь день. Вечером он проснулся, увидел, что папы нет, и давай дальше спать. Утром папа с трудом его добудился:
— Мишук, как не стыдно! Сколько можно?
Миша виновато щурился, сонно улыбался. Он никак не мог понять: где же он?
В комнате полутемно. Сквозь косые дырочки в ставнях пробиваются узенькие полоски света, словно кто-то прислонил к окну тоненькие стеклянные трубочки, наполненные лучами солнца. Увидев эти косые — от сучков — дырочки, Миша вспомнил: ну да, он ведь в новом городе, в котором никогда ещё не был. Ведь это продолжается путешествие!
Он вскочил:
— Почему сразу не разбудил?
— Да я тебя час бужу! Вставай, соня, а то мне в госпиталь надо.
Папа открыл ставни. Стало светло. Миша оделся, умылся, сел за белый столик:
— Папа, а можно я потом пойду немножко погуляю?
— Если поблизости, около дома, тогда можно, а если далеко, тогда нельзя.
Миша ответил:
— Да нет, папа, я поблизости. А бинокль твой можно взять?
— Возьми. Только помни, Миша: поблизости! В переулки во всякие и не думай забираться.
— Да нет, папа, что я — маленький, что ли!
— А кто тебя знает!..
После завтрака папа снял с гвоздя белый халат и ушёл в госпиталь. А Миша проверил, лежат ли в карманах фонарик и книжечка, повесил на грудь тяжёлый бинокль в жёлтом кожаном футляре и вышел из белого флигелька.
А Мише казалось, будто он ещё летит. Кругом всё чуть покачивалось, двигалось. Перед глазами словно ещё плыла огромная зелёная земля с городами, полями, лесами и реками…
— Вот и прилетели, — сказал папа. — Пошли, Мишук!
Миша двинулся за папой к выходу. Здесь трап был не такой, как в Москве, не тележка, а просто доска с перекладинками. Миша сбежал по трапу и ступил на литовскую землю.
Из штурманской кабины вышел дядя Серёжа. Вразвалку, разминая затёкшие ноги, он подошёл к Мише, снял кожаную перчатку, вытер потное румяное лицо:
— Как дела, Михаил Петрович?
— Ничего, хорошо! — ответил Миша. Ему очень нравился дядя Серёжа.
— Не укачало?
— Ни капельки. Я бы целый день мог лететь!
— Молодец! Выходит, тебе в лётчики надо.
Миша был польщён.
— Дядя Серёжа, — спросил он, — здесь недавно были фашисты, да?
— Были, — ответил дядя Серёжа, — да сплыли.
Миша оглянулся. Ему захотелось увидеть следы фашистов. Но никаких следов как будто не было. Кругом зеленело поле, точь-в-точь такое же, как под Москвой, на станции «Отдых», где была детская железная дорога и где Миша один раз даже дежурил по станции.
— Миша, — позвал папа, — хочешь маме написать?
Папа приставил к груди полевую сумку и что-то писал на ней, будто на столике.
— Конечно, хочу!
— Тогда на вот, только побыстрей!
Миша взял папино толстое вечное перо и торопливо написал:
«Дорогая мама! Долетели хорошо. Дядя Серёжа угощал меня лётчицким шоколадом. Пока писать больше нечего, а то надо быстро. Твой М. Денисьев».
Папа передал письмо дяде Серёже:
— Вот, пожалуйста! Наталье Лаврентьевне.
— Будет сделано!
Недолго гостил дядя Серёжа на литовской земле. Самолёт стали заправлять горючим. Тем временем подкатил санитарный автомобиль. Из него на низеньких носилках стали выносить раненых и грузить в самолёт. Потом дядя Серёжа простился с Мишей и с папой, забрался к себе в кабину, моторы заревели, пропеллеры закружились, по полю пронёсся вихрь — и самолёт «С-15022» поднялся, лёг на курс и полетел навстречу солнцу, к Москве.
А Миша с папой сели в санитарную машину и поехали в город. Ехать было не интересно, потому что машина была крытая и Миша ничего не видел. Он уткнулся головой в папино плечо и задремал. Он устал после перелёта, да и ночью спал мало и плохо. Машину сильно подкидывало.
— Папа… пппочему так трясёт? Пап… а ребята тут есть?
— А где ж их нет? — отозвался папа. — Литовские есть, польские, всякие…
Но из-за тряски говорить было трудно, и папа замолчал. Машина быстро неслась по незнакомому городу. То и дело она сигналила, круто заворачивала, резко тормозила.
Наконец она остановилась. Стало слышно, как со скрипом открываются ворота. Миша вылез из машины и увидел обширный двор, вымощенный плитняком. В стороне белел маленький флигелёк, крытый тёмно-рыжей черепицей.
— Вот здесь моя «берлога», — сказал папа. — Заходи, Мишук, осваивай… Много мне с тобой бывать не придётся, так что ты уж привыкай.
Миша вошёл во флигелёк. Ему там очень понравилось. Там всё было белое — стены, кровать, стол, даже телефон.
Папа взял трубку, позвонил. Два санитара притащили большую, «взрослую» койку, матрац, бельё. Миша разделся, лёг на прохладную простыню, зажмурился:
— Здорово, папа! А ты?
— Я потом. Спи.
Папа вышел. Железный болт с визгом полез в отверстие в стене, и во флигельке стало темно. Миша понял: это папа закрыл ставни. Он свернулся в клубок и сразу заснул.
Сладко спалось ему на новом месте, так сладко, что он проспал весь день. Вечером он проснулся, увидел, что папы нет, и давай дальше спать. Утром папа с трудом его добудился:
— Мишук, как не стыдно! Сколько можно?
Миша виновато щурился, сонно улыбался. Он никак не мог понять: где же он?
В комнате полутемно. Сквозь косые дырочки в ставнях пробиваются узенькие полоски света, словно кто-то прислонил к окну тоненькие стеклянные трубочки, наполненные лучами солнца. Увидев эти косые — от сучков — дырочки, Миша вспомнил: ну да, он ведь в новом городе, в котором никогда ещё не был. Ведь это продолжается путешествие!
Он вскочил:
— Почему сразу не разбудил?
— Да я тебя час бужу! Вставай, соня, а то мне в госпиталь надо.
Папа открыл ставни. Стало светло. Миша оделся, умылся, сел за белый столик:
— Папа, а можно я потом пойду немножко погуляю?
— Если поблизости, около дома, тогда можно, а если далеко, тогда нельзя.
Миша ответил:
— Да нет, папа, я поблизости. А бинокль твой можно взять?
— Возьми. Только помни, Миша: поблизости! В переулки во всякие и не думай забираться.
— Да нет, папа, что я — маленький, что ли!
— А кто тебя знает!..
После завтрака папа снял с гвоздя белый халат и ушёл в госпиталь. А Миша проверил, лежат ли в карманах фонарик и книжечка, повесил на грудь тяжёлый бинокль в жёлтом кожаном футляре и вышел из белого флигелька.
Глава вторая
БЕЛЫЙ ОСОБНЯК
Спешить было некуда. Миша остановился на крылечке, достал бинокль, наладил его по глазам и принялся обозревать окрестности.
Перед ним простирался большой больничный двор, обнесённый каменным забором. В заборе были железные ржавые ворота с калиткой. У ворот стояла каменная сторожка.
В глубине двора возвышалось длинное серое здание — главный корпус госпиталя. Все окна его были открыты. В них колыхались белые марлевые занавески. За корпусом был виден сад.
Какой странный сад! Все деревья чёрные, обгорелые, на ветвях — ни листика. Под деревьями на лавочках сидят раненые в голубых и белых халатах. Кто-то негромко играет на баяне.
А это кто? Миша покрутил рубчатое колесико бинокля. Он увидел среди раненых маленького человечка, вроде карлика. Нет, это не карлик! Это мальчик лет шести-семи. Интересно, как он попал сюда. Неужели он тоже был на фронте? Надо будет у папы спросить.
Так! Кажется, всё. Можно идти дальше.
Миша спустился с крылечка, пересек двор и вышел за ворота.
Хорошо было бродить по улицам, по которым ты никогда ещё не ходил, мимо домов, которых ты никогда не видел! Всё кажется каким-то загадочным, таинственным…
Миша с любопытством озирался по сторонам. Он видел узкую, кривую улочку. Вдоль неё тянулась глухая, исклёванная пулями монастырская стена. На той стороне возвышался разрушенный дом. В его пустых окнах синело небо. За ним виден был другой дом, и тоже разрушенный. Сколько здесь разрушенных домов!
Миша медленно шёл вдоль улицы. Она сильно отличалась от московских: сама улица была узкая, а тротуары — широкие. Народу на ней было мало. Вот пробежал мальчишка в жилетке и фуражке с перекошенным квадратным верхом. Миша долго смотрел вслед мальчишке. Вдруг из-за угла донеслась громкая, боевая, хорошо знакомая песня:
Незаметно он дошёл с красноармейцами до большой, широкой, прямой улицы. Надо, пожалуй, вернуться, а то ещё заберёшься куда-нибудь и не выберешься…
Постойте, а это что? Лошадь, коляска!.. Да ведь это извозчик, настоящий, живой извозчик! В шляпе, с кнутом! А худая лошадь помахивает куцым хвостом и выстукивает подковами по каменным плитам: цок-цок, цок-цок! Миша достал книжечку и хотел было записать: «Видел живого извозчика».
Но тут Миша увидел, что по мостовой идёт большая колонна мужчин и женщин. Все несли на плечах заступы, ломы, топоры. Одна женщина махнула ему рукой: мол, пойдём с нами! Миша смутился, покачал головой и быстрей зашагал по тротуару.
Тротуар был сделан не из асфальта, а из больших каменных плит. Между плитами, в щелях, росла трава. Чудно: щель узенькая, с ниточку, а трава над ней густая и пышная.
Миша шагал по плитам, стараясь не наступать на щели, как будто играл в «классы». Каменные «классы» привели его к просторной площади.
Площадь окружали красивые дома. В глубине возвышалась большая зелёная гора. На вершине видны были развалины. Только не такие, как на улицах, не новые, а старинные развалины древней башни. Над башней весело реял новенький ярко-красный флаг.
По тротуару тихо брела старушка с корзинкой. Миша подошёл к ней:
— Скажите, пожалуйста, — вежливо спросил он, — как называется эта гора?
Старушка приветливо кивнула головой и что-то сказала по-литовски. Миша не понял, но вежливо ответил:
— Спасибо, бабушка!
У подножия горы стоял нарядный белый дом-особняк, окружённый лесами. На лесах стояли женщины и толстыми кистями проворно красили стены, карнизы и лепные колонны.
Миша подошёл поближе. Он долго смотрел, как широкие кисти гуляют взад-вперёд по стене, как становятся белыми карнизы, как блестит мокрая краска на толстых, круглых туловищах колонн. Ему нравилось, что в этом городе, где столько разрушенных домов, оживает большое красивое здание.
Потом он спохватился: надо идти.
Но тут из особняка вышел высокий худощавый человек в военной гимнастёрке. Его густые волосы были не то седые, не то припудрены мелом. Широкие плечи закапаны белой краской. Пустой левый рукав заправлен за ремень.
Он подошёл к Мише и, вытирая правой рукой лицо, на котором тоже были следы белой краски, спросил что-то.
— Извините, — сказал Миша, — я не понимаю.
Тогда человек сказал по-русски:
— Ты что, мальчик, пришёл записываться? Ещё рано. Вот кончим ремонт, тогда приходи.
Он что-то крикнул женщинам-малярам, те засмеялись и быстрей замахали кистями.
— Нет, — сказал Миша, — я не записываться… Я просто так… посмотреть. Я нездешний. Из Москвы…
— Из Москвы? Вот как! С кем же ты приехал?
— С папой.
— А кто твой папа?
— Он начальник госпиталя. Майор Денисьев.
— Денисьев?.. — Человек в закапанной белилами гимнастёрке сразу весь просиял. — Я ведь его хорошо знаю. Лежал у него в госпитале. Передай ему большой, большущий привет от меня. Скажи: от товарища Шимкуса. Запомнишь?
— Конечно, запомню, товарищ Шимкус, — сказал Миша и показал на белое здание: — А что здесь будет, товарищ Шимкус?
Товарищ Шимкус оглянулся на окружённый лесами особняк.
— Здесь до войны, — сказал он, — был Дворец пионеров. Хороший был дворец! Красивый! Я был его директором. Ну и вот… Сейчас восстанавливаемся. Правда, не всё можно восстановить… — Он потрогал свой пустой рукав и ткнул его глубже за ремень. — Ничего! Дворец будет не хуже, чем раньше!.. Так не забудь папе привет.
Он потряс Мишину руку и вернулся в здание. А Миша ещё постоял немного возле особняка, потом поправил на шее ремешок от бинокля и заторопился домой,

Перед ним простирался большой больничный двор, обнесённый каменным забором. В заборе были железные ржавые ворота с калиткой. У ворот стояла каменная сторожка.
В глубине двора возвышалось длинное серое здание — главный корпус госпиталя. Все окна его были открыты. В них колыхались белые марлевые занавески. За корпусом был виден сад.
Какой странный сад! Все деревья чёрные, обгорелые, на ветвях — ни листика. Под деревьями на лавочках сидят раненые в голубых и белых халатах. Кто-то негромко играет на баяне.
А это кто? Миша покрутил рубчатое колесико бинокля. Он увидел среди раненых маленького человечка, вроде карлика. Нет, это не карлик! Это мальчик лет шести-семи. Интересно, как он попал сюда. Неужели он тоже был на фронте? Надо будет у папы спросить.
Так! Кажется, всё. Можно идти дальше.
Миша спустился с крылечка, пересек двор и вышел за ворота.
Хорошо было бродить по улицам, по которым ты никогда ещё не ходил, мимо домов, которых ты никогда не видел! Всё кажется каким-то загадочным, таинственным…
Миша с любопытством озирался по сторонам. Он видел узкую, кривую улочку. Вдоль неё тянулась глухая, исклёванная пулями монастырская стена. На той стороне возвышался разрушенный дом. В его пустых окнах синело небо. За ним виден был другой дом, и тоже разрушенный. Сколько здесь разрушенных домов!
Миша медленно шёл вдоль улицы. Она сильно отличалась от московских: сама улица была узкая, а тротуары — широкие. Народу на ней было мало. Вот пробежал мальчишка в жилетке и фуражке с перекошенным квадратным верхом. Миша долго смотрел вслед мальчишке. Вдруг из-за угла донеслась громкая, боевая, хорошо знакомая песня:
Это, печатая шаг, шли красноармейцы. Миша обрадовался и пошёл за ними. Он шагал с ними в ногу и подпевал.
Кони сытые
Бьют копытами…
Незаметно он дошёл с красноармейцами до большой, широкой, прямой улицы. Надо, пожалуй, вернуться, а то ещё заберёшься куда-нибудь и не выберешься…
Постойте, а это что? Лошадь, коляска!.. Да ведь это извозчик, настоящий, живой извозчик! В шляпе, с кнутом! А худая лошадь помахивает куцым хвостом и выстукивает подковами по каменным плитам: цок-цок, цок-цок! Миша достал книжечку и хотел было записать: «Видел живого извозчика».
Но тут Миша увидел, что по мостовой идёт большая колонна мужчин и женщин. Все несли на плечах заступы, ломы, топоры. Одна женщина махнула ему рукой: мол, пойдём с нами! Миша смутился, покачал головой и быстрей зашагал по тротуару.
Тротуар был сделан не из асфальта, а из больших каменных плит. Между плитами, в щелях, росла трава. Чудно: щель узенькая, с ниточку, а трава над ней густая и пышная.
Миша шагал по плитам, стараясь не наступать на щели, как будто играл в «классы». Каменные «классы» привели его к просторной площади.
Площадь окружали красивые дома. В глубине возвышалась большая зелёная гора. На вершине видны были развалины. Только не такие, как на улицах, не новые, а старинные развалины древней башни. Над башней весело реял новенький ярко-красный флаг.
По тротуару тихо брела старушка с корзинкой. Миша подошёл к ней:
— Скажите, пожалуйста, — вежливо спросил он, — как называется эта гора?
Старушка приветливо кивнула головой и что-то сказала по-литовски. Миша не понял, но вежливо ответил:
— Спасибо, бабушка!
У подножия горы стоял нарядный белый дом-особняк, окружённый лесами. На лесах стояли женщины и толстыми кистями проворно красили стены, карнизы и лепные колонны.
Миша подошёл поближе. Он долго смотрел, как широкие кисти гуляют взад-вперёд по стене, как становятся белыми карнизы, как блестит мокрая краска на толстых, круглых туловищах колонн. Ему нравилось, что в этом городе, где столько разрушенных домов, оживает большое красивое здание.
Потом он спохватился: надо идти.
Но тут из особняка вышел высокий худощавый человек в военной гимнастёрке. Его густые волосы были не то седые, не то припудрены мелом. Широкие плечи закапаны белой краской. Пустой левый рукав заправлен за ремень.
Он подошёл к Мише и, вытирая правой рукой лицо, на котором тоже были следы белой краски, спросил что-то.
— Извините, — сказал Миша, — я не понимаю.
Тогда человек сказал по-русски:
— Ты что, мальчик, пришёл записываться? Ещё рано. Вот кончим ремонт, тогда приходи.
Он что-то крикнул женщинам-малярам, те засмеялись и быстрей замахали кистями.
— Нет, — сказал Миша, — я не записываться… Я просто так… посмотреть. Я нездешний. Из Москвы…
— Из Москвы? Вот как! С кем же ты приехал?
— С папой.
— А кто твой папа?
— Он начальник госпиталя. Майор Денисьев.
— Денисьев?.. — Человек в закапанной белилами гимнастёрке сразу весь просиял. — Я ведь его хорошо знаю. Лежал у него в госпитале. Передай ему большой, большущий привет от меня. Скажи: от товарища Шимкуса. Запомнишь?
— Конечно, запомню, товарищ Шимкус, — сказал Миша и показал на белое здание: — А что здесь будет, товарищ Шимкус?
Товарищ Шимкус оглянулся на окружённый лесами особняк.
— Здесь до войны, — сказал он, — был Дворец пионеров. Хороший был дворец! Красивый! Я был его директором. Ну и вот… Сейчас восстанавливаемся. Правда, не всё можно восстановить… — Он потрогал свой пустой рукав и ткнул его глубже за ремень. — Ничего! Дворец будет не хуже, чем раньше!.. Так не забудь папе привет.
Он потряс Мишину руку и вернулся в здание. А Миша ещё постоял немного возле особняка, потом поправил на шее ремешок от бинокля и заторопился домой,

Глава третья
СТРАШУН-УЛИЦА
Миша быстро шагал по широкой, прямой улице.
За высоким разбитым домом он увидел тесный, тёмный переулок. Вот бы заодно заглянуть и сюда, разведать этот удивительно узенький переулок!
Правда, папа говорил мне: «В переулки не забирайся».
Миша поднял голову и стал разглядывать ржавую железную табличку с названием переулка. Написано было не то по-литовски, не то по-польски — не поймёшь. Но рядом с табличкой кто-то размашисто мелом прямо на стене, на кирпичах, написал по-русски: «Страшун-улица».
«Улица — это можно, — подумал Миша. — Ведь папа только про переулки говорил!»
Конечно, знай Миша недавнюю историю Страшун-улицы и прочих прилегающих к ней улочек и закоулков, он ни за что не пошёл бы сюда. Но он ничего не знал и с лёгким сердцем зашагал по узенькому, с полотенце, тротуару.
Страшун-улица оказалась такой узкой, что, кажется, расправь руки — и коснёшься пальцами стен. Грузовику, например, ни за что бы не втиснуться в эту щель между домами.
А дома? Можно подумать, что здесь было землетрясение. Все они разрушены, все до одного. Дом за домом, дом за домом, и всё развалины и развалины… Куда ни посмотришь — везде груды битого кирпича, проломы, провалы…
Миша замедлил шаг.
Ведь, наверно, ещё недавно во всех этих домах жили люди, пели, смеялись, занимались разными делами! Где же они теперь? Почему обезлюдела Страшун-улица? Почему тут всё взорвано, разбито, уничтожено?
Видно, папа был прав, когда говорил: «В переулки не забирайся!» Надо уходить, пока не поздно. Миша повернул обратно. Шаги его гулко раздавались в тишине.
Он шёл быстро, не оглядываясь. Вот и поворот. Здесь должна проходить большая улица. Но никакой улицы не было. С обеих сторон всё так же теснились угрюмые, пустые проёмы окон, за которыми видны были груды кирпича, обломки печей, чугунных лестниц…
Миша остановился.
Самому храброму путешественнику, пожалуй, стало бы не по себе здесь, среди мёртвых развалин. Вот уж действительно Страшун-улица!
И главное — спросить дорогу не у кого.
В лагере под Москвой Миша однажды заблудился в лесу. Но там было не так страшно. Миша знал, что раньше или позже он встретит кого-нибудь и вернётся в лагерь.
Другое дело — здесь. Кругом было мертво и тихо, как на кладбище. Миша не выдержал, поднёс руку ко рту и позвал:
— Ау!
«Уууу…» — отозвалось эхо. И Мише почудилось, будто люди, которые жили здесь когда-то, ответили ему долгим, тяжким стоном.
Вдруг сзади раздался невнятный шорох. Миша вздрогнул, обернулся:
— Кто?
«Оооо…» — откликнулось каменное эхо.
Миша прижался к холодной стене. Может, ему почудилось? Да нет же, он ясно слышал чей-то шорох вон там, за проломом. То ли кирпич сдвинулся с места, когда он проходил, то ли крыса прошмыгнула…
Миша прислушался и снова двинулся вдоль переулка.
Вдруг опять раздался шорох. На этот раз погромче и поближе. Миша достал из футляра тяжёлый бинокль, стиснул его в руке и замер. Кругом всё было тихо — так тихо, как вот бывает только глубокой ночью.
С зажатым в руке биноклем Миша двинулся вперёд. Для бодрости он негромко, срывающимся голосом запел:
За высоким разбитым домом он увидел тесный, тёмный переулок. Вот бы заодно заглянуть и сюда, разведать этот удивительно узенький переулок!
Правда, папа говорил мне: «В переулки не забирайся».
Миша поднял голову и стал разглядывать ржавую железную табличку с названием переулка. Написано было не то по-литовски, не то по-польски — не поймёшь. Но рядом с табличкой кто-то размашисто мелом прямо на стене, на кирпичах, написал по-русски: «Страшун-улица».
«Улица — это можно, — подумал Миша. — Ведь папа только про переулки говорил!»
Конечно, знай Миша недавнюю историю Страшун-улицы и прочих прилегающих к ней улочек и закоулков, он ни за что не пошёл бы сюда. Но он ничего не знал и с лёгким сердцем зашагал по узенькому, с полотенце, тротуару.
Страшун-улица оказалась такой узкой, что, кажется, расправь руки — и коснёшься пальцами стен. Грузовику, например, ни за что бы не втиснуться в эту щель между домами.
А дома? Можно подумать, что здесь было землетрясение. Все они разрушены, все до одного. Дом за домом, дом за домом, и всё развалины и развалины… Куда ни посмотришь — везде груды битого кирпича, проломы, провалы…
Миша замедлил шаг.
Ведь, наверно, ещё недавно во всех этих домах жили люди, пели, смеялись, занимались разными делами! Где же они теперь? Почему обезлюдела Страшун-улица? Почему тут всё взорвано, разбито, уничтожено?
Видно, папа был прав, когда говорил: «В переулки не забирайся!» Надо уходить, пока не поздно. Миша повернул обратно. Шаги его гулко раздавались в тишине.
Он шёл быстро, не оглядываясь. Вот и поворот. Здесь должна проходить большая улица. Но никакой улицы не было. С обеих сторон всё так же теснились угрюмые, пустые проёмы окон, за которыми видны были груды кирпича, обломки печей, чугунных лестниц…
Миша остановился.
Самому храброму путешественнику, пожалуй, стало бы не по себе здесь, среди мёртвых развалин. Вот уж действительно Страшун-улица!
И главное — спросить дорогу не у кого.
В лагере под Москвой Миша однажды заблудился в лесу. Но там было не так страшно. Миша знал, что раньше или позже он встретит кого-нибудь и вернётся в лагерь.
Другое дело — здесь. Кругом было мертво и тихо, как на кладбище. Миша не выдержал, поднёс руку ко рту и позвал:
— Ау!
«Уууу…» — отозвалось эхо. И Мише почудилось, будто люди, которые жили здесь когда-то, ответили ему долгим, тяжким стоном.
Вдруг сзади раздался невнятный шорох. Миша вздрогнул, обернулся:
— Кто?
«Оооо…» — откликнулось каменное эхо.
Миша прижался к холодной стене. Может, ему почудилось? Да нет же, он ясно слышал чей-то шорох вон там, за проломом. То ли кирпич сдвинулся с места, когда он проходил, то ли крыса прошмыгнула…
Миша прислушался и снова двинулся вдоль переулка.
Вдруг опять раздался шорох. На этот раз погромче и поближе. Миша достал из футляра тяжёлый бинокль, стиснул его в руке и замер. Кругом всё было тихо — так тихо, как вот бывает только глубокой ночью.
С зажатым в руке биноклем Миша двинулся вперёд. Для бодрости он негромко, срывающимся голосом запел:
Играйте, горнисты, тревогу!
