Страница:
Начальник подошёл к нему:
— Как себя чувствуете?
Больной молчал. Глаза его были закрыты. Острые скулы обтягивала сухая, жёлтая кожа. Под одним глазом заметно билась жилка, и тонкая светлая бровь всё время подёргивалась.
Начальник повторил:
— Что у вас болит?
Больной не отвечал. Потом он с трудом приподнял руку и показал на забинтованную голову.
— Так! — Начальник пригнулся к койке, взял больного за руку и стал нащупывать пульс. — Как вас зовут?
Больной всё молчал. Только слышно было, как он тяжело, прерывисто дышит.
— Вы меня слышите? — спросил начальник.
Больной приоткрыл глубоко запавшие светло-голубые глаза и моргнул, показывая, что слышит.
— Отлично! — сказал начальник. — Тогда скажите мне, пожалуйста, как ваша фамилия?
Больной долго молчал и как будто даже не собирался отвечать. Начальник терпеливо стоял возле его койки, по-прежнему держа больного за руку. Шурочка оглянулась, принесла стул и сказала:
— Садитесь, товарищ начальник.
— Спасибо! — ответил начальник, но не сел. Наконец бледные, сухие губы больного слегка разжались. Он сначала немного помычал, потом невнятно выговорил:
— Нннне… ннне… — и затих.
Начальник подбодрил его:
— Ничего. Потом всё вспомните, ничего. Может быть, вы мне имя своё скажете? Постарайтесь, пожалуйста.
Больной снова открыл глаза. Пальцы его зашевелились быстрей. Он еле-еле приподнял тяжёлую, обмотанную бинтом голову и с усилием произнёс:
— Ннне… ннне… — и опять уронил голову на подушку.
На соседней койке лежал пожилой красноармеец с бритой головой. Он вынул из-за пазухи градусник, протянул сестре и сказал:
— Возьми, Шурочка! — И кивнул головой на больного: — Беспамятный он, товарищ начальник. Как привезли, так и молчит. Контуженный.
Начальник обернулся к сестре:
— Шурочка, а где же сопроводительная карточка на этого больного?
Шурочка побежала в коридор к дежурной и вернулась с кусочком картона.
Начальник взял карточку. На сером картоне в клеточках «имя, отчество, фамилия» было чернильным карандашом написано: «Неизвестно».
— Так! — сказал начальник, возвращая сестре карточку. — Возьмите. Завтра утром доложите мне о состоянии больного.
Начальник продолжал обход.
На дворе уже светало, когда он пошёл к себе во флигелёк отдохнуть.
Отдыхал он недолго. Рано утром он снова пришёл в госпиталь и вызвал к себе в кабинет Шурочку:
— Как себя чувствует больной из четвёртой? Память не вернулась к нему?
— Нет, товарищ начальник. Молчит!
— Но ведь мы, сестра, обязаны знать, кого мы лечим. — Он постучал пальцами по белому столу, потёр усталые, сонные глаза. — Скажите, а списки освобождённых были нам переданы?
— Сейчас узнаю в приёмном покое, товарищ начальник.
Шурочка вышла. Начальник опустил голову на стол и задремал. Но как только за дверью послышались лёгкие шаги Шурочку он очнулся, поднял голову:
— Ну, как?
— Вот, товарищ начальник.
Шурочка подала начальнику толстую прошнурованную тетрадь. На переплёте было по-немецки написано: «Лагерь Ост № 120».
Начальник раскрыл её. На разлинованных страницах были аккуратно по-немецки перечислены имена, фамилии, род занятий…
— Вы, Шурочка, идите к больным, я займусь сам, — сказал начальник.
Он взял толстую тетрадь, обошёл с ней все палаты, опросил всех вновь принятых больных, потом вернулся к себе и опять вызвал Шурочку:
— Заполните карточку на больного из четвёртой.
Шурочка села за стол, взяла перо. Начальник стал диктовать:
— «Место рождения: Вильнюс… Профессия: рабочий… Партийность: коммунист… Национальность: литовец… Имя: Миколас… Фамилия: Петраускас».
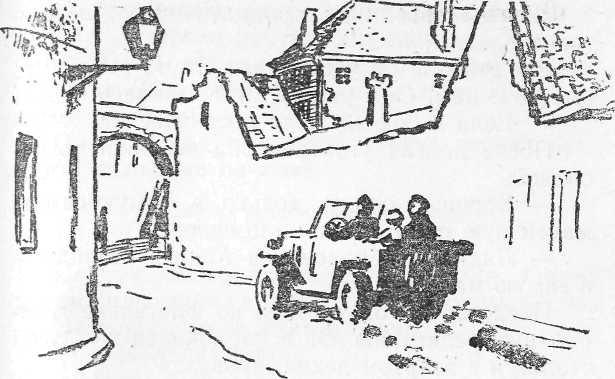
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвёртая
— Как себя чувствуете?
Больной молчал. Глаза его были закрыты. Острые скулы обтягивала сухая, жёлтая кожа. Под одним глазом заметно билась жилка, и тонкая светлая бровь всё время подёргивалась.
Начальник повторил:
— Что у вас болит?
Больной не отвечал. Потом он с трудом приподнял руку и показал на забинтованную голову.
— Так! — Начальник пригнулся к койке, взял больного за руку и стал нащупывать пульс. — Как вас зовут?
Больной всё молчал. Только слышно было, как он тяжело, прерывисто дышит.
— Вы меня слышите? — спросил начальник.
Больной приоткрыл глубоко запавшие светло-голубые глаза и моргнул, показывая, что слышит.
— Отлично! — сказал начальник. — Тогда скажите мне, пожалуйста, как ваша фамилия?
Больной долго молчал и как будто даже не собирался отвечать. Начальник терпеливо стоял возле его койки, по-прежнему держа больного за руку. Шурочка оглянулась, принесла стул и сказала:
— Садитесь, товарищ начальник.
— Спасибо! — ответил начальник, но не сел. Наконец бледные, сухие губы больного слегка разжались. Он сначала немного помычал, потом невнятно выговорил:
— Нннне… ннне… — и затих.
Начальник подбодрил его:
— Ничего. Потом всё вспомните, ничего. Может быть, вы мне имя своё скажете? Постарайтесь, пожалуйста.
Больной снова открыл глаза. Пальцы его зашевелились быстрей. Он еле-еле приподнял тяжёлую, обмотанную бинтом голову и с усилием произнёс:
— Ннне… ннне… — и опять уронил голову на подушку.
На соседней койке лежал пожилой красноармеец с бритой головой. Он вынул из-за пазухи градусник, протянул сестре и сказал:
— Возьми, Шурочка! — И кивнул головой на больного: — Беспамятный он, товарищ начальник. Как привезли, так и молчит. Контуженный.
Начальник обернулся к сестре:
— Шурочка, а где же сопроводительная карточка на этого больного?
Шурочка побежала в коридор к дежурной и вернулась с кусочком картона.
Начальник взял карточку. На сером картоне в клеточках «имя, отчество, фамилия» было чернильным карандашом написано: «Неизвестно».
— Так! — сказал начальник, возвращая сестре карточку. — Возьмите. Завтра утром доложите мне о состоянии больного.
Начальник продолжал обход.
На дворе уже светало, когда он пошёл к себе во флигелёк отдохнуть.
Отдыхал он недолго. Рано утром он снова пришёл в госпиталь и вызвал к себе в кабинет Шурочку:
— Как себя чувствует больной из четвёртой? Память не вернулась к нему?
— Нет, товарищ начальник. Молчит!
— Но ведь мы, сестра, обязаны знать, кого мы лечим. — Он постучал пальцами по белому столу, потёр усталые, сонные глаза. — Скажите, а списки освобождённых были нам переданы?
— Сейчас узнаю в приёмном покое, товарищ начальник.
Шурочка вышла. Начальник опустил голову на стол и задремал. Но как только за дверью послышались лёгкие шаги Шурочку он очнулся, поднял голову:
— Ну, как?
— Вот, товарищ начальник.
Шурочка подала начальнику толстую прошнурованную тетрадь. На переплёте было по-немецки написано: «Лагерь Ост № 120».
Начальник раскрыл её. На разлинованных страницах были аккуратно по-немецки перечислены имена, фамилии, род занятий…
— Вы, Шурочка, идите к больным, я займусь сам, — сказал начальник.
Он взял толстую тетрадь, обошёл с ней все палаты, опросил всех вновь принятых больных, потом вернулся к себе и опять вызвал Шурочку:
— Заполните карточку на больного из четвёртой.
Шурочка села за стол, взяла перо. Начальник стал диктовать:
— «Место рождения: Вильнюс… Профессия: рабочий… Партийность: коммунист… Национальность: литовец… Имя: Миколас… Фамилия: Петраускас».
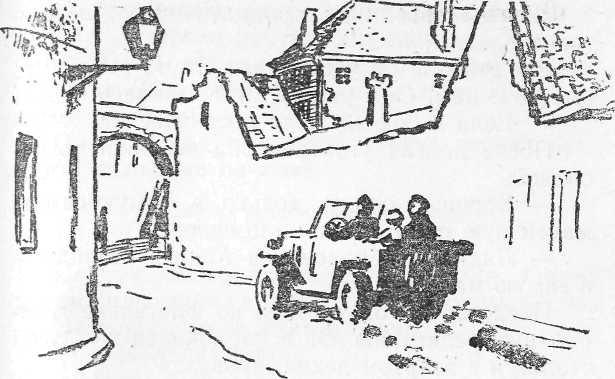
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
«КОМНАТА СКАЗОК»
Глава первая
ТЕЛЕГРАММА
Прошло несколько дней.
Начальника всё ещё тревожил больной из четвёртой палаты. Больной по-прежнему лежал неподвижно, устремив светло-голубые глаза в потолок и не произнося ни слова. В его истории болезни стояло одно коротенькое словечко: «шок».
…Наступило воскресенье. В Мишиной красной книжечке было записано:
«Воскресенье, пять тридцать — выступать в госпитале».
Все эти дни он уговаривал Онуте выступить вместе с ним. Она упорно отказывалась:
— Если я боюсь? Если я стесняюся? После долгих уговоров она всё-таки согласилась:
— Хорошо, пойду, только в самую-самую маленькую палату, где мало человек.
— Ладно! — обрадовался Миша. — Пойдёшь в самую маленькую.
После обеда он устроил во флигельке генеральную репетицию. Он вскарабкался на белый столик и с азартом декламировал:
Онуте с восхищением смотрела снизу вверх на отчаянно оравшего Мишу. Вот он кончил кричать и спрыгнул со стола:
— А теперь ты. Полезай!
— Нет… Я здесь…
— Нет, на стол, на стол! Чтобы как следует!. Как на сцене.
Он заставил её влезть на стол. Онуте растерянно стояла на шатком столе, прижимая платье к ногам.
— Не бойся! — командовал Миша, — Начинай! Погоди я тебя объявлю.
Он повернулся к двум аккуратно застланным койкам и «взрослым» голосом сказал:
— Сейчас перед вами выступит заслуженная артистка Литовской республики Онуте Петраускайте. Просим!
Он захлопал в ладоши. Онуте засмеялась, потом тихо-тихо начала:
— Начальник дома?
— Нету. А что?
— Да тут вот им телеграмма.
Миша взял телеграмму. На узенькой бумажной ленточке, небрежно оторванной и чуть наискось приклеенной к бланку, было прыгающими буквами напечатано:
— Онуте, дядя Корней! Смотрите, мама приезжает! Моя мама!
— Ой, какой ты счастливый! — вздохнула Онуте. — А когда?
— Когда? В воскресенье… Постой, это значит сегодня. Я сейчас…
Размахивая телеграммой, Миша выбежал из флигелька и понёсся к главному корпусу.
У входа сидел санитар, Миша обратился к нему:
— Позовите, пожалуйста, начальника. По очень-очень срочному делу.
Санитар, шаркая подкованными каблуками по каменному полу, пошёл в глубь корпуса. А Миша остался ждать на крыльце. Неподалёку, в обгорелом саду, грелся на солнце Зеличок.
— Зелёненький, — крикнул Миша, — а ко мне мама приезжает! Вот! — Он взмахнул телеграммой. — Понимаешь — мама?
Как было не понять! Кажется, на всех языках это слово звучит одинаково. По-русски — мама, по-еврейски — маме, по-украински — мамо…
Зеличок улыбнулся, закивал курчавой головой:
— Мама!.. Да зд'авствует мама!
На крыльцо вышел начальник. Лицо у него было озабоченное. На голове белела марлевая шапочка. Он вытирал руки полотенцем:
— Что случилось, Миша?
— Папа, смотри! Угадай, от кого?
— Мне некогда, Миша. От мамы, да?
— Как ты угадал?
— Наверно, беспокоится о тебе. Дай-ка!
— Ничего не беспокоится. Вот, читай!
Папа бросил полотенце на плечо, взял телеграмму.
— Вот это новость! — Он посмотрел на Мишу, потом снова заглянул в телеграмму. — Вот это сюрприз! — Он опять посмотрел на Мишу и стал теребить бороду. — Ну что ж! Надо устроить торжественную встречу. Поезд приходит в шесть. Сейчас, — он отогнул рукав халата, посмотрел на часы, — около пяти… Вот что, позови-ка мне Корнея!
Миша побежал в сторожку и через минуту вернулся с дядей Корнеем. Старый солдат приложил морщинистую руку к козырьку:
— По вашему приказанию явился красноармеец Корней Обновка.
— Товарищ Обновка, — сказал начальник, — возьмёте «виллис», поедете на вокзал к московскому поезду. Там в шестом вагоне найдёте мою жену, Наталью Лаврентьевну. Привезёте её сюда. Понятно?
Дядя Корней повторил:
— К московскому поезду, в шестом, стало быть, вагоне найти Наталью, стало быть, Лаврентьевну…
— А ты? — вмешался Миша.
— Я, к сожалению, не смогу. У меня сейчас операция.
Папа развёл руками и снова взялся за полотенце, хотя руки его уже успели высохнуть.
— А как же я их узнаю, товарищ начальник? — спросил дядя Корней.
— С вами Миша поедет. Смотри, Миша, от Обновки не отрывайся.
— Нет, папа, что ты!.. — весело отозвался Миша. — Поехали, дядя Корней.
Вдруг он спохватился:
— Папа, а как же быть? Ведь мне в пять тридцать выступать!
Начальник с минуту подумал:
— Ничего не поделаешь! Как-нибудь в другой раз. Ступай, а то ещё опоздаете.
Он круто повернулся на каблуках и пошёл по коридору. По пути он сказал дежурной сестре:
— Объявите по палатам: литературный вечер переносится на следующее воскресенье.
А Миша и дядя Корней пошли в гараж. Мита хотел было взять с собой на вокзал Онуте, но она застеснялась и не поехала.
Начальника всё ещё тревожил больной из четвёртой палаты. Больной по-прежнему лежал неподвижно, устремив светло-голубые глаза в потолок и не произнося ни слова. В его истории болезни стояло одно коротенькое словечко: «шок».
…Наступило воскресенье. В Мишиной красной книжечке было записано:
«Воскресенье, пять тридцать — выступать в госпитале».
Все эти дни он уговаривал Онуте выступить вместе с ним. Она упорно отказывалась:
— Если я боюсь? Если я стесняюся? После долгих уговоров она всё-таки согласилась:
— Хорошо, пойду, только в самую-самую маленькую палату, где мало человек.
— Ладно! — обрадовался Миша. — Пойдёшь в самую маленькую.
После обеда он устроил во флигельке генеральную репетицию. Он вскарабкался на белый столик и с азартом декламировал:
Он решил прочитать бойцам «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» — те самые стихи Маяковского, о которых папа писал ему когда-то в новогоднем письме.
В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето…
Онуте с восхищением смотрела снизу вверх на отчаянно оравшего Мишу. Вот он кончил кричать и спрыгнул со стола:
— А теперь ты. Полезай!
— Нет… Я здесь…
— Нет, на стол, на стол! Чтобы как следует!. Как на сцене.
Он заставил её влезть на стол. Онуте растерянно стояла на шатком столе, прижимая платье к ногам.
— Не бойся! — командовал Миша, — Начинай! Погоди я тебя объявлю.
Он повернулся к двум аккуратно застланным койкам и «взрослым» голосом сказал:
— Сейчас перед вами выступит заслуженная артистка Литовской республики Онуте Петраускайте. Просим!
Он захлопал в ладоши. Онуте засмеялась, потом тихо-тихо начала:
Но тут кто-то некстати постучался. Онуте мигом спрыгнула со стола. Миша открыл дверь. На пороге стоял дядя Корней:
Светит в небе красный стяг,
Словно…
— Начальник дома?
— Нету. А что?
— Да тут вот им телеграмма.
Миша взял телеграмму. На узенькой бумажной ленточке, небрежно оторванной и чуть наискось приклеенной к бланку, было прыгающими буквами напечатано:
Встречайте воскресенье вагон шестой мама.Миша подскочил от радости:
— Онуте, дядя Корней! Смотрите, мама приезжает! Моя мама!
— Ой, какой ты счастливый! — вздохнула Онуте. — А когда?
— Когда? В воскресенье… Постой, это значит сегодня. Я сейчас…
Размахивая телеграммой, Миша выбежал из флигелька и понёсся к главному корпусу.
У входа сидел санитар, Миша обратился к нему:
— Позовите, пожалуйста, начальника. По очень-очень срочному делу.
Санитар, шаркая подкованными каблуками по каменному полу, пошёл в глубь корпуса. А Миша остался ждать на крыльце. Неподалёку, в обгорелом саду, грелся на солнце Зеличок.
— Зелёненький, — крикнул Миша, — а ко мне мама приезжает! Вот! — Он взмахнул телеграммой. — Понимаешь — мама?
Как было не понять! Кажется, на всех языках это слово звучит одинаково. По-русски — мама, по-еврейски — маме, по-украински — мамо…
Зеличок улыбнулся, закивал курчавой головой:
— Мама!.. Да зд'авствует мама!
На крыльцо вышел начальник. Лицо у него было озабоченное. На голове белела марлевая шапочка. Он вытирал руки полотенцем:
— Что случилось, Миша?
— Папа, смотри! Угадай, от кого?
— Мне некогда, Миша. От мамы, да?
— Как ты угадал?
— Наверно, беспокоится о тебе. Дай-ка!
— Ничего не беспокоится. Вот, читай!
Папа бросил полотенце на плечо, взял телеграмму.
— Вот это новость! — Он посмотрел на Мишу, потом снова заглянул в телеграмму. — Вот это сюрприз! — Он опять посмотрел на Мишу и стал теребить бороду. — Ну что ж! Надо устроить торжественную встречу. Поезд приходит в шесть. Сейчас, — он отогнул рукав халата, посмотрел на часы, — около пяти… Вот что, позови-ка мне Корнея!
Миша побежал в сторожку и через минуту вернулся с дядей Корнеем. Старый солдат приложил морщинистую руку к козырьку:
— По вашему приказанию явился красноармеец Корней Обновка.
— Товарищ Обновка, — сказал начальник, — возьмёте «виллис», поедете на вокзал к московскому поезду. Там в шестом вагоне найдёте мою жену, Наталью Лаврентьевну. Привезёте её сюда. Понятно?
Дядя Корней повторил:
— К московскому поезду, в шестом, стало быть, вагоне найти Наталью, стало быть, Лаврентьевну…
— А ты? — вмешался Миша.
— Я, к сожалению, не смогу. У меня сейчас операция.
Папа развёл руками и снова взялся за полотенце, хотя руки его уже успели высохнуть.
— А как же я их узнаю, товарищ начальник? — спросил дядя Корней.
— С вами Миша поедет. Смотри, Миша, от Обновки не отрывайся.
— Нет, папа, что ты!.. — весело отозвался Миша. — Поехали, дядя Корней.
Вдруг он спохватился:
— Папа, а как же быть? Ведь мне в пять тридцать выступать!
Начальник с минуту подумал:
— Ничего не поделаешь! Как-нибудь в другой раз. Ступай, а то ещё опоздаете.
Он круто повернулся на каблуках и пошёл по коридору. По пути он сказал дежурной сестре:
— Объявите по палатам: литературный вечер переносится на следующее воскресенье.
А Миша и дядя Корней пошли в гараж. Мита хотел было взять с собой на вокзал Онуте, но она застеснялась и не поехала.
Глава вторая
НА ВОКЗАЛЕ
Маленькая, юркая машина быстро мчалась по узким улочкам. Миша сидел рядом с водителем. За ветровым стеклом мелькали дома.
Вот прошли мимо огромного костёла с двумя устремлёнными в небо шпилями. Пронеслись мимо старинного литовского университета.
Потом промелькнула старая-престарая церковь с облупленными макушками. Вот покатили по небольшой красивой треугольной площади…
— Площадь Кутузова, — сказал водитель, яростно вращая «баранкой».
Но Мише сейчас не до этого было. То и дело он оборачивался к дяде Корнею:
— А мы поспеем? А мы не опоздаем?
— Как не поспеть! Ещё там ждать будем, — терпеливо отвечал дядя Корней.
Вот осталась позади величественная гора Гедимина. Машина промчалась по узкой, длинной улице мимо ратуши и завернула на привокзальную площадь.
Вокзал был тоже вдребезги разбит. Но красноармейцы уже трудились на его развалинах.
Красная Армия не только воевала. Везде, куда она ни приходила, она строила, восстанавливала, возвращала к жизни мосты, заводы, школы, вокзалы…
Миша и дядя Корней вышли на перрон.
Миша очень любил бывать на вокзалах. Ему нравилось слушать, как на разные голоса гудят паровозы; видеть, как поднимается короткая железная рука семафора, как машет фонариком сцепщик и тоненько дудит в маленький, словно игрушечный рожок.
Здесь можно сесть на какой-нибудь запылённый поезд и отправиться в далёкое путешествие.
Хорошее место — вокзал!
— Дяденька Корней, а где Москва?
— Вон там!
Миша стал смотреть в сторону Москвы. Вдали взметнулась пушистая полоска дыма. Раздался протяжный гудок. Миша закричал:
— Идёт! Идёт!
Из-за разбитой водокачки показался чёрный маслянистый паровоз. Он тяжело сопел, и казалось, что это не машина, а огромный живой зверь, у которого вместо ног высокие колёса. За ним тянулись вагоны, только не пассажирские, а товарные. Мимо Миши на открытых платформах поплыли новые, свежевыкрашенные большие танки. Каждый занимал две платформы.
Над открытыми люками видны были маленькие головы танкистов в толстых шлемах.
Всё вокруг наполнилось стуком и громом. Без конца проходили мимо Миши танки, танки, танки…
Потом потянулись платформы с непонятными, покрытыми брезентом машинами. На тормозных площадках стояли часовые — в плащах, с автоматами…
Дядя Корней крикнул Мише в самое ухо:
— Ка-тю-ши!
Миша понимающе кивнул головой.
Казалось, «катюшам» не будет конца и вечно вот так будет грохотать, греметь и лязгать.
Но вот пробежал последний вагон, за ним покрутились пыль, щепочки, сено — и сразу сталс тихо.
— Сила! — сказал дядя Корней и достал кисет. — Это вам не четырнадцатый год.
Он чиркнул огромной жёлтой зажигалкой и выпустил столб синего дыма — не хуже, чем паровоз.
Потом прошёл ещё один поезд — и опять товарный. На сей раз ехали пушки. Их длинные, тяжёлые тела с круглыми, грозно разинутыми ртами были подняты к небу.
— Гаубичка-голубушка! — сказал дядя Корней, когда поезд прошёл. — Даст жизни!
Потом, уже в сторону Москвы, прошёл санитарный поезд. Рельсы не отдыхали. Вся страна не знала отдыха в то время. Фронт требовал: больше пушек, машин, танков, самолётов, снарядов!.. День и ночь без остановки дымили заводы, пылали домны, мартены, работали молоты, станки, и длинные, тяжело гружённые эшелоны шли на запад, на фронт.
Шёл последний год войны. Победа была близка. Надо было сделать последнее усилие. И наша страна делала это усилие…
В седьмом часу пришёл наконец московский поезд.
Миша, поднимаясь на цыпочки и вытягивая шею, смотрел на мелькающие окна. Во всех окнах были военные.
Вот прошёл первый вагон, второй… четвёртый… шестой… Ни в одном окне мамы не было.
Миша обернулся к дяде Корнею:
— Где же она, дядя Корней?
— Не видать?
— Не видать! — горько отозвался Миша.
И вдруг он сквозь сутолоку вокзала, стук колёс, шипенье паровоза и шум радио услышал родной голос:
— Миша!
— Мама! — закричал он, ещё не видя её. Мама стояла на ступеньках шестого вагона в хорошо знакомом Мише тёмно-зелёном платье с пояском. Одной рукой она держалась за железный выгнутый поручень, а другой махала Мише.
— Мама! Мама!.. — кричал Миша и бежал за вагоном, который шёл всё медленнее.
— Миша, подожди! Не прыгай!
— Мама, не буду! Мама!
Через минуту мама уже стояла на перроне, целовала Мишу и гладила его по голове «против шерсти».
— Ну-ка, покажись, какой ты! — Мама то прижимала Мишу к себе, то слегка отстраняла его, чтобы получше разглядеть. — Нет, ничего, поправился, молодец! Видно, папа лучше кормит, чем мама. А где же он сам?
— Мама, ему некогда, он занят! Пойдём скорей, а то поезд недолго…
Миша потащил маму в вагон. Там было тесно, накурено.
— Где твоё место? А, знаю, здесь!
Он увидел мамину большую чёрную папку для рисования, которая лежала на полке. На столике лежала толстая книга. Под полкой стоял потёртый тёмно-синий, знакомый Мише с самых ранних лет чемодан, в котором один замок запирался хорошо, а другой не слушался и отскакивал.
Миша нагнулся и стал вытаскивать мамин чемодан из-под полки.
— Погоди, Миша! Ты куда его?
— В машину. Там машина ждёт — «виллис». И дядя Корней. У него знаешь какая фамилия? Обновка. Правда, смешная? — говорил Миша, изо всех сил дёргая тяжёлый чемодан.
— Погоди! — сказала мама. — Пускай там стоит. Ведь мне дальше ехать…
Миша выпрямился:
— Дальше?
— Ну да, — сказала мама. — Я ведь еду на фронт.
Миша растерялся:
— Как — на фронт? Что ты, мама? Ведь ты писала: «Встречайте»…
Мама невесело засмеялась:
— Чудаки какие! Как же вы могли так подумать? Ведь вы же знали… — Она привлекла Мишу к себе и поерошила его чёлку. — Правда, я сама виновата. Надо было мне писать: «Проездом на фронт встречайте».
— Конечно, — сказал Миша. — А там ещё папа ждёт…
— Я думала — вы поймёте!.. Ничего не поделаешь. Теперь уж на обратном пути. Так и передай папе.
За окном заверещал свисток.
— Миша, сейчас тронется! Скорей!
Расталкивая народ, они побежали к выходу. Миша неловко поцеловал маму в щёку, она его — в мокрый глаз.
Паровоз рявкнул. Миша спрыгнул на перрон.
— Миша, постой! Я ведь тебе письмо привезла.
Мама бросилась в вагон. Поезд тронулся. Миша побежал за вагоном. Наконец в окне показались мамины руки. Они торопливо перелистывали толстую книгу. Поезд прибавлял ходу. Мама всё теребила книгу. Наконец она сердито встряхнула её.
Из книги выпал белый треугольник. Он неторопливо покружился в воздухе, точно бумажный голубь, и упал на изрытый асфальт перрона.
Миша поднял его и долго махал бумажным голубем вслед уходившему на запад московскому поезду.
Вот прошли мимо огромного костёла с двумя устремлёнными в небо шпилями. Пронеслись мимо старинного литовского университета.
Потом промелькнула старая-престарая церковь с облупленными макушками. Вот покатили по небольшой красивой треугольной площади…
— Площадь Кутузова, — сказал водитель, яростно вращая «баранкой».
Но Мише сейчас не до этого было. То и дело он оборачивался к дяде Корнею:
— А мы поспеем? А мы не опоздаем?
— Как не поспеть! Ещё там ждать будем, — терпеливо отвечал дядя Корней.
Вот осталась позади величественная гора Гедимина. Машина промчалась по узкой, длинной улице мимо ратуши и завернула на привокзальную площадь.
Вокзал был тоже вдребезги разбит. Но красноармейцы уже трудились на его развалинах.
Красная Армия не только воевала. Везде, куда она ни приходила, она строила, восстанавливала, возвращала к жизни мосты, заводы, школы, вокзалы…
Миша и дядя Корней вышли на перрон.
Миша очень любил бывать на вокзалах. Ему нравилось слушать, как на разные голоса гудят паровозы; видеть, как поднимается короткая железная рука семафора, как машет фонариком сцепщик и тоненько дудит в маленький, словно игрушечный рожок.
Здесь можно сесть на какой-нибудь запылённый поезд и отправиться в далёкое путешествие.
Хорошее место — вокзал!
— Дяденька Корней, а где Москва?
— Вон там!
Миша стал смотреть в сторону Москвы. Вдали взметнулась пушистая полоска дыма. Раздался протяжный гудок. Миша закричал:
— Идёт! Идёт!
Из-за разбитой водокачки показался чёрный маслянистый паровоз. Он тяжело сопел, и казалось, что это не машина, а огромный живой зверь, у которого вместо ног высокие колёса. За ним тянулись вагоны, только не пассажирские, а товарные. Мимо Миши на открытых платформах поплыли новые, свежевыкрашенные большие танки. Каждый занимал две платформы.
Над открытыми люками видны были маленькие головы танкистов в толстых шлемах.
Всё вокруг наполнилось стуком и громом. Без конца проходили мимо Миши танки, танки, танки…
Потом потянулись платформы с непонятными, покрытыми брезентом машинами. На тормозных площадках стояли часовые — в плащах, с автоматами…
Дядя Корней крикнул Мише в самое ухо:
— Ка-тю-ши!
Миша понимающе кивнул головой.
Казалось, «катюшам» не будет конца и вечно вот так будет грохотать, греметь и лязгать.
Но вот пробежал последний вагон, за ним покрутились пыль, щепочки, сено — и сразу сталс тихо.
— Сила! — сказал дядя Корней и достал кисет. — Это вам не четырнадцатый год.
Он чиркнул огромной жёлтой зажигалкой и выпустил столб синего дыма — не хуже, чем паровоз.
Потом прошёл ещё один поезд — и опять товарный. На сей раз ехали пушки. Их длинные, тяжёлые тела с круглыми, грозно разинутыми ртами были подняты к небу.
— Гаубичка-голубушка! — сказал дядя Корней, когда поезд прошёл. — Даст жизни!
Потом, уже в сторону Москвы, прошёл санитарный поезд. Рельсы не отдыхали. Вся страна не знала отдыха в то время. Фронт требовал: больше пушек, машин, танков, самолётов, снарядов!.. День и ночь без остановки дымили заводы, пылали домны, мартены, работали молоты, станки, и длинные, тяжело гружённые эшелоны шли на запад, на фронт.
Шёл последний год войны. Победа была близка. Надо было сделать последнее усилие. И наша страна делала это усилие…
В седьмом часу пришёл наконец московский поезд.
Миша, поднимаясь на цыпочки и вытягивая шею, смотрел на мелькающие окна. Во всех окнах были военные.
Вот прошёл первый вагон, второй… четвёртый… шестой… Ни в одном окне мамы не было.
Миша обернулся к дяде Корнею:
— Где же она, дядя Корней?
— Не видать?
— Не видать! — горько отозвался Миша.
И вдруг он сквозь сутолоку вокзала, стук колёс, шипенье паровоза и шум радио услышал родной голос:
— Миша!
— Мама! — закричал он, ещё не видя её. Мама стояла на ступеньках шестого вагона в хорошо знакомом Мише тёмно-зелёном платье с пояском. Одной рукой она держалась за железный выгнутый поручень, а другой махала Мише.
— Мама! Мама!.. — кричал Миша и бежал за вагоном, который шёл всё медленнее.
— Миша, подожди! Не прыгай!
— Мама, не буду! Мама!
Через минуту мама уже стояла на перроне, целовала Мишу и гладила его по голове «против шерсти».
— Ну-ка, покажись, какой ты! — Мама то прижимала Мишу к себе, то слегка отстраняла его, чтобы получше разглядеть. — Нет, ничего, поправился, молодец! Видно, папа лучше кормит, чем мама. А где же он сам?
— Мама, ему некогда, он занят! Пойдём скорей, а то поезд недолго…
Миша потащил маму в вагон. Там было тесно, накурено.
— Где твоё место? А, знаю, здесь!
Он увидел мамину большую чёрную папку для рисования, которая лежала на полке. На столике лежала толстая книга. Под полкой стоял потёртый тёмно-синий, знакомый Мише с самых ранних лет чемодан, в котором один замок запирался хорошо, а другой не слушался и отскакивал.
Миша нагнулся и стал вытаскивать мамин чемодан из-под полки.
— Погоди, Миша! Ты куда его?
— В машину. Там машина ждёт — «виллис». И дядя Корней. У него знаешь какая фамилия? Обновка. Правда, смешная? — говорил Миша, изо всех сил дёргая тяжёлый чемодан.
— Погоди! — сказала мама. — Пускай там стоит. Ведь мне дальше ехать…
Миша выпрямился:
— Дальше?
— Ну да, — сказала мама. — Я ведь еду на фронт.
Миша растерялся:
— Как — на фронт? Что ты, мама? Ведь ты писала: «Встречайте»…
Мама невесело засмеялась:
— Чудаки какие! Как же вы могли так подумать? Ведь вы же знали… — Она привлекла Мишу к себе и поерошила его чёлку. — Правда, я сама виновата. Надо было мне писать: «Проездом на фронт встречайте».
— Конечно, — сказал Миша. — А там ещё папа ждёт…
— Я думала — вы поймёте!.. Ничего не поделаешь. Теперь уж на обратном пути. Так и передай папе.
За окном заверещал свисток.
— Миша, сейчас тронется! Скорей!
Расталкивая народ, они побежали к выходу. Миша неловко поцеловал маму в щёку, она его — в мокрый глаз.
Паровоз рявкнул. Миша спрыгнул на перрон.
— Миша, постой! Я ведь тебе письмо привезла.
Мама бросилась в вагон. Поезд тронулся. Миша побежал за вагоном. Наконец в окне показались мамины руки. Они торопливо перелистывали толстую книгу. Поезд прибавлял ходу. Мама всё теребила книгу. Наконец она сердито встряхнула её.
Из книги выпал белый треугольник. Он неторопливо покружился в воздухе, точно бумажный голубь, и упал на изрытый асфальт перрона.
Миша поднял его и долго махал бумажным голубем вслед уходившему на запад московскому поезду.
Глава третья
ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ
Папа очень расстроился, когда Миша вернулся во флигелёк без мамы.
— Как же так? — досадовал он. — Вот, могли повидаться!..
Мише даже жалко его стало:
— Ничего, папа! Она зато на обратном пути заедет. Я и сам видел её всего-то десять минуточек!
Так бывало часто в военное время. Люди встречались для того, чтобы сразу опять разлучиться. И никто не знал, где и когда придётся свидеться. Да и придётся ли? Поэтому тогда писали много писем, только не такие, как сейчас, а большей частью без марок, без конвертов — треугольные бумажные «голуби» с печатью: «Проверено военной цензурой».
Попадались и вовсе диковинные письма. Один человек, который работал на фашистской каторге в лесу по сплаву, топором на чурбачке вырезал слова: «Нахожусь там-то, пока жив», вырезал адрес и пустил чурбачок по реке. Добрые люди выловили чурбачок и передавали его из рук в руки, пока деревянное письмо не дошло до места.
…Как только Миша развернул бумажный треугольник, который привезла мама, он сразу же узнал крупный, прямой почерк Лины Незвановой.
Миша стал читать. Лина подробно рассказывала о том, как она прочитала Мишино письмо на сборе и как ребята обсуждали его. Мише живо представилась пионерская комната на втором этаже, недалеко от учительской, ребята, сидящие за длинным столом. Ему представилось, как его письмо обсуждают па сборе.
Вот первым выскочил непоседа Ной-не-ной:
— Ребята, — сказал он, — мне очень жалко Зелёненького. Давайте напишем Денисьсву, чтобы он привёз его в Москву, а мы уж тут как-нибудь сообща будем его воспитывать.
— А мне, — сказал Митя Попов, — очень понравился дядя Корней. Давайте пошлём ему какой-нибудь подарок.
— Постойте! — сказал Олежка. — Вот Миша пишет про какой-то подвал. Я не понимаю, почему он не доберётся до этого подвала, почему не узнает, в чём там дело. Я не понимаю…
Олега перебил Хаким:
— Если бы я там был, я бы давно разобрал дом и узнал, что там за ящики, и куда девался папа этой девочки, и всё.
«Словом, — писала Лина, — все выступали в таком духе, что тебе надо обязательно добраться до подвала и помочь этой девочке-сиротке, о которой ты пишешь. Ребята даже так говорили: „Давайте все поедем к Мише и поможем ему…“»
Миша перевернул страницу.
«Дорогой Миша, ты пишешь „дышет“ вместо „дышит“ и „тратуар“ вместо „тротуар“. А про запятые ты и вовсе забываешь. Надо подтянуться. Война войной, а запятые ставить полагается».
Миша покраснел.
В самом конце Лина писала:
«Я по-прежнему работаю в цехе. Устаю, конечно, но это ничего. Зато когда бывает салют, мне кажется, будто в свете ракет есть и моя искорка. А салюты бывают каждый вечер.
Миша, скоро первое сентября, смотри не опоздай. Привет от всех ребят. Лина Незванова».
Вот и всё письмо. Миша дважды перечитал его. Оно как будто перенесло его в Москву. А хорошо бы сейчас по-настоящему очутиться в Москве!
Миша аккуратно, по складочкам, как было, сложил письмо.
Вечером, перед сном, он перечитал его. Всё-таки смешные ребята. И Хаким тоже… Разобрал бы дом… Как будто это игрушечный домик, из кубиков. Конечно, издали легко рассуждать, а вот поди сделай!
С тем он и заснул. Ему снилось, будто он шагает по бульвару, мимо гранитного Тимирязева. Вдруг Тимирязев спустился с постамента, взял Мишу за руку и голосом Хакима сказал: «Если бы я там был, я давно разобрал бы дом!»
Потом Тимирязев превратился в маму. Она стояла у раскрытого окна, а вокруг неё, хлопая крыльями, кружились белые голуби…
Чудной сон! Утром Миша проснулся, достал из-под подушки московское письмо и начал его перечитывать. А когда дошёл до места: «Ребята даже так говорили: „Давайте все поедем к Мише и поможем ему“», — улыбнулся. Вот было б здорово, если бы они все, всем отрядом приехали! Тогда, конечно, совсем другое дело было бы.
Вдруг он уронил письмо, сел на кровати и хлопнул себя по растрёпанной после сна чёлке. Вовсе не надо никому приезжать! Без них можно будет справиться. Как же это он раньше не догадался!
Миша вскочил и начал быстро одеваться.
— Ты куда? — спросил папа, который после умывания вытирал шею мохнатым полотенцем.
— Надо, папа, я на минуточку!
Миша торопливо натянул чулки, штаны, ковбойку и вышел из флигелька. Было раннее утро. Весь двор ещё был в тени, и только на крутой, острой кровле главного корпуса ярко, словно рябина, краснела рыжая черепица.
У ворот в санитарной машине, склонившись головой на руль, дремал водитель.
Миша прошёл мимо главного корпуса, подошёл к сторожке и тихонько приоткрыл дверь.
— А, москвич? — встретил его дядя Корней. — А ведь наша Аннушка спит ещё.
— Ни, дяденька Корней, не сплю, — раздался за перегородкой тонкий голосок.
— Ишь какая! — усмехнулся дядя Корней. — Как москвич пришёл, сразу проснулась.
— Онуте! — крикнул Миша. — Выйдешь, ладно?
— Си-час, — отозвалась Онуте. — Я си-час.
— А что такое за экстренное дело? — спросил дядя Корней.
— Очень экстренное, — ответил Миша, которому понравилось это слово.
Он пришёл в сад и сел на лавочку. Как здесь тихо сейчас! Днём здесь полно раненых, они играют в шашки, смеются. А сейчас пусто, никого ещё нет. Неподвижно стоят обгорелые стволы, выставив во все стороны сухие, чёрные ветки. И только на одной угловатой ветке, на самом верху, зеленеет несколько чудом уцелевших листочков. Они чуть покачиваются. Кончики у них пожелтели. Значит, скоро осень, скоро в школу, в Москву…
Скрипнула старая дверь, Онуте вышла из сторожки. Она тёрла глаза кулаками, жмурилась:
— Как ты рано! Я бы ещё спала, спала…
— Экстренное дело, — начал Миша. — Садись. Я получил письмо из Москвы. — Он достал из кармана бумажный треугольник. — Вот! Тут и про тебя…
— Ни… неправда. Они ж меня не знают.
— Знают. Они всё знают. Слушай!
Миша начал читать. Онуте, подперев щёку рукой, как взрослая женщина, внимательно слушала и кивала головой после каждого слова. А когда Миша кончил, она сказала:
— Зачем про меня писал? Им не интересно.
— Им про всё интересно! — Миша сложил письмо. — Онуте, а ты знаешь, где ваши ребята собираются: Юргис и другие?
— Знаю.
— Где?
— На горе Гедимина.
— Вот, сходи к ним. Скажи, пускай все приходят. Все, все!
— Куда пусть приходят? — удивилась Онуте.
— Куда?.. — Миша задумался. — Ну, пускай туда, где прошлый раз воевали. Где стена. Скажи им: завтра, в девять часов, утром.
— А на что? — спросила Онуте. — Опять воевать?
— Нет, не воевать.
— А на что?
Миша замялся. Ему очень не хотелось до поры до времени всё выкладывать. Скажешь, а потом ещё ничего не получится!
— Ну просто так, потом…
— А если они спросят?
— Ну, если спросят, скажешь — надо, и всё!
Онуте обиделась:
— Не хочешь, не говори! — Она поднялась. — Я пойду. Я только покушаю и пойду.
Она пошла к сторожке. Миша посмотрел ей вслед, вскочил и догнал её.
— Онутечка, я тебе потом всё-всё скажу… Ты пойдёшь туда, а я на Страшун-улицу. Ладно?
Онуте молча кивнула головой.
— Как же так? — досадовал он. — Вот, могли повидаться!..
Мише даже жалко его стало:
— Ничего, папа! Она зато на обратном пути заедет. Я и сам видел её всего-то десять минуточек!
Так бывало часто в военное время. Люди встречались для того, чтобы сразу опять разлучиться. И никто не знал, где и когда придётся свидеться. Да и придётся ли? Поэтому тогда писали много писем, только не такие, как сейчас, а большей частью без марок, без конвертов — треугольные бумажные «голуби» с печатью: «Проверено военной цензурой».
Попадались и вовсе диковинные письма. Один человек, который работал на фашистской каторге в лесу по сплаву, топором на чурбачке вырезал слова: «Нахожусь там-то, пока жив», вырезал адрес и пустил чурбачок по реке. Добрые люди выловили чурбачок и передавали его из рук в руки, пока деревянное письмо не дошло до места.
…Как только Миша развернул бумажный треугольник, который привезла мама, он сразу же узнал крупный, прямой почерк Лины Незвановой.
Миша стал читать. Лина подробно рассказывала о том, как она прочитала Мишино письмо на сборе и как ребята обсуждали его. Мише живо представилась пионерская комната на втором этаже, недалеко от учительской, ребята, сидящие за длинным столом. Ему представилось, как его письмо обсуждают па сборе.
Вот первым выскочил непоседа Ной-не-ной:
— Ребята, — сказал он, — мне очень жалко Зелёненького. Давайте напишем Денисьсву, чтобы он привёз его в Москву, а мы уж тут как-нибудь сообща будем его воспитывать.
— А мне, — сказал Митя Попов, — очень понравился дядя Корней. Давайте пошлём ему какой-нибудь подарок.
— Постойте! — сказал Олежка. — Вот Миша пишет про какой-то подвал. Я не понимаю, почему он не доберётся до этого подвала, почему не узнает, в чём там дело. Я не понимаю…
Олега перебил Хаким:
— Если бы я там был, я бы давно разобрал дом и узнал, что там за ящики, и куда девался папа этой девочки, и всё.
«Словом, — писала Лина, — все выступали в таком духе, что тебе надо обязательно добраться до подвала и помочь этой девочке-сиротке, о которой ты пишешь. Ребята даже так говорили: „Давайте все поедем к Мише и поможем ему…“»
Миша перевернул страницу.
«Дорогой Миша, ты пишешь „дышет“ вместо „дышит“ и „тратуар“ вместо „тротуар“. А про запятые ты и вовсе забываешь. Надо подтянуться. Война войной, а запятые ставить полагается».
Миша покраснел.
В самом конце Лина писала:
«Я по-прежнему работаю в цехе. Устаю, конечно, но это ничего. Зато когда бывает салют, мне кажется, будто в свете ракет есть и моя искорка. А салюты бывают каждый вечер.
Миша, скоро первое сентября, смотри не опоздай. Привет от всех ребят. Лина Незванова».
Вот и всё письмо. Миша дважды перечитал его. Оно как будто перенесло его в Москву. А хорошо бы сейчас по-настоящему очутиться в Москве!
Миша аккуратно, по складочкам, как было, сложил письмо.
Вечером, перед сном, он перечитал его. Всё-таки смешные ребята. И Хаким тоже… Разобрал бы дом… Как будто это игрушечный домик, из кубиков. Конечно, издали легко рассуждать, а вот поди сделай!
С тем он и заснул. Ему снилось, будто он шагает по бульвару, мимо гранитного Тимирязева. Вдруг Тимирязев спустился с постамента, взял Мишу за руку и голосом Хакима сказал: «Если бы я там был, я давно разобрал бы дом!»
Потом Тимирязев превратился в маму. Она стояла у раскрытого окна, а вокруг неё, хлопая крыльями, кружились белые голуби…
Чудной сон! Утром Миша проснулся, достал из-под подушки московское письмо и начал его перечитывать. А когда дошёл до места: «Ребята даже так говорили: „Давайте все поедем к Мише и поможем ему“», — улыбнулся. Вот было б здорово, если бы они все, всем отрядом приехали! Тогда, конечно, совсем другое дело было бы.
Вдруг он уронил письмо, сел на кровати и хлопнул себя по растрёпанной после сна чёлке. Вовсе не надо никому приезжать! Без них можно будет справиться. Как же это он раньше не догадался!
Миша вскочил и начал быстро одеваться.
— Ты куда? — спросил папа, который после умывания вытирал шею мохнатым полотенцем.
— Надо, папа, я на минуточку!
Миша торопливо натянул чулки, штаны, ковбойку и вышел из флигелька. Было раннее утро. Весь двор ещё был в тени, и только на крутой, острой кровле главного корпуса ярко, словно рябина, краснела рыжая черепица.
У ворот в санитарной машине, склонившись головой на руль, дремал водитель.
Миша прошёл мимо главного корпуса, подошёл к сторожке и тихонько приоткрыл дверь.
— А, москвич? — встретил его дядя Корней. — А ведь наша Аннушка спит ещё.
— Ни, дяденька Корней, не сплю, — раздался за перегородкой тонкий голосок.
— Ишь какая! — усмехнулся дядя Корней. — Как москвич пришёл, сразу проснулась.
— Онуте! — крикнул Миша. — Выйдешь, ладно?
— Си-час, — отозвалась Онуте. — Я си-час.
— А что такое за экстренное дело? — спросил дядя Корней.
— Очень экстренное, — ответил Миша, которому понравилось это слово.
Он пришёл в сад и сел на лавочку. Как здесь тихо сейчас! Днём здесь полно раненых, они играют в шашки, смеются. А сейчас пусто, никого ещё нет. Неподвижно стоят обгорелые стволы, выставив во все стороны сухие, чёрные ветки. И только на одной угловатой ветке, на самом верху, зеленеет несколько чудом уцелевших листочков. Они чуть покачиваются. Кончики у них пожелтели. Значит, скоро осень, скоро в школу, в Москву…
Скрипнула старая дверь, Онуте вышла из сторожки. Она тёрла глаза кулаками, жмурилась:
— Как ты рано! Я бы ещё спала, спала…
— Экстренное дело, — начал Миша. — Садись. Я получил письмо из Москвы. — Он достал из кармана бумажный треугольник. — Вот! Тут и про тебя…
— Ни… неправда. Они ж меня не знают.
— Знают. Они всё знают. Слушай!
Миша начал читать. Онуте, подперев щёку рукой, как взрослая женщина, внимательно слушала и кивала головой после каждого слова. А когда Миша кончил, она сказала:
— Зачем про меня писал? Им не интересно.
— Им про всё интересно! — Миша сложил письмо. — Онуте, а ты знаешь, где ваши ребята собираются: Юргис и другие?
— Знаю.
— Где?
— На горе Гедимина.
— Вот, сходи к ним. Скажи, пускай все приходят. Все, все!
— Куда пусть приходят? — удивилась Онуте.
— Куда?.. — Миша задумался. — Ну, пускай туда, где прошлый раз воевали. Где стена. Скажи им: завтра, в девять часов, утром.
— А на что? — спросила Онуте. — Опять воевать?
— Нет, не воевать.
— А на что?
Миша замялся. Ему очень не хотелось до поры до времени всё выкладывать. Скажешь, а потом ещё ничего не получится!
— Ну просто так, потом…
— А если они спросят?
— Ну, если спросят, скажешь — надо, и всё!
Онуте обиделась:
— Не хочешь, не говори! — Она поднялась. — Я пойду. Я только покушаю и пойду.
Она пошла к сторожке. Миша посмотрел ей вслед, вскочил и догнал её.
— Онутечка, я тебе потом всё-всё скажу… Ты пойдёшь туда, а я на Страшун-улицу. Ладно?
Онуте молча кивнула головой.
Глава четвёртая
ПАРОЛЬ «НЕРИС»
Онуте быстро шла по улицам родного города. Утро выдалось хорошее. Светило солнце. Чистое небо синело над развалинами.
Онуте до сих пор никак к ним не привыкнет.
Миша к ним сразу привык, потому что он не видел всех этих домов раньше, когда они были целыми. Другое дело — Онуте. Она помнит каждое здание, каждое крылечко…
Вот кирпичный скелет школы, которую фашисты сожгли. Сейчас там настилают полы, навешивают двери… Значит, скоро она откроется.
А вот длинное серое здание кондитерской фабрики. Сколько раз, бывало, Онуте стояла здесь, у ворот, ждала. Потом раздавался гудок, из ворот выходил папа, от которого вкусно пахло шоколадом. Он брал Онуте за руку, и они вместе шли домой, на Зверинец.
Видно, фабрика тоже скоро опять начнёт работать. К ней то и дело подкатывают грузовики, привозят какие-то котлы, ящики. Онуте вздохнула: она вспомнила папу.
Скоро перед ней открылась просторная, залитая солнцем площадь Катедры. Онуте прошла наискось через площадь и стала подниматься по крутому склону горы Гедимина.
Как хорошо здесь было до войны! Они с папой каждое воскресенье приходили сюда. Они бродили по запутанным тропинкам, потом садились на траву, под раскидистым деревом. Папа доставал из корзинки бутылку молока, мягкую булочку…
«Тевялис, — показывала Онуте на вершину горы, — а кто построил там этот домик?»
«Это не домик, а башня, — отвечал папа. — Её построил великий князь Гедиминас».
«А почему, тевялис?»
Онуте тогда то и дело спрашивала: «Почему».
«Пей молоко, Оняле, — говорил папа. — Много лет назад здесь был густой, дремучий лес. И вот, Оняле, шёл по лесу Гедиминас со своей дружиной. Поднялись они на эту гору и устроили привал — заснули».
«И Гедиминас заснул? А почему он заснул?»
«Пей, Оняле, а то не буду рассказывать… И вот он спит и видит сон. И приснился ему, Оняле, волк. Большой, большущий железный волк».
«Железный! А разве бывают железные?»
«Во сне всё бывает… И вот снится ему, будто железный волк поднял свою железную морду и завыл».
Онуте до сих пор никак к ним не привыкнет.
Миша к ним сразу привык, потому что он не видел всех этих домов раньше, когда они были целыми. Другое дело — Онуте. Она помнит каждое здание, каждое крылечко…
Вот кирпичный скелет школы, которую фашисты сожгли. Сейчас там настилают полы, навешивают двери… Значит, скоро она откроется.
А вот длинное серое здание кондитерской фабрики. Сколько раз, бывало, Онуте стояла здесь, у ворот, ждала. Потом раздавался гудок, из ворот выходил папа, от которого вкусно пахло шоколадом. Он брал Онуте за руку, и они вместе шли домой, на Зверинец.
Видно, фабрика тоже скоро опять начнёт работать. К ней то и дело подкатывают грузовики, привозят какие-то котлы, ящики. Онуте вздохнула: она вспомнила папу.
Скоро перед ней открылась просторная, залитая солнцем площадь Катедры. Онуте прошла наискось через площадь и стала подниматься по крутому склону горы Гедимина.
Как хорошо здесь было до войны! Они с папой каждое воскресенье приходили сюда. Они бродили по запутанным тропинкам, потом садились на траву, под раскидистым деревом. Папа доставал из корзинки бутылку молока, мягкую булочку…
«Тевялис, — показывала Онуте на вершину горы, — а кто построил там этот домик?»
«Это не домик, а башня, — отвечал папа. — Её построил великий князь Гедиминас».
«А почему, тевялис?»
Онуте тогда то и дело спрашивала: «Почему».
«Пей молоко, Оняле, — говорил папа. — Много лет назад здесь был густой, дремучий лес. И вот, Оняле, шёл по лесу Гедиминас со своей дружиной. Поднялись они на эту гору и устроили привал — заснули».
«И Гедиминас заснул? А почему он заснул?»
«Пей, Оняле, а то не буду рассказывать… И вот он спит и видит сон. И приснился ему, Оняле, волк. Большой, большущий железный волк».
«Железный! А разве бывают железные?»
«Во сне всё бывает… И вот снится ему, будто железный волк поднял свою железную морду и завыл».
