Страница:
Квит окончательно распустил и сбросил гароту. Взвинченные нервы требовали разрядки, к тому же его отношения с хозяйкой особняка зрели с водевильной быстротой.
– Поправь шнурок там, на спине, а то режет, – томно попросила Ангелина. – Нет, еще ниже...
И Квит принялся терпеливо развязывать кожаные тесемки на теле хозяйки. Черный корсаж из блестящей кожи обливал гуттаперчевые силиконовые мячики. Талия была стиснута шнуровкой, и Квит неуверенно потянул за ремешок, подсознательно ожидая подвоха: может быть, шума спускаемого бочка, может быть, оплеухи со стороны хозяйки.
Но Геля сама была рада сбросить черную сбрую. Тело у нее было прохладное и шероховатое, как шляпка гриба, и Квит долго не мог воодушевиться.
– Признайся, ты хотел меня? Хотел? – страстно мяукнула Геля.
Квит шипел от хищного сладострастия. Все же он считал себя рыцарем и с дамами обходился вежливо, но духи Донны Бес вызывали у него почти аллергию, да и предстоящая игра в «ведьму и инквизитора» мало радовала его.
На следующее утро Квит аккуратно вскрыл файлы местных силовиков и выудил списки зачинщиков городского беспорядка. Многое поставлено на карту, чтобы пренебрегать предложением этой кошки в сапогах, которая легко может сделать его маркизом Карабасом.
Глава 35
« Не женитесь на «Зимней вишне», если не хотите утонуть в сиропе», – катая языком вишневую косточку, философствовал Квит. Упругая сочная вишенка попалась ему в бокале приторного шерри-бренди, которым он запил кусок миндального торта, съеденного прямо в постели.
– Чему ты улыбаешься, милый? – пропела Геля, успевая следить за Борисом сквозь сощуренные ресницы.
– Тебе, моя прелесть, тебе!
Полыхало китайское общежитие, в городе взрывались витрины и шмякали под подошвами перезрелые овощи с опрокинутых лотков. Гранатовый сок мешался с кровью, и «скорые» не успевали доставлять в больницу жертв локальных стычек. На площади уже который день шумело народное вече, и лишь накануне праздника людей удалось отправить по домам силой конных нарядов милиции и водометами.
Но все тревоги и неурядицы оставались за порогом роскошной спальни. Гигантская кровать из литого золота на львиных лапах с массивными крыльями на спинке занимала ее почти целиком. С потолка смотрели розовые, налитые Амурчики и фривольные нимфы. Квит потянулся на постели и, подмигнув пухлому амуру, как сметливому подельнику, выстрелил в него вишневой косточкой.
Геля, лежа на животе, озадаченно щелкала клавишами ноутбука. Назавтра было назначено открытие «Родника», и Геля подводила последние итоги.
– Может быть, отложить открытие, Ангелок? Посмотри, что в городе творится...
– Нет-нет, – озабоченно ворковала Ангелина. – Ни в коем случае нельзя переносить открытие. Писаки раздуют зверский скандал. Меня беспокоит другое...
– Что беспокоит, моя киска?
– Этот бестия Валерий... Похоже, у него в подвале под монастырем есть вентиль, который перекрывает воду. Вода уходит и возвращается по его молитве, а этот старый греховодник заявляет, что якобы сотворил очередное чудо, доступное только ему. Квиточек, мне нужна твоя помощь.
– Всегда готов!
– Слушай, проникни в подземку под монастырем. Посмотри, что там делается, и доложи мне.
Через день Квит предоставил в распоряжение Плотниковой подробные карты подземелья, снятые по его небескорыстной просьбе военными картографами, и описал устройство «вентиля», обнаруженного на нижнем горизонте.
– Этот унитазный бочок нужно взорвать. Взорвать!!! – коротко приказала Плотникова. – Уничтожить! И пусть эта седая лиса покрутится. В вашей конторе наверняка есть взрывные шашки. Я бы и сама могла достать, но боюсь замараться. Если наслежу, тебе же придется расхлебывать.
– Уже не придется. Я подал рапорт об отставке. Меня волнует другое: взрыв такой силы могут услышать с поверхности.
– Тогда в полночь, под гром салютов!
– Есть! Yes-s-s! – Квит изобразил кулаком знак скорой и несомненной победы.
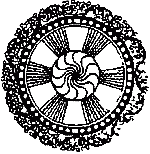
Глава 36
– Севергин, свидание! – буркнул в форточку конвоир.
Егор вздрогнул радостно: «Алена! Она простила его и пришла!»
Торопя медлительный конвой, он почти вбежал в комнату для свиданий. За пластиковым щитком ухмылялся Порохью.
– Вы мне звонили, не отпирайтесь! – блеснул золотыми коронками немец.
– Да, я звонил. Курт, я почти вышел на след Барятинского.
– И что же? – Порохью даже подпрыгнул на стуле.
– Некоторое время он был послушником у настоятеля Свято-Покровского монастыря в Сосенцах.
– Был? Значит, это в прошлом. А где он сейчас?
– Похоже, кто-то приложил руку к его повторному исчезновению. Я знаю, что против вашего кошелька никто не устоит. Попробуйте разыскать его.
Порохью рассыпался в благодарностях, но Севергин резко остановил поток комплиментов.
– Курт, помните, вы говорили о сокровищах под монастырем? Они существуют!
– Вот как! Может быть, вы знаете, где их искать?
– Догадываюсь...
– В этом случае вы настоящий граф Монтекристо! Я готов устроить ваш побег, если возьмете в долю. Но если серьезно, то сейчас для меня важнее другое. За что вас засадили в кутузку?
– Мне предъявлено обвинение в убийстве Черносвитова. На днях меня отправляют в Москву. Если бы я мог освободиться, хотя бы часа на четыре, я бы обследовал подземелье. Там должны остаться следы Лады. А от нее нити тянутся к Касьяну Ярославовичу, и, возможно, я вышел бы на его убийцу.
– Вот что, я могу внести за вас любой денежный залог. Я приобрел выгодный тендер на ввоз табака в Россию и теперь могу позволить себе немного посорить деньгами.
– Меня «обменяют на табак»? – впервые улыбнулся Севергин.
– «Табачный митрополит», «табачный капитан» и «табачный лейтенант». Жизнь мельчает... У нынешних русских только одна проблема – желание денег. Я хорошо заплачу, и вас выпустят на несколько часов. Я видел, что на автомобиле начальника местной милиции в трех местах проржавел капот. Это заставит его быть сговорчивей.
– Нет, Курт, с Никодимычем, моим крестным, это не пройдет!
– Панин ваш крестный? Ха! Крестный Дроссельмейер? Помните этого доброго распорядителя в «Щелкунчике»? Тогда он поможет своему крестному детищу бесплатно.
– Это невозможно.
– Тогда – побег. Решено! Сегодня ночью, будьте готовы. Какой номер вашей камеры?
– Восьмой. Вы что, серьезно?
– Со всей немецкой серьезностью в кармане и русским «авосем» за пазухой.
– Ладно... Но учтите, со мной в камере сидит язычник Будимир, его тоже обвиняют в убийстве, хотя он не виноват.
– В таком случае вы уйдете вместе.
– Ладно, уговорили. Мы уйдем в самоволку до утренней поверки.
– Да уж, не подведите вашу «фею».
– Какую фею?
– Ту самую, что устроила побег Синдерелле. Хотя, если честно, эту фею я не так давно снял в местном баре.
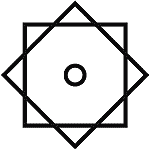
Глава 37
Ранним, седеньким от росы утром Богованя вышел в монастырский сад. С весны присмотрел он этот молоденький кедр с ветвистой короной на макушке. В восемь часов по монастырскому времени старец Феодор высадит деревце на склоне Велесова холма. Этот кедр станет чем-то вроде точки в древнем пророчестве о конце обители. После исполнения «восьмого часа» предречены монастырю великие и грозные перемены. Однако с первого взгляда было ясно: с деревцем что-то неладно. Поначалу садовник решил, что кроты подрыли корни крепыша – хвоя потускнела и не ко времени тронулась желтизной. Садовник снял с плеча остро заточенный заступ, копнул пару раз, и деревце легко вышло из земли. Богованя изумленно заглянул в глинистую воронку. Там тускло светилось серебро и играло в рассветных лучах червонное золото. – Ах, вот как оно повернулось, – он достал из ямы серебряную трубку и золотую книгу. Оглянувшись по сторонам, он спрятал находку за пазуху.
Знойный воздух дрожал от колокольного звона. Под пение колоколов на белые плиты соборной площади десантировались господа устроители. Высадив «тело», очередной «катафалк» бесшумно отъезжал в арку, давая место следующему. Первым на стогна града выплыл владыка Валерий, похожий на фиолетового библейского Левиафана, проглотившего пророка Иону и три дня удерживающего его во чреве. Что удерживал во чреве владыка, не догадывался никто из сомлевшей толпы на площади. Величественно благословляя паству, он двинулся к приготовленной трибуне.
Ступенчатое возвышение, похожее на мавзолей, было обито голубым штофом и украшено золотыми шестиконечными звездами.
Резкая, полная пружинистой злобы на площадь выпрыгнула Ангелина Плотникова. Не удержав равновесия, она пошатнулась на вызывающе тонких каблуках, едва не свернув хрупкую щиколотку. «Английский» костюмчик из розовой лакированной кожи выдал короткий треск, словно под мышкой у Ангелины проснулся сверчок. Ее вовремя подхватили и вновь поставили на каблуки добрые молодцы из службы собственной безопасности. И не диво, что утратила она равновесие в эту ответственную минуту, под блицами репортеров и прицелами телекамер; мелеет и обмирает хрустальная жилка в глубине Утеса, и сразу пустеют трубы завода, но стоит владыке Валерию пропеть молебствие, насос вновь начинает качать внезапно подошедшую воду.
Молебны всякий раз исправно помогали «водяному делу», но ставили ее в жесткую зависимость от батюшки. Эта позорная кабала не могла длиться долго. Ровно в полночь, когда в небе расцветут, созреют и с шумом опадут гроздья салюта, в подвале монастыря сработает взрывной механизм. Ювелирно направленный взрыв уничтожит старинный шлюз, и вся сила водного потока устремится в трубы завода. После пуска первой очереди завода Ангелина тихо проложит дополнительную ветку водопровода и тем самым восстановит родник, на радость паломникам. О том, что такая вода с привкусом ржавого железа и бурым осадком на дне уже не будет вполне святой, догадаются не сразу, а когда догадаются, подобные неурядицы покажутся мелким сором перед грозным ликом грядущих перемен. Местное население скоро само собой изойдет под корень и будет заменено на исполнительных и плодовитых китайцев. Вымершие деревни пойдут под снос, и уже к следующей весне их распашут под угодья новой помещицы.
Деликатно покачивая бедрами, Геля, наконец, взобралась на трибуну и встала слева от владыки. Теперь все, кто подходил под благословение и целовал десницу владыки Валерия, были вынуждены целовать руку и Плотниковой.
Гладкий, как боровок, Шпалера отчего-то ежился и чувствовал себя крайне неуютно в своем строгом костюме. Новый костюм повсеместно жал, а любимый, молочно-белый, от Гуччи, удобно разношенный и обмятый, он больше не наденет никогда. Вчера, на встрече с горожанами, он вновь уговаривал обиженных сосенчан «жить дружно». В ответ его забросали целлофановыми пакетами с дрянью. Шпалера торопливо, насколько позволяла выдающаяся комплекция, прошмыгнул на трибуну и встал одесную от владыки. Вскоре все почетные гости выстроились по ранжиру.
Из шести динамиков грянул хор «Славься!».
Едва стихла запись, до трибун долетели треньканье балалайки, визг гармони и резкий петушиный тенорок.
С вершины голубой пирамиды хорошо просматривалась пойма Забыти, часть Царева луга и дорога, ведущая к монастырю. Там толпился народ, которому не хватило места на площади, и резвились невесть откуда взявшиеся скоморохи. Рыжий мужичонка в пестрой рубахе наяривал на балалайке. Бурый, лоснящийся медведь играл на гармони, кувыркался и потешал народ. Жемчужной россыпью взлетали и кружили над Царевым лугом белые голуби. Люди тесно окружили скомороха.
– Ой, вы, други, гости званые! Сапожки на вас сафьянные! Становой кафтан – индийская парча. Речь орлиная смела и горяча! – выводил скоморох, и голос его был удивительно четко слышен на площади. – Все вы бровью в соликамского бобра , русской совестью светлее серебра! Изреките ж песнослову-мужику, где дорога к скоморошью теремку? Где тропинка во церковный зелен сад, где под сосенкой зарыт волшебный клад – Ключ от песни всеславянской и родной , что томит меня дремучею тоской?
– Что он там несет? – нахмурился владыка. – Вы что, заказывали самодеятельность?
– Никак нет! – по военному четко отчитался Шпалера. – Это форменное безобразие под маской самодеятельности.
– Ой вы, други – ясны соколы! Счастье есть, да бродит около, – пел скоморох, в пояс кланяясь «народным дружинникам». Они уже две ночи подряд усмиряли неистовые страсти на месте сгоревшего рынка.
– Сердце, сердце, русской удали жилье! На тебя ли ворог точит лезвие? Цепь кандальную на кречета кует , чтоб не пело ты, как воды в ледоход. Не вздыхало бы от жаркой глубины: «Где вы, вещие Бояновы сыны ? » И люди вторили песне, плескали в ладони, просили спеть еще и бросали под ноги певцу денежные купюры.
– А ну-ка покажи, Миша, – обратился вожак к медведю, – как Шпалера взятки берет.
Медведь одной лапой прикрыл глаза, а другую протянул к толпе ладошкой вверх.
– А теперь покажи, как от народа правду прячут.
Медведь передними лапами схватил себя сзади за гачи и с размаху сел в горячую пыль, словно пряча что-то под седалищем.
Чуя спиной все это безобразие, владыка намекнул Шпалере, что скоморохов нужно срочно убрать. Часть «приданных сил» устремилась на Царев луг и взяла в кольцо скомороха. Но народ столь плотно окружил «медвежью потеху», что разомлевшие на солнце «архангелы» решили ждать конца представления.
Квит примостился в стороне от своей тайной пассии. Чтобы скоротать скучное время официальной части, он разговаривал с пожилым вежливым немцем. Рядом с немцем позировала фигуристая девица в парчовом сарафане и жемчужном кокошнике. Под пропотевшей подмышкой был зажат томик русских сказок. Квит едва узнал деваху, что дежурила неделю назад в ночном баре.
– Посмотрите на этот «Престольный праздник», это чисто русская смесь греха и святости, – ухмылялся Квит. – Опять попутали Божий дар с яичницей! Уездная Татария...
– Да, русские – народ крайностей, и в этом их спасение. Раскачиваясь на своих «русских качелях», они смогут извлечь силу из слабости и свет из тьмы. Русские умеют верить, но этого мало, чтобы спасти Россию! Я хорошо знаю ваш народ.
– А кто вы? – мельком поинтересовался Квит.
– Я коллекционер живописи и по совместительству ее знаток. О, русская школа – это сплав совести и мысли! – серьезно и с глубоким чувством говорил немец. – Помните полотно Перова «Крестный ход в Курской губернии»? Ну как же, оно есть в вашей «Третьяковке»!
Квит ни черта не помнил, но важно кивнул.
– На картине – церковное шествие с чудотворной иконой. Когда-то эта икона спасла жизнь маленькому мальчику, будущему Серафиму Саровскому. Перов жесток, как хирург, точнее как патологоанатом. Представьте себе: сжимая костыли и палки, вдоль дороги ползут безногие калеки, бредут нищие. Крепкие бородатые мужики тащат ковчег с иконой. А вдоль дороги – лысые пни: целый лес, снесенный топором, может быть еще вчера. Так «в чем вера ваша?». Зачем все это показное благолепие, если те же самые люди уродуют свою землю, продают и сводят под корень рощи и леса?
– Да-да, – рассеянно кивнул Квит.
По соборной площади, мелькая загорелыми коленками, старательно маршировали девушки-гусары с лохматыми бунчуками в руках, и Квит засмотрелся на мелькание белоснежного плиссе.
В жарком небе над площадью реяли стратостаты со слегка искаженной фотографией Плотниковой и хвостатые «змеи» с ее размашистой подписью. На краю площади, привязанные канатами, ожидали парада великолепные воздушные шары.
Детские и народные хоры, поделив между собой Царев луг, нежно и трогательно выводили песни о Родине. С дымом и шипеньем сыпался на Царев луг преждевременный салют, а навстречу ему с земли поднимался дымок полевых кухонь. За поймой Забыти собиралась гроза, тучи багровели и наливались гневом. Там погромыхивало и покряхтывало грозно, но пока вежливо, словно кулачный боец разминал мускулы перед схваткой. Вся эта картина со стороны напоминала расстановку сил перед боем.
Глотнув родниковой воды, Шпалера взялся за микрофон, дабы прочесть заготовленную речь о терпении и гражданском согласии, мягко обращенную к бунтующим горожанам, но так и не успел произнести ни слова. Перед звонким перестуком копыт дрогнул кордон внутренних войск из крутых бойцов, сваренных зноем. На соборную площадь вылетел белый орловский рысак. С запавших боков хлопьями валила пена. На коне в полном облачении восседал Стенька Разин, предводитель ночного бунта против засилья нехристей-иноземцев. За ним на площадь вылилась ватага революционной голытьбы, бомжей и безработных жителей Сосенец, тех самых, что колобродили по лесам в компании атамана, партизанили в окрестностях и наводили ужас на гостей города. Рубанув палашом по капроновым шнурам, на которых зыбились стратостаты, украшенные образом благотворительницы, он отпустил в небо ее наскучившие земле изображения.
– Прощай, моя ясная кралечка! Оторвись личиком белым от грешной земли да посмотри, моя голубушка, в небо ясное. Да и я довольно покуролесил, православные...
Разин соскочил с коня и на четыре стороны земно поклонился толпе. «Крепыши» из внутренних войск опешили, полагая, что это часть запланированного представления. В мобильной радиосвязи из-за близкой грозы случились существенные помехи, и силовики явно не успевали согласовать свои действия. Под ликующие крики дюжие мужики взялись качать атамана, явно намереваясь отправить его вслед за улетевшими стратостатами:
– Разина в мэры! Сарынь – на кичку! Шпалеру – на галеру! ОМОН – в Вашингтон! – вопила голытьба, не замечая, что к народному любимцу уже прокладывает дорогу очухавшийся ОМОН.
– Пособите, братцы! – крикнул Разин, вцепившись в корзину воздушного шара.
Его подсадили. Взмахнув палашом, Разин рубанул по корабельным канатам. Шар плавно взмыл вверх. Стрелять в дорогостоящий спортивный снаряд милиционеры не решились. Гуляка-ветер азартно поймал подброшенный в небо цветастый мячик и поволок подальше от наступающего грозового фронта, и пока дозволяло зрение, люди видели, как в мрачном поднебесье среди кучевых облаков прощально махал шапкой улетающий Разин. Далеко внизу посреди широкого зеленого луга кружились, разворачивались и вновь свивались в тугую спираль пестрые хороводы. Они расходились, ширились, захватывали все новых людей. Уже и милиционеры кружили в едином вихре, и, подхваченные буйным танцем, побросали свой товар лотошники. Бешеный хоровод вели скоморохи: жуткий танец, похожий на выплескивающийся бунт.
Чтобы не видеть всего этого безобразия, владыка отправился в собор, несколько опережая регламент. В соборе ему предстояло вскрыть «Завещание Досифея» и прочесть его народу.
Отец Нектарий уже отслужил молебен. Серебряный ковчег, украшенный самоцветами и снабженный множеством монастырских печатей, вынесли из алтаря под пение торжественных стихир. Владыка неспешно срезал красные монастырские печати и открыл крышку дарохранительницы.
Нектарий зажмурился. Из-под его темных век, в уголки скорбно сжатых губ затекали слезы, они струились по бороде и золотой цепи с распятием. Хор замолк. В напряженной тишине раздался опечаленный голос владыки Валерия.
– Братия и сестры, – он держал в руках пустой ларец. – За долгие годы завещание истлело и стало прахом, но верующее сердце всегда узрит истину...
Сусальные словеса полились в толпу, оставляя пустоту и медный привкус обмана.
Скрип древнего засова произвел бесшумное волнение в рядах клира. По собранию верующих, набирая силы, прокатилась молва, зашелестели голоса, возгласы удивления и радости.
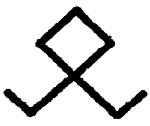
Глава 38
Даже легкая служба за монитором или пультом охраны бывает тяжела во дни всенародных торжеств и праздников, когда веселье перехлестывает аж за стены узилищ. Но малая толика радости успевает просочиться и в пересохшие уста стражников.
В свой шестисотый день рождения городок покачивался на волнах веселья и любви, как маленький расцвеченный огнями кораблик. Городской изолятор временного содержания, иначе «предвариловка», оставался чем-то вроде темного трюма, где в стороне от шалого веселья томились узники и сатанели от скуки и жары охранники.
Не дожидаясь темноты, у дверей КПЗ объявилась Зина с большой тяжелой корзиной, наполненной вкусной снедью. На самом ее днище, под банками с баварским и штабелями душистой нарезки, лежала импортная сумка. В ней прятались короткая саперная лопатка, плоская фляга с водой, моток веревок и фонари с запасом батареек.
Зину хорошо знал весь неорганизованный мужской элемент городка, и милиционеры не были исключением. Свистом и призывным ржанием охранники из числа суточного наряда принялись зазывать «Резиновую Зину» в каптерку. Если верить слухам, престарелый немецкий бизнесмен выкупил ее у чеченцев за крупные бабки, на которые можно было бы скупить на корню добрую половину городка. Поговаривали, что немец крепко втюрился в русскую красавицу. В первый же день их знакомства он вызвал из столицы дорогого доктора, и тот крепко-накрепко купировал ее алкогольную привязанность. После благодетель привел в порядок ее гардероб. От покоя и сытости Зина быстро посветлела лицом и налилась телом.
Кому рассказать, смех один, за все дни и ночи немчура и пальцем не тронул Зину, но каждый вечер перед сном она читала ему русские сказки из большой книги с картинками. В полосатом колпачке и бумазейной пижамке Курт походил на толстощекого седенького гнома. Он мирно засыпал уже на тридцатой странице под сказ о безотрадной судьбе Царевны-лягушки и беспримерной наглости Кощеевой.
В честь прибытия Зины в дежурке наскоро накрыли банкетный стол. Новое вполне целомудренное житие столь украсило ее, что при одном взгляде на Зину у охранников поднимался гемоглобин, но на вежливые заигрывания Зина не реагировала, всякий раз предлагая выпить «за любовь».
Часам к одиннадцати охранники изолятора сладко посапывали там, где их настиг Морфей. Действия снотворного, подмешанного в лучшее баварское пиво, должно было хватить на четверть суток крепкого и здорового сна.
В половине двенадцатого в камере номер восемь загремел замок. Дверь распахнулась, и на пороге возник выразительный женский силуэт.
– Зина? – Севергин вскочил с койки.
– Иди... – прошептала Зина. – Выход свободен. В дежурке – саперная лопатка, фонарики, фляга с водой...
Будимир, ничего не понимая, глазел на яркое видение.
– Подожди, Егор, выслушай, – задыхаясь от волнения, Зина поймала руку Егора и покаянно потянулась губами.
– Поправь шнурок там, на спине, а то режет, – томно попросила Ангелина. – Нет, еще ниже...
И Квит принялся терпеливо развязывать кожаные тесемки на теле хозяйки. Черный корсаж из блестящей кожи обливал гуттаперчевые силиконовые мячики. Талия была стиснута шнуровкой, и Квит неуверенно потянул за ремешок, подсознательно ожидая подвоха: может быть, шума спускаемого бочка, может быть, оплеухи со стороны хозяйки.
Но Геля сама была рада сбросить черную сбрую. Тело у нее было прохладное и шероховатое, как шляпка гриба, и Квит долго не мог воодушевиться.
– Признайся, ты хотел меня? Хотел? – страстно мяукнула Геля.
Квит шипел от хищного сладострастия. Все же он считал себя рыцарем и с дамами обходился вежливо, но духи Донны Бес вызывали у него почти аллергию, да и предстоящая игра в «ведьму и инквизитора» мало радовала его.
На следующее утро Квит аккуратно вскрыл файлы местных силовиков и выудил списки зачинщиков городского беспорядка. Многое поставлено на карту, чтобы пренебрегать предложением этой кошки в сапогах, которая легко может сделать его маркизом Карабасом.
Глава 35
Час между волком и собакой
Созидающий башню – сорвется.
Будет страшен стремительный лёт...Н. Гумилев
« Не женитесь на «Зимней вишне», если не хотите утонуть в сиропе», – катая языком вишневую косточку, философствовал Квит. Упругая сочная вишенка попалась ему в бокале приторного шерри-бренди, которым он запил кусок миндального торта, съеденного прямо в постели.
– Чему ты улыбаешься, милый? – пропела Геля, успевая следить за Борисом сквозь сощуренные ресницы.
– Тебе, моя прелесть, тебе!
Полыхало китайское общежитие, в городе взрывались витрины и шмякали под подошвами перезрелые овощи с опрокинутых лотков. Гранатовый сок мешался с кровью, и «скорые» не успевали доставлять в больницу жертв локальных стычек. На площади уже который день шумело народное вече, и лишь накануне праздника людей удалось отправить по домам силой конных нарядов милиции и водометами.
Но все тревоги и неурядицы оставались за порогом роскошной спальни. Гигантская кровать из литого золота на львиных лапах с массивными крыльями на спинке занимала ее почти целиком. С потолка смотрели розовые, налитые Амурчики и фривольные нимфы. Квит потянулся на постели и, подмигнув пухлому амуру, как сметливому подельнику, выстрелил в него вишневой косточкой.
Геля, лежа на животе, озадаченно щелкала клавишами ноутбука. Назавтра было назначено открытие «Родника», и Геля подводила последние итоги.
– Может быть, отложить открытие, Ангелок? Посмотри, что в городе творится...
– Нет-нет, – озабоченно ворковала Ангелина. – Ни в коем случае нельзя переносить открытие. Писаки раздуют зверский скандал. Меня беспокоит другое...
– Что беспокоит, моя киска?
– Этот бестия Валерий... Похоже, у него в подвале под монастырем есть вентиль, который перекрывает воду. Вода уходит и возвращается по его молитве, а этот старый греховодник заявляет, что якобы сотворил очередное чудо, доступное только ему. Квиточек, мне нужна твоя помощь.
– Всегда готов!
– Слушай, проникни в подземку под монастырем. Посмотри, что там делается, и доложи мне.
Через день Квит предоставил в распоряжение Плотниковой подробные карты подземелья, снятые по его небескорыстной просьбе военными картографами, и описал устройство «вентиля», обнаруженного на нижнем горизонте.
– Этот унитазный бочок нужно взорвать. Взорвать!!! – коротко приказала Плотникова. – Уничтожить! И пусть эта седая лиса покрутится. В вашей конторе наверняка есть взрывные шашки. Я бы и сама могла достать, но боюсь замараться. Если наслежу, тебе же придется расхлебывать.
– Уже не придется. Я подал рапорт об отставке. Меня волнует другое: взрыв такой силы могут услышать с поверхности.
– Тогда в полночь, под гром салютов!
– Есть! Yes-s-s! – Квит изобразил кулаком знак скорой и несомненной победы.
Глава 36
Табачный лейтенант
Зацвела на воле, в поле бирюза,
Да не смотрят в душу милые глаза.И. Бунин
– Севергин, свидание! – буркнул в форточку конвоир.
Егор вздрогнул радостно: «Алена! Она простила его и пришла!»
Торопя медлительный конвой, он почти вбежал в комнату для свиданий. За пластиковым щитком ухмылялся Порохью.
– Вы мне звонили, не отпирайтесь! – блеснул золотыми коронками немец.
– Да, я звонил. Курт, я почти вышел на след Барятинского.
– И что же? – Порохью даже подпрыгнул на стуле.
– Некоторое время он был послушником у настоятеля Свято-Покровского монастыря в Сосенцах.
– Был? Значит, это в прошлом. А где он сейчас?
– Похоже, кто-то приложил руку к его повторному исчезновению. Я знаю, что против вашего кошелька никто не устоит. Попробуйте разыскать его.
Порохью рассыпался в благодарностях, но Севергин резко остановил поток комплиментов.
– Курт, помните, вы говорили о сокровищах под монастырем? Они существуют!
– Вот как! Может быть, вы знаете, где их искать?
– Догадываюсь...
– В этом случае вы настоящий граф Монтекристо! Я готов устроить ваш побег, если возьмете в долю. Но если серьезно, то сейчас для меня важнее другое. За что вас засадили в кутузку?
– Мне предъявлено обвинение в убийстве Черносвитова. На днях меня отправляют в Москву. Если бы я мог освободиться, хотя бы часа на четыре, я бы обследовал подземелье. Там должны остаться следы Лады. А от нее нити тянутся к Касьяну Ярославовичу, и, возможно, я вышел бы на его убийцу.
– Вот что, я могу внести за вас любой денежный залог. Я приобрел выгодный тендер на ввоз табака в Россию и теперь могу позволить себе немного посорить деньгами.
– Меня «обменяют на табак»? – впервые улыбнулся Севергин.
– «Табачный митрополит», «табачный капитан» и «табачный лейтенант». Жизнь мельчает... У нынешних русских только одна проблема – желание денег. Я хорошо заплачу, и вас выпустят на несколько часов. Я видел, что на автомобиле начальника местной милиции в трех местах проржавел капот. Это заставит его быть сговорчивей.
– Нет, Курт, с Никодимычем, моим крестным, это не пройдет!
– Панин ваш крестный? Ха! Крестный Дроссельмейер? Помните этого доброго распорядителя в «Щелкунчике»? Тогда он поможет своему крестному детищу бесплатно.
– Это невозможно.
– Тогда – побег. Решено! Сегодня ночью, будьте готовы. Какой номер вашей камеры?
– Восьмой. Вы что, серьезно?
– Со всей немецкой серьезностью в кармане и русским «авосем» за пазухой.
– Ладно... Но учтите, со мной в камере сидит язычник Будимир, его тоже обвиняют в убийстве, хотя он не виноват.
– В таком случае вы уйдете вместе.
– Ладно, уговорили. Мы уйдем в самоволку до утренней поверки.
– Да уж, не подведите вашу «фею».
– Какую фею?
– Ту самую, что устроила побег Синдерелле. Хотя, если честно, эту фею я не так давно снял в местном баре.
Глава 37
Лучшие люди
Откуль-неоткуль добрый конь бежит,
На коне-седлеце удалец сидит.
На нем жар-булат, шапка-золото.
С уст текут меды – речи братские.Н. Клюев
Ранним, седеньким от росы утром Богованя вышел в монастырский сад. С весны присмотрел он этот молоденький кедр с ветвистой короной на макушке. В восемь часов по монастырскому времени старец Феодор высадит деревце на склоне Велесова холма. Этот кедр станет чем-то вроде точки в древнем пророчестве о конце обители. После исполнения «восьмого часа» предречены монастырю великие и грозные перемены. Однако с первого взгляда было ясно: с деревцем что-то неладно. Поначалу садовник решил, что кроты подрыли корни крепыша – хвоя потускнела и не ко времени тронулась желтизной. Садовник снял с плеча остро заточенный заступ, копнул пару раз, и деревце легко вышло из земли. Богованя изумленно заглянул в глинистую воронку. Там тускло светилось серебро и играло в рассветных лучах червонное золото. – Ах, вот как оно повернулось, – он достал из ямы серебряную трубку и золотую книгу. Оглянувшись по сторонам, он спрятал находку за пазуху.
* * *
Солнце безжалостно жгло, как перед грозой. Воздух над соборной площадью раскалился до сухого доменного жара, и люди с облегчением уходили в тень, где под сенью монастырских стен шла бойкая торговля товарами «радость паломника». Бумажные иконки с изображением старца Досифея, роскошно изданные фолианты с житием святого и описанием его чудес, четки из ветвей священного кедра и кремешки с холма, где молился Преподобный, торопливо перекочевывали в карманы, рюкзаки и пакеты. Лотки со святой водой манили жаждущих, тут же с мнимой стыдливостью притулились пивные ларьки, обклеенные прельстительными картинками. На разливистый благовест тянулась к обители местная молодежь – девушки в джинсах, с сигаретками в лакированных коготках, и молодые люди с мутными взорами и не проходящей пивной икотой. Они впервые пришли в монастырь и, тушуясь непривычной святости места, избегали поодиночке выходить на открытое пространство площади. Под стенами монастыря в березовой рощице табунились неформалы в цепях, булавках и стайлингах а ля Антихрист, со стороны похожих на взрыв сверхновой звезды. Даже эти дерзкие пасынки антикультуры не желали оставаться в стороне от торжества и открытия долгожданной тайны – завещания Досифея.Знойный воздух дрожал от колокольного звона. Под пение колоколов на белые плиты соборной площади десантировались господа устроители. Высадив «тело», очередной «катафалк» бесшумно отъезжал в арку, давая место следующему. Первым на стогна града выплыл владыка Валерий, похожий на фиолетового библейского Левиафана, проглотившего пророка Иону и три дня удерживающего его во чреве. Что удерживал во чреве владыка, не догадывался никто из сомлевшей толпы на площади. Величественно благословляя паству, он двинулся к приготовленной трибуне.
Ступенчатое возвышение, похожее на мавзолей, было обито голубым штофом и украшено золотыми шестиконечными звездами.
Резкая, полная пружинистой злобы на площадь выпрыгнула Ангелина Плотникова. Не удержав равновесия, она пошатнулась на вызывающе тонких каблуках, едва не свернув хрупкую щиколотку. «Английский» костюмчик из розовой лакированной кожи выдал короткий треск, словно под мышкой у Ангелины проснулся сверчок. Ее вовремя подхватили и вновь поставили на каблуки добрые молодцы из службы собственной безопасности. И не диво, что утратила она равновесие в эту ответственную минуту, под блицами репортеров и прицелами телекамер; мелеет и обмирает хрустальная жилка в глубине Утеса, и сразу пустеют трубы завода, но стоит владыке Валерию пропеть молебствие, насос вновь начинает качать внезапно подошедшую воду.
Молебны всякий раз исправно помогали «водяному делу», но ставили ее в жесткую зависимость от батюшки. Эта позорная кабала не могла длиться долго. Ровно в полночь, когда в небе расцветут, созреют и с шумом опадут гроздья салюта, в подвале монастыря сработает взрывной механизм. Ювелирно направленный взрыв уничтожит старинный шлюз, и вся сила водного потока устремится в трубы завода. После пуска первой очереди завода Ангелина тихо проложит дополнительную ветку водопровода и тем самым восстановит родник, на радость паломникам. О том, что такая вода с привкусом ржавого железа и бурым осадком на дне уже не будет вполне святой, догадаются не сразу, а когда догадаются, подобные неурядицы покажутся мелким сором перед грозным ликом грядущих перемен. Местное население скоро само собой изойдет под корень и будет заменено на исполнительных и плодовитых китайцев. Вымершие деревни пойдут под снос, и уже к следующей весне их распашут под угодья новой помещицы.
Деликатно покачивая бедрами, Геля, наконец, взобралась на трибуну и встала слева от владыки. Теперь все, кто подходил под благословение и целовал десницу владыки Валерия, были вынуждены целовать руку и Плотниковой.
Гладкий, как боровок, Шпалера отчего-то ежился и чувствовал себя крайне неуютно в своем строгом костюме. Новый костюм повсеместно жал, а любимый, молочно-белый, от Гуччи, удобно разношенный и обмятый, он больше не наденет никогда. Вчера, на встрече с горожанами, он вновь уговаривал обиженных сосенчан «жить дружно». В ответ его забросали целлофановыми пакетами с дрянью. Шпалера торопливо, насколько позволяла выдающаяся комплекция, прошмыгнул на трибуну и встал одесную от владыки. Вскоре все почетные гости выстроились по ранжиру.
Из шести динамиков грянул хор «Славься!».
Едва стихла запись, до трибун долетели треньканье балалайки, визг гармони и резкий петушиный тенорок.
С вершины голубой пирамиды хорошо просматривалась пойма Забыти, часть Царева луга и дорога, ведущая к монастырю. Там толпился народ, которому не хватило места на площади, и резвились невесть откуда взявшиеся скоморохи. Рыжий мужичонка в пестрой рубахе наяривал на балалайке. Бурый, лоснящийся медведь играл на гармони, кувыркался и потешал народ. Жемчужной россыпью взлетали и кружили над Царевым лугом белые голуби. Люди тесно окружили скомороха.
– Ой, вы, други, гости званые! Сапожки на вас сафьянные! Становой кафтан – индийская парча. Речь орлиная смела и горяча! – выводил скоморох, и голос его был удивительно четко слышен на площади. – Все вы бровью в соликамского бобра , русской совестью светлее серебра! Изреките ж песнослову-мужику, где дорога к скоморошью теремку? Где тропинка во церковный зелен сад, где под сосенкой зарыт волшебный клад – Ключ от песни всеславянской и родной , что томит меня дремучею тоской?
– Что он там несет? – нахмурился владыка. – Вы что, заказывали самодеятельность?
– Никак нет! – по военному четко отчитался Шпалера. – Это форменное безобразие под маской самодеятельности.
– Ой вы, други – ясны соколы! Счастье есть, да бродит около, – пел скоморох, в пояс кланяясь «народным дружинникам». Они уже две ночи подряд усмиряли неистовые страсти на месте сгоревшего рынка.
– Сердце, сердце, русской удали жилье! На тебя ли ворог точит лезвие? Цепь кандальную на кречета кует , чтоб не пело ты, как воды в ледоход. Не вздыхало бы от жаркой глубины: «Где вы, вещие Бояновы сыны ? » И люди вторили песне, плескали в ладони, просили спеть еще и бросали под ноги певцу денежные купюры.
– А ну-ка покажи, Миша, – обратился вожак к медведю, – как Шпалера взятки берет.
Медведь одной лапой прикрыл глаза, а другую протянул к толпе ладошкой вверх.
– А теперь покажи, как от народа правду прячут.
Медведь передними лапами схватил себя сзади за гачи и с размаху сел в горячую пыль, словно пряча что-то под седалищем.
Чуя спиной все это безобразие, владыка намекнул Шпалере, что скоморохов нужно срочно убрать. Часть «приданных сил» устремилась на Царев луг и взяла в кольцо скомороха. Но народ столь плотно окружил «медвежью потеху», что разомлевшие на солнце «архангелы» решили ждать конца представления.
Квит примостился в стороне от своей тайной пассии. Чтобы скоротать скучное время официальной части, он разговаривал с пожилым вежливым немцем. Рядом с немцем позировала фигуристая девица в парчовом сарафане и жемчужном кокошнике. Под пропотевшей подмышкой был зажат томик русских сказок. Квит едва узнал деваху, что дежурила неделю назад в ночном баре.
– Посмотрите на этот «Престольный праздник», это чисто русская смесь греха и святости, – ухмылялся Квит. – Опять попутали Божий дар с яичницей! Уездная Татария...
– Да, русские – народ крайностей, и в этом их спасение. Раскачиваясь на своих «русских качелях», они смогут извлечь силу из слабости и свет из тьмы. Русские умеют верить, но этого мало, чтобы спасти Россию! Я хорошо знаю ваш народ.
– А кто вы? – мельком поинтересовался Квит.
– Я коллекционер живописи и по совместительству ее знаток. О, русская школа – это сплав совести и мысли! – серьезно и с глубоким чувством говорил немец. – Помните полотно Перова «Крестный ход в Курской губернии»? Ну как же, оно есть в вашей «Третьяковке»!
Квит ни черта не помнил, но важно кивнул.
– На картине – церковное шествие с чудотворной иконой. Когда-то эта икона спасла жизнь маленькому мальчику, будущему Серафиму Саровскому. Перов жесток, как хирург, точнее как патологоанатом. Представьте себе: сжимая костыли и палки, вдоль дороги ползут безногие калеки, бредут нищие. Крепкие бородатые мужики тащат ковчег с иконой. А вдоль дороги – лысые пни: целый лес, снесенный топором, может быть еще вчера. Так «в чем вера ваша?». Зачем все это показное благолепие, если те же самые люди уродуют свою землю, продают и сводят под корень рощи и леса?
– Да-да, – рассеянно кивнул Квит.
По соборной площади, мелькая загорелыми коленками, старательно маршировали девушки-гусары с лохматыми бунчуками в руках, и Квит засмотрелся на мелькание белоснежного плиссе.
В жарком небе над площадью реяли стратостаты со слегка искаженной фотографией Плотниковой и хвостатые «змеи» с ее размашистой подписью. На краю площади, привязанные канатами, ожидали парада великолепные воздушные шары.
Детские и народные хоры, поделив между собой Царев луг, нежно и трогательно выводили песни о Родине. С дымом и шипеньем сыпался на Царев луг преждевременный салют, а навстречу ему с земли поднимался дымок полевых кухонь. За поймой Забыти собиралась гроза, тучи багровели и наливались гневом. Там погромыхивало и покряхтывало грозно, но пока вежливо, словно кулачный боец разминал мускулы перед схваткой. Вся эта картина со стороны напоминала расстановку сил перед боем.
Глотнув родниковой воды, Шпалера взялся за микрофон, дабы прочесть заготовленную речь о терпении и гражданском согласии, мягко обращенную к бунтующим горожанам, но так и не успел произнести ни слова. Перед звонким перестуком копыт дрогнул кордон внутренних войск из крутых бойцов, сваренных зноем. На соборную площадь вылетел белый орловский рысак. С запавших боков хлопьями валила пена. На коне в полном облачении восседал Стенька Разин, предводитель ночного бунта против засилья нехристей-иноземцев. За ним на площадь вылилась ватага революционной голытьбы, бомжей и безработных жителей Сосенец, тех самых, что колобродили по лесам в компании атамана, партизанили в окрестностях и наводили ужас на гостей города. Рубанув палашом по капроновым шнурам, на которых зыбились стратостаты, украшенные образом благотворительницы, он отпустил в небо ее наскучившие земле изображения.
– Прощай, моя ясная кралечка! Оторвись личиком белым от грешной земли да посмотри, моя голубушка, в небо ясное. Да и я довольно покуролесил, православные...
Разин соскочил с коня и на четыре стороны земно поклонился толпе. «Крепыши» из внутренних войск опешили, полагая, что это часть запланированного представления. В мобильной радиосвязи из-за близкой грозы случились существенные помехи, и силовики явно не успевали согласовать свои действия. Под ликующие крики дюжие мужики взялись качать атамана, явно намереваясь отправить его вслед за улетевшими стратостатами:
– Разина в мэры! Сарынь – на кичку! Шпалеру – на галеру! ОМОН – в Вашингтон! – вопила голытьба, не замечая, что к народному любимцу уже прокладывает дорогу очухавшийся ОМОН.
– Пособите, братцы! – крикнул Разин, вцепившись в корзину воздушного шара.
Его подсадили. Взмахнув палашом, Разин рубанул по корабельным канатам. Шар плавно взмыл вверх. Стрелять в дорогостоящий спортивный снаряд милиционеры не решились. Гуляка-ветер азартно поймал подброшенный в небо цветастый мячик и поволок подальше от наступающего грозового фронта, и пока дозволяло зрение, люди видели, как в мрачном поднебесье среди кучевых облаков прощально махал шапкой улетающий Разин. Далеко внизу посреди широкого зеленого луга кружились, разворачивались и вновь свивались в тугую спираль пестрые хороводы. Они расходились, ширились, захватывали все новых людей. Уже и милиционеры кружили в едином вихре, и, подхваченные буйным танцем, побросали свой товар лотошники. Бешеный хоровод вели скоморохи: жуткий танец, похожий на выплескивающийся бунт.
Чтобы не видеть всего этого безобразия, владыка отправился в собор, несколько опережая регламент. В соборе ему предстояло вскрыть «Завещание Досифея» и прочесть его народу.
Отец Нектарий уже отслужил молебен. Серебряный ковчег, украшенный самоцветами и снабженный множеством монастырских печатей, вынесли из алтаря под пение торжественных стихир. Владыка неспешно срезал красные монастырские печати и открыл крышку дарохранительницы.
Нектарий зажмурился. Из-под его темных век, в уголки скорбно сжатых губ затекали слезы, они струились по бороде и золотой цепи с распятием. Хор замолк. В напряженной тишине раздался опечаленный голос владыки Валерия.
– Братия и сестры, – он держал в руках пустой ларец. – За долгие годы завещание истлело и стало прахом, но верующее сердце всегда узрит истину...
Сусальные словеса полились в толпу, оставляя пустоту и медный привкус обмана.
Скрип древнего засова произвел бесшумное волнение в рядах клира. По собранию верующих, набирая силы, прокатилась молва, зашелестели голоса, возгласы удивления и радости.
Глава 38
Русская сказка
Купили в магазине резиновую Зину,
Резиновую Зину в корзине принесли.
Упала из корзины резиновая Зина,
Упала из корзины – испачкалась в грязи.Детский стишок
Даже легкая служба за монитором или пультом охраны бывает тяжела во дни всенародных торжеств и праздников, когда веселье перехлестывает аж за стены узилищ. Но малая толика радости успевает просочиться и в пересохшие уста стражников.
В свой шестисотый день рождения городок покачивался на волнах веселья и любви, как маленький расцвеченный огнями кораблик. Городской изолятор временного содержания, иначе «предвариловка», оставался чем-то вроде темного трюма, где в стороне от шалого веселья томились узники и сатанели от скуки и жары охранники.
Не дожидаясь темноты, у дверей КПЗ объявилась Зина с большой тяжелой корзиной, наполненной вкусной снедью. На самом ее днище, под банками с баварским и штабелями душистой нарезки, лежала импортная сумка. В ней прятались короткая саперная лопатка, плоская фляга с водой, моток веревок и фонари с запасом батареек.
Зину хорошо знал весь неорганизованный мужской элемент городка, и милиционеры не были исключением. Свистом и призывным ржанием охранники из числа суточного наряда принялись зазывать «Резиновую Зину» в каптерку. Если верить слухам, престарелый немецкий бизнесмен выкупил ее у чеченцев за крупные бабки, на которые можно было бы скупить на корню добрую половину городка. Поговаривали, что немец крепко втюрился в русскую красавицу. В первый же день их знакомства он вызвал из столицы дорогого доктора, и тот крепко-накрепко купировал ее алкогольную привязанность. После благодетель привел в порядок ее гардероб. От покоя и сытости Зина быстро посветлела лицом и налилась телом.
Кому рассказать, смех один, за все дни и ночи немчура и пальцем не тронул Зину, но каждый вечер перед сном она читала ему русские сказки из большой книги с картинками. В полосатом колпачке и бумазейной пижамке Курт походил на толстощекого седенького гнома. Он мирно засыпал уже на тридцатой странице под сказ о безотрадной судьбе Царевны-лягушки и беспримерной наглости Кощеевой.
В честь прибытия Зины в дежурке наскоро накрыли банкетный стол. Новое вполне целомудренное житие столь украсило ее, что при одном взгляде на Зину у охранников поднимался гемоглобин, но на вежливые заигрывания Зина не реагировала, всякий раз предлагая выпить «за любовь».
Часам к одиннадцати охранники изолятора сладко посапывали там, где их настиг Морфей. Действия снотворного, подмешанного в лучшее баварское пиво, должно было хватить на четверть суток крепкого и здорового сна.
В половине двенадцатого в камере номер восемь загремел замок. Дверь распахнулась, и на пороге возник выразительный женский силуэт.
– Зина? – Севергин вскочил с койки.
– Иди... – прошептала Зина. – Выход свободен. В дежурке – саперная лопатка, фонарики, фляга с водой...
Будимир, ничего не понимая, глазел на яркое видение.
– Подожди, Егор, выслушай, – задыхаясь от волнения, Зина поймала руку Егора и покаянно потянулась губами.
