Страница:
– Какое же?
– «Гора нерукосечная»... Это очень редкий извод, он не входит в богородичный канон. Образ Богоматери был написан в виде высокой горы, в Ее руках – красная лестница и золотая книга. Все изображение вписано в звезду о восьми углах, как Купина Неопалимая. В правый угол доски был врезан серебряный ковчежец-мощевик в виде крупной звезды. Я вскрыл его и нашел вощеный листок. На нем – план подземелий Свято-Покровского монастыря. Я тогда ничего не знал о монастыре в Сосенцах.
– Где карта?
– Пропала. Но у художников особая зрительная память. Я запомнил почти все. Потому и попросился в Сосенскую обитель. Вроде как знак получил.
– Сейчас ты нарисуешь карту, как помнишь, и место укажешь, где девица схоронена. А я благословлю твой скорейший постриг, довольно ты в рясофорах отходил.
– Спаси Бог! – Послушник вновь встал на колени. – Только недостоин я... Душа болит...
– Не тебе решать, кто достоин, а кто нет.
В комнате прозвенел удар. Тит уронил серебряное блюдо с сахарницей и, низко поклонившись, принялся горстями собирать сахар обратно в жестяную коробку. Эта коробка имела особый секрет «от мышей» и запиралась на миниатюрную щеколду.
Глядя на веснушчатые руки келейника с короткими обгрызанными ногтями, владыка внезапно понял, как скорее и надежнее изолировать будущего монаха. В создавшихся обстоятельствах рискованно переводить его в другой монастырь. Нелегко будет подобрать ему место и в отдаленном скиту, но можно на время перевести его в «печору» и получить время для передышки.
– Готов ли ты принять на себя подвиг? – спросил он у Иоиля. – Я говорю о тяжести затвора? Это древний подвиг отцов-пустынников. Я знаю, ты был живописцем, – поднажал владыка Валерий. – А значит, служил соблазну. Сказано святыми отцами, если из окна твоей кельи открывается чудесный вид, прекраснейшая перспектива, то загороди его иконой. Во тьме подземелья ослепнут твои очи, зато откроются иные – духовные. Зерно помещают в глубину и мрак, чтобы оно воскресло, дабы среди тьмы, холода и тлена родился ослепительный свет новой жизни. «Аще зерно падши в землю не умрет, то будет одно, а если умрет, то принесет много плода...» Ты будешь этим зерном!
Иоиль молчал, не решаясь возражать владыке.
– Ты все понял? – со строгой печалью в голосе спросил владыка Валерий у Тита, едва Иоиль вышел из горницы. Тит кивнул мрачно и значительно.
Владыка и келейник и вправду понимали друг друга без слов, и Тит был рад опережать мысли и желания владыки.
Двадцать лет назад к отцу Валерию, тогда еще настоятелю маленького прихода, привели юного уродца, брошенного цыганами. Паренек не принадлежал к «фараонову» племени и, по всей видимости, был куплен табором для сбора милостыни. Но цыгане ошиблись. Наружность маленького Квазимодо не располагала к жалости и чаще вызывала страх и отвращение. Сборщик не мог прокормить даже себя самого, и цыганская труппа поспешила расстаться с неудачным приобретением. «Смирись, сын мой, – с легким содроганием оглядев отрока, сказал ему отец Валерий. – У твоего уродства есть одно неоспоримое достоинство перед красотой. Оно – вечно... Будь благодарен ему. Это страдание сохранит тебя от еще больших страданий».
Говоря о больших страданиях, владыка имел в виду мирские искушения. Но искушения, тем не менее, соблазняли самого Тита, однако он был настолько скрытен, что не открывал душу свою даже на исповеди и среди спесивого окружения владыки слыл убогим. На самом деле трудно было найти натуру более сметливую, страстную и жадную до ощущений, чем Тит, но он умел довольствоваться малым. Он терпеливо и смиренно чистил обувь и сдувал пылинки с облачения благодетеля, ожидая своего заветного часа. Но его мечта была известна только его Ангелу-хранителю, хотя сам Тит чаще общался со смердящим демоном обжорства и чесоточным бесом тайного блуда.
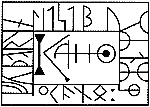
Глава 17
Очутившись дома, Егор встал под ледяной душ и впервые с испугом ощутил, что снова хочет увидеть Флору , словно ее черный локон успел обвиться вокруг его запястья и тянул к себе, как ведьмин науз. Уже за полночь он позвонил Квиту. Тот оказался бодр и даже игрив, как всякий ночной хищник.
– Ну что тебе сказать, «скубент»? Пока ты там по Москве шарился, мы обшарили соляные копи, видели твои отметки на стенах, но ничего так и не нашли. Может, ты газа наглотался, в старых выработках чего не бывает? Ну да ладно, не кисни, дуй сюда. Твои лесные отшельники явно что-то знают. Еще день, и мы расколем этих «любимцев богов».
– Вызвал столичных костоломов?
– Ни-ни. Сейчас с этим строго, но на детекторе успел проверить всех.
– И что же?
– Будимир явно имеет отношение к пропаже девушки, но молчит, как партизан, а на твоем участке и того хлыще дела творятся.
На следующий день сразу после сабантуя по поводу последнего экзамена Севергин рванул в Сосенцы.
– Да, крестничек, «тихий» тебе участок попался! Что ни ночь, то новое приключение. Ну да ничего, так даже лучше, чтобы служба медом не казалась. Приказ о твоем назначении уже прошел, так что принимай дела!
Полковник Панин, возглавлявший почти боевое подразделение, наружность имел самую мирную. Плотный, кругленький, он был похож на румяный, только что испеченный каравай, и был так же мягок и упруго отходчив.
– Что стряслось-то, Степан Никодимыч? Опять сельмаг грабанули?
– Если бы... Читай! – Панин протянул Егору исписанное мелким почерком заявление.
Оно было написано со слов Прасковьи Тряпкиной, заслуженной колхозной пенсионерки.
«...А вчерась на огородах опеть его встречаю.
– Цить, – говорит, – бабка. Узнала меня? Я – Степан Разин. – И саблю показыват. – Никого не бойся, ноне я твой защитник. Оставляй мне вечор на этом самом месте пестерь пирогов и жбан самогона и можешь спать спокойно...»
– Ну, как тебе это явление исторического призрака? – осторожно поинтересовался Панин. – Бродит по округе, саблей машет, грозится поднять народ...
– ...Пересмотреть итоги приватизации или с «гостями» разобраться? – невесело пошутил Севергин. – Что и говорить, настоящему-то Стеньке было бы интересно погулять по нынешней Руси, а не старух по ночам мутить. Ладно, крестный, займусь я этим призраком.
– Заявление от съемочной группы читал?
– Да, ознакомился.
– Что думаешь? Где девка?
– Будем искать. Следаки из Москвы еще не отбыли?
– Здесь пока. Не делают ни хрена, только командировочные пропивают.
Простившись с крестным, Севергин отправился домой. Чтобы загрузить мысли работой, он по пути завернул в киногруппу и остолбенел. По тропинке навстречу к нему шла Флора. Длинная вышитая льняная рубаха сквозила на солнце, венок из лилий прижимал пышные волосы цвета воронова крыла.
– Это вы! Как хорошо! – Она ласково оглядела его. – Вот, приехала поговорить с режиссером, а тут радостная новость – Лада нашлась!
– Не может быть! – пробормотал Севергин.
Доверчиво улыбаясь, Флора протянула ему свой мобильник с «письмом»: «Я в порядке выручи сестренка».
– Я звонила в театр, ее труппа на гастролях. Может быть, ее срочно вызвали на замену? С Ладой никогда ничего не знаешь заранее.
– А что значит «выручи»? Заплати неустойку?
– Нет, Версинецкий предложил мне доиграть ее роль. Героиня становится чуть более возрастной. Мы с Ладой очень похожи, только я – ночь, а она – день, вернее розовое утро.
– А вы уверены, что это пишет Лада?
– А кто же еще? Кстати, сегодня ночь на Ивана Купалу, будет съемка языческих игрищ.
– Что за игрища?
– А вдруг именно вам повезет найти Перунов цвет! Кто успеет сорвать его, будет богат.
– Да я и так не беден. Что-то рановато вы Купалу празднуете, до седьмого июня еще десять дней.
– Языческие праздники всегда в полнолуние. Так ровно в полночь! – крикнула вдогонку Флора.
Проезжая по селу, Егор остановился на месте обычного сельского схода, у магазина. Рядом на автобусной остановке ожидали транспорта местные жители. На завалинке «колоколили» нарядные старухи в белых праздничных платочках. Севергин вышел из машины, поздоровался и присел рядом, прислушиваясь к разговору. Председательствовала внезапно ставшая знаменитой бабка Пераскея, по паспорту Прасковья Тяпкина:
– Бают, клад у него в Утесе зарыт, вот он и ходит кругом. А как Царев луг разрыли, так и вовсе ему покоя не стало, кажну ночь ходит и вздыхат, а кровища-то с сабли так и капат, и капат...
А этой ночь снова во двор вызыват:
«Схороню, – говорит, – бабка, в твоем погребе наговорный кистень . Огнем будут тебя жечь, лютой пыткой мытарить, никому не открывай место, где спрятано. В этом наговорном кистене – сила могучая и силе той нет конца! За тем кистенем я к тебе опосля нагряну. Ужотко погуляет он по Руси!»
А уж собой хорош, чисто сокол.
«Была б ты помоложе, бабка, умыкнул бы я тебя, а так – спи, отдыхай, я на карауле буду». Так и сказал.
– Словят твоего сокола, бабушка, беспременно словят, – подал голос Севергин.
– Дак я же не затем рассказываю, чтобы его словили.
– Значит, по простоте душевной милицию работой грузишь?
– Я затем говорю, чтобы готовились. Скоро он войско соберет и как встарь пойдет Москву воевать! Вона в городе как шумят, бьются насмерть!
Бабка говорила правду. Уже с неделю в городе было неспокойно. В ночь на воскресенье сгорел местный рынок. Кавказцы передвигались по городку только в колонне. Почти все магазины были наглухо закрыты, и лишь тогда горожане вполне осознали масштабы бедствия. Вся торговля в городке, вплоть до последней лавчонки или распивочной точки, оказалась в руках у приезжих. Голодные и трезвые жители быстро крепли умом и жаждали действий. Тем временем ушлые китайцы заперлись в бараке и не желали выходить на работу. По ночам вокруг общежития кружил страшный призрак. Китайцы опознали в нем Хан-Чан-Чуна, Бога войны. Озаренный луной Бог войны грозно сверкал очами и грозил китайцам саблей. Теперь рабочие требовали доставить их на родину, увеличив ввиду стремительной инфляции дорожные расходы, а также оплатить всей «пятой колонне» моральный ущерб. В случае невыполнения их условий, «ходи» угрожали засорить барачными нечистотами кристально-чистую, ни в чем не повинную Забыть.
В жарком мареве плавился и дрожал деревянный резной конек на крыше усадьбы, но в мыслях Севергин все еще был у Забыти. Выпитый до дна внезапной встречей с Флорой, он шагнул под родимые сосны. Белка с сердитым цоканьем отпрыгнула от его протянутой руки. Глухо заворчал Анчар, исподлобья глядя строгими янтарными глазами, и почему-то не прыгнул навстречу, не закрутился вихрем на месте, а остался лежать, положив на лапы тяжелую умную голову.
– Что с тобой, Егорушка? – В дверях стояла запыхавшаяся Алена.
Вглядевшись в лицо мужа, она отшатнулась и руками прикрыла живот.
– Все нормально, – пряча глаза, пробормотал Егор. – Может, у меня рога выросли?
Он схватил со стола кружку с молоком, жадно хлебнул.
Молоко прогоркло, как будто стояло здесь уже неделю.
Сердцем чуя неладное, Алена робко обняла мужа и прижалась прохладной щекой, но этот шелковистый холод отозвался в нем острой внутренней судорогой.
– Прости, я очень устал... Лягу, посплю...
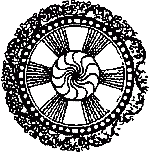
Глава 18
Близилась полночь, а в покоях настоятеля все не гасла старинная зеленая лампа. У остывшего самовара в задумчивости сидел владыка Валерий. Смертельно бледный отец Нектарий притулился напротив. Мертвенный свет абажура заметно искажал лица, огрубляя черты, как посмертная маска из жидкого мела.
Кромешные тревоги последних дней отдались бессонницей. Отец Нектарий ослабел и по-стариковски сдал. Его единственное богатство: покой, что дарует человеку чистая совесть, стало добычей воров: неправедных и суетных мыслей. Резко постарел и владыка Валерий; тугие плечи опали, по бороде разлилось раннее серебро.
– ...Я отвел угрозу от монастыря, – продолжал тяжелый разговор владыка Валерий. – Хорошо, что сразу шума не подняли, и монах сообразительный оказался, тело спрятать успел. Но откуда в твоем монастыре девка взялась, да еще в колодце и голая? Молчишь? И я не знаю. Такое дело в канун торжеств – это неспроста, это подкоп сам знаешь под кого. Ну, да ладно, надо как-то с этим покончить. Припомни-ка все...
– В ночь на двадцать второе июня я служил молебен о павших воинах. На колокольне до утра звонили... – Настоятель слабо вскрикнул и прикрыл воспаленные глаза ладонью. – Я знаю... Знаю, как девушка попала в колодец... «Пятый Ангел вострубил, и увидел я звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя... И помрачилось солнце...» – шептал отец Нектарий. – Звезда, падшая с неба на землю, это погибшая девушка. Восьмиконечный знак на стене начертан ее рукой перед гибелью. Она тонкая и гибкая, поэтому и прошла сквозь прутья решетки. Она ничего не знала о ловушке, и ее затянуло в колодец водоворотом, когда она искала пути к Тайная Тайн: ключ от кладезя бездны . В монастыре всю ночь бил колокол, поэтому тело всплыло почти сразу.
– Благословите, ваше Преосвященство, вызвать милицию? – немного успокоившись, попросил Нектарий. – Ведь никто из наших не виноват в происшествии.
– Не благословляю. Мы не имеем права бросать и малой тени на монастырь. Обитель и так в осаде прессы. Милиция, допросы... Писаки, как псы, вцепятся. А нам наше дело завалить нельзя...
Нектарий молчал. Перед его внутренним взором рушились и сдвигались горы и источники вод пенились кровью.
– ...За порядком в монастыре следишь не строго, – вернул его к действительности голос владыки Валерия.
Он выговаривал настоятелю по-отечески мягко, как-никак, теперь они были соучастники, и это сближало их.
– Сколько у тебя доверенных людей из братии?
– Двенадцать, – едва слышно ответил отец Нектарий.
– Мало... А бездельничают твои монахи много. Вчера иду по галерее, слышу – гогот! Послушники и трудники сбились в табун и анекдоты травят: между прочим, про церковное начальство!
– Не может быть.
– Может, еще как может.
– Что-нибудь непристойное?
– Гораздо хуже, вот, послушай: «Один строгой жизни монах почил в Бозе и вскоре прибыл в рай, где шли пышные приготовления. Все было в радостном ожидании, и монах невольно смутился.
– Спаси Бог, святой Петр, но я не достоин такого приема, – робко признается монах святому Петру.
– По правде говоря, – отвечал святой Петр, – этот прием не для тебя. Мы готовимся встретить одного епископа.
– Понимаю, – грустно ответил монах, – это вопрос иерархии...
– Это вопрос редкости! Оглянись, монахов здесь – тысячи, а вот епископы к нам попадают чрезвычайно редко...»
Меня увидели, онемели, потупились, ждут, что будет. А все твой Богованя монахов баламутит. Как-то спрашиваю у него, как найти келаря, а он отвечает:
– Отец Порфирий сейчас на скотне. Вы его легко узнаете по скуфейке.
– Так вы, должно быть, наказали весельчаков? – немного оживился настоятель.
– Плохо ты меня знаешь, отец Нектарий. На притчу о достойном иноке я ответил притчей о дурном: «Жил в монастыре монах, который справедливо считался позором для всей братии. Он был ленив, болтлив, к тому же закоренелый пьяница, и когда он в свой строк отошел ко Господу, монастырская братия невольно вздохнула с облегчением. Прошло некоторое время, и вот отцу игумену снится сон, где этот известный грешник блаженствует в раю с праведниками.
– Ты здесь? А мы-то считали тебя самим пропащим! – изумился игумен.
– Конечно, житие мое не было примером, – со вздохом признал монах. – Но за всю свою жизнь я ни разу никого не осудил...»
Прежде, чем осудить кого-либо, примерь сначала его башмаки, – говорили святые отцы наши, и были правы!
– Монаху надо терпения воз, а игумену – целый обоз, – устало согласился Нектарий.
– Не только терпения, Нектарий, но и соображения...
Но отец Нектарий больше не слышал наставлений владыки. То, что происходило в эту минуту в его душе, можно было сравнить с космической катастрофой. На одной чаше весов корчилась его растоптанная, окровавленная совесть, а на другой поместился величавый, но призрачный храм. Свет, дотоле озарявший его чистый и праведный мир, померк.
Глава 19
Севергин проснулся от внезапного толчка изнутри. В жарких потемках зудели комары. Стрелки на старинных ходиках показывали полночь. Он всегда стерег этот короткий миг опасного безвременья, когда открываются зеркальные коридоры и сутки смыкаются в круг вечности. В этот час народное поверье запрещает покидать дом, чтобы не вверить душу черной силе.
Алена спала, жарко разметавшись, беспокойно вздрагивая во сне – намаялась за долгий жаркий день... Он осторожно переложил ее влажную руку со своей груди на подушку. Если бы она проснулась и окликнула его, может статься, все сложилось иначе...
Он жадно напился, постукивая зубами о ковшик, проливая на грудь ледяную воду. Его летняя форма, чистая и выглаженная, висела в закутке за пестрой занавеской. Он решительно надел форму, нацепил кобуру, словно эти атрибуты были частью купальского карнавала.
Голубая мгла окутывала дорогу к Забыти. В луговинах парным молоком растекался туман. Истомно стонал коростель, и яростным гвалтом вторили ему лягушки. Через Забыть пролегла широкая лунная дорожка, как хрустальный мост от дальнего темного берега к пойменной луговине, где золотым ожерельем полыхали костры. Егор протер глаза: в кругу голытьбы пировал Стенька Разин.
– Эх, пито-гуляно вволю! А пропито и того боле... Простой я казак, голова забубенная, только дороже воли да шашки для меня ничего нету! Поведу я вас, мои любезные станичники, на стольный град Москву, бояр да кабашников громить.
– Здравия желаю! – Окликнул Севергин честное собрание, но ватага хмуро оглянулась на милиционера, натянула на головы лохматые шапки и обернулась сухими пнями, а сам атаман – оборотился корявым выворотнем в папахе серебристого мха.
Волыжин лес играл зеленоватыми «блудными свечками». На берегу кружили в хороводе задумчивые девушки в белых рубахах.
Увидев Егора, девушки замкнули его в круг:
Поднырнув под их сомкнутые ладони, в хоровод вошла Флора. Она словно летела к Егору поверх травы. На ее запястьях звенели браслеты из цветов, белая рубаха была подпоясана травами. На голове колыхался венок из ромашек и дягиля.
– Здравствуй, мой Яхонт-Князь! – С тонкой усмешкой Флора поклонилась Севергину. – Я выбираю тебя своим суженым-ряженым. Нарекаю тебя Иванкой, братом моим разлюбезным.
В круг ворвался лохматый мужичок-шишига в вывернутом бараньем тулупе: сам с ноготок, борода с локоток. На волосяной опояске у него болтался сильно преувеличенный атрибут кукерского действа, вырезанный из дерева, и только тут Егор узнал Кощунника, неугомонного Кукера.
В стороне от шальных плясок Будимир, он же Ярило-Припекало, добывал живой огонь кресеньем двух кусков дерева. Две жены-чаровницы деликатно воодушевляли его на это действо.
– Ой, Ярило-Припекало, поддай жару! – подбадривал Верховного волхва Кукер, потрясая своим деревянным жезлом. – В городе Калязине нас девчата сглазили! Если бы не сглазили, мы бы с них не слазили...
– Ведьма, ведьма! Лови ее! – засвистели и заулюлюкали в зарослях орешника. Хоровод разбился, смешался, и через поляну пробежало страшилище с соломенным чучелом «ведьмы» на шесте. Как по команде, «русалки» взялись метать цветы и травы на раскаленные камни. Душистый пар окутал поляну. Следом в костер полетели сорочки, и обнаженные наяды закружились вокруг костра. Их огненные, окрашенные бликами тела перелетали через огонь, потеряв всякую земную тяжесть.
Егор видел Флору сквозь высокое пламя, ее разметавшиеся волосы стлались по ветру. Он все еще пытался выскользнуть из круга, чтобы немного опамятовать в стороне от дикого ночного веселья, но свадебный пир воды и огня не выпускал его.
Наконец он вырвался и, пьяный от пляски, побрел прочь. На его пути вился «Ручеек». В этой древней языческой игре складывались пары на эту ночь. Разгоряченные плясками Иваны-да-Марьи погружались в теплую парную воду. Игры и хороводы продолжались в заводи и на песчаных отмелях.
В стороне от купальских игрищ Егор встретил Версинецкого. В пышной набедренной повязке из травы, он был похож на выброшенного волной водяного.
– Вы здесь?! – почти обрадовался Севергин. – Так это что, съемки?
– Камера! Мотор-р-р!!! – простонал Версинецкий. – Я мечтал снять такое, но это не фильм, это подлинная мистерия! Стихия! Я пьян без вина! Такое действо невозможно поставить! Это тотальный бешеный танец, так плясали в этих краях тысячелетия назад! Это все она – Флора! Без нее все было пресно, «как всегда». Кажется, она и вправду ведьма! Смотрите, что делается!
Егор беспомощно огляделся вокруг, не веря глазам. До этой минуты все еще надеялся, что попал на съемки. Между двух костров – восьмеркой, кружил хоровод «русалок». За мельканием невесомых тел Севергин вновь увидел Флору: в ее ладонях разноцветными струями дымилась чаша. Он рванулся к ней, но разгоряченные, хохочущие сирены не пускали его. Флора птичьим свистом разогнала русалок и поднесла ему чашу.
– Братик мой Иванушка, не пей из копытца, – прошептала Флора и, понизив голос, грозно нахмурив брови, пропела:
– Ивашка Белая рубашка, люби нас! – глумились лесные девы, и он понял, что сделал что-то не так, и уже ничего нельзя исправить.
Поляна окуталась разноцветным душистым паром. Сквозь густую пелену едва просвечивал костер, и в этом теплом парном тумане кружили причудливые создания, дивные женщины с распущенными волосами, лохматые шишиги, лешие и кикиморы. Из травы, из мха, из-под коры деревьев, из-под коряг смотрели странные существа. Они вышли на свет ночных огней, и самые смелые уже плясали в хороводе и катались через поляну кувырком. Волки и медведи, женщины с лисьими хвостами и мужчины с оленьими рогами пластично, как в пантомиме, вели свои «звериные» танцы. Мохнатый старичок с лозой в руках прогнал сквозь огненные ворота долгогривых коней и белых коз с венками на рогах.
Неслышно подкравшись сзади, кто-то закрыл глаза Егора теплыми ладонями: «Угадай!»
– Флора!
Из сумрака выступила она, вся как светлая ночь: опасная, зовущая. Белая сорочка была опущена с ее плеч.
– Папоротник... Пойдем искать папоротник. – Папоротник-солноповорот, вокруг костра хоровод... – шептала Флора и влекла его в лесной сумрак. – В эту ночь муравьи сбивают муравьиное масло, оно дарует мужскую силу... Чтобы вяз червленый не гнулся, не ломился против женской плоти, против полого места ... – вкрадчиво наговаривала она лукавый заговор.
– «Гора нерукосечная»... Это очень редкий извод, он не входит в богородичный канон. Образ Богоматери был написан в виде высокой горы, в Ее руках – красная лестница и золотая книга. Все изображение вписано в звезду о восьми углах, как Купина Неопалимая. В правый угол доски был врезан серебряный ковчежец-мощевик в виде крупной звезды. Я вскрыл его и нашел вощеный листок. На нем – план подземелий Свято-Покровского монастыря. Я тогда ничего не знал о монастыре в Сосенцах.
– Где карта?
– Пропала. Но у художников особая зрительная память. Я запомнил почти все. Потому и попросился в Сосенскую обитель. Вроде как знак получил.
– Сейчас ты нарисуешь карту, как помнишь, и место укажешь, где девица схоронена. А я благословлю твой скорейший постриг, довольно ты в рясофорах отходил.
– Спаси Бог! – Послушник вновь встал на колени. – Только недостоин я... Душа болит...
– Не тебе решать, кто достоин, а кто нет.
В комнате прозвенел удар. Тит уронил серебряное блюдо с сахарницей и, низко поклонившись, принялся горстями собирать сахар обратно в жестяную коробку. Эта коробка имела особый секрет «от мышей» и запиралась на миниатюрную щеколду.
Глядя на веснушчатые руки келейника с короткими обгрызанными ногтями, владыка внезапно понял, как скорее и надежнее изолировать будущего монаха. В создавшихся обстоятельствах рискованно переводить его в другой монастырь. Нелегко будет подобрать ему место и в отдаленном скиту, но можно на время перевести его в «печору» и получить время для передышки.
– Готов ли ты принять на себя подвиг? – спросил он у Иоиля. – Я говорю о тяжести затвора? Это древний подвиг отцов-пустынников. Я знаю, ты был живописцем, – поднажал владыка Валерий. – А значит, служил соблазну. Сказано святыми отцами, если из окна твоей кельи открывается чудесный вид, прекраснейшая перспектива, то загороди его иконой. Во тьме подземелья ослепнут твои очи, зато откроются иные – духовные. Зерно помещают в глубину и мрак, чтобы оно воскресло, дабы среди тьмы, холода и тлена родился ослепительный свет новой жизни. «Аще зерно падши в землю не умрет, то будет одно, а если умрет, то принесет много плода...» Ты будешь этим зерном!
Иоиль молчал, не решаясь возражать владыке.
– Ты все понял? – со строгой печалью в голосе спросил владыка Валерий у Тита, едва Иоиль вышел из горницы. Тит кивнул мрачно и значительно.
Владыка и келейник и вправду понимали друг друга без слов, и Тит был рад опережать мысли и желания владыки.
Двадцать лет назад к отцу Валерию, тогда еще настоятелю маленького прихода, привели юного уродца, брошенного цыганами. Паренек не принадлежал к «фараонову» племени и, по всей видимости, был куплен табором для сбора милостыни. Но цыгане ошиблись. Наружность маленького Квазимодо не располагала к жалости и чаще вызывала страх и отвращение. Сборщик не мог прокормить даже себя самого, и цыганская труппа поспешила расстаться с неудачным приобретением. «Смирись, сын мой, – с легким содроганием оглядев отрока, сказал ему отец Валерий. – У твоего уродства есть одно неоспоримое достоинство перед красотой. Оно – вечно... Будь благодарен ему. Это страдание сохранит тебя от еще больших страданий».
Говоря о больших страданиях, владыка имел в виду мирские искушения. Но искушения, тем не менее, соблазняли самого Тита, однако он был настолько скрытен, что не открывал душу свою даже на исповеди и среди спесивого окружения владыки слыл убогим. На самом деле трудно было найти натуру более сметливую, страстную и жадную до ощущений, чем Тит, но он умел довольствоваться малым. Он терпеливо и смиренно чистил обувь и сдувал пылинки с облачения благодетеля, ожидая своего заветного часа. Но его мечта была известна только его Ангелу-хранителю, хотя сам Тит чаще общался со смердящим демоном обжорства и чесоточным бесом тайного блуда.
Глава 17
Наговорный кистень
Есть на земле еще старушки
С душою светлою, как луч.Н. Рубцов
Очутившись дома, Егор встал под ледяной душ и впервые с испугом ощутил, что снова хочет увидеть Флору , словно ее черный локон успел обвиться вокруг его запястья и тянул к себе, как ведьмин науз. Уже за полночь он позвонил Квиту. Тот оказался бодр и даже игрив, как всякий ночной хищник.
– Ну что тебе сказать, «скубент»? Пока ты там по Москве шарился, мы обшарили соляные копи, видели твои отметки на стенах, но ничего так и не нашли. Может, ты газа наглотался, в старых выработках чего не бывает? Ну да ладно, не кисни, дуй сюда. Твои лесные отшельники явно что-то знают. Еще день, и мы расколем этих «любимцев богов».
– Вызвал столичных костоломов?
– Ни-ни. Сейчас с этим строго, но на детекторе успел проверить всех.
– И что же?
– Будимир явно имеет отношение к пропаже девушки, но молчит, как партизан, а на твоем участке и того хлыще дела творятся.
На следующий день сразу после сабантуя по поводу последнего экзамена Севергин рванул в Сосенцы.
– Да, крестничек, «тихий» тебе участок попался! Что ни ночь, то новое приключение. Ну да ничего, так даже лучше, чтобы служба медом не казалась. Приказ о твоем назначении уже прошел, так что принимай дела!
Полковник Панин, возглавлявший почти боевое подразделение, наружность имел самую мирную. Плотный, кругленький, он был похож на румяный, только что испеченный каравай, и был так же мягок и упруго отходчив.
– Что стряслось-то, Степан Никодимыч? Опять сельмаг грабанули?
– Если бы... Читай! – Панин протянул Егору исписанное мелким почерком заявление.
Оно было написано со слов Прасковьи Тряпкиной, заслуженной колхозной пенсионерки.
«...А вчерась на огородах опеть его встречаю.
– Цить, – говорит, – бабка. Узнала меня? Я – Степан Разин. – И саблю показыват. – Никого не бойся, ноне я твой защитник. Оставляй мне вечор на этом самом месте пестерь пирогов и жбан самогона и можешь спать спокойно...»
– Ну, как тебе это явление исторического призрака? – осторожно поинтересовался Панин. – Бродит по округе, саблей машет, грозится поднять народ...
– ...Пересмотреть итоги приватизации или с «гостями» разобраться? – невесело пошутил Севергин. – Что и говорить, настоящему-то Стеньке было бы интересно погулять по нынешней Руси, а не старух по ночам мутить. Ладно, крестный, займусь я этим призраком.
– Заявление от съемочной группы читал?
– Да, ознакомился.
– Что думаешь? Где девка?
– Будем искать. Следаки из Москвы еще не отбыли?
– Здесь пока. Не делают ни хрена, только командировочные пропивают.
Простившись с крестным, Севергин отправился домой. Чтобы загрузить мысли работой, он по пути завернул в киногруппу и остолбенел. По тропинке навстречу к нему шла Флора. Длинная вышитая льняная рубаха сквозила на солнце, венок из лилий прижимал пышные волосы цвета воронова крыла.
– Это вы! Как хорошо! – Она ласково оглядела его. – Вот, приехала поговорить с режиссером, а тут радостная новость – Лада нашлась!
– Не может быть! – пробормотал Севергин.
Доверчиво улыбаясь, Флора протянула ему свой мобильник с «письмом»: «Я в порядке выручи сестренка».
– Я звонила в театр, ее труппа на гастролях. Может быть, ее срочно вызвали на замену? С Ладой никогда ничего не знаешь заранее.
– А что значит «выручи»? Заплати неустойку?
– Нет, Версинецкий предложил мне доиграть ее роль. Героиня становится чуть более возрастной. Мы с Ладой очень похожи, только я – ночь, а она – день, вернее розовое утро.
– А вы уверены, что это пишет Лада?
– А кто же еще? Кстати, сегодня ночь на Ивана Купалу, будет съемка языческих игрищ.
– Что за игрища?
– пропела Флора своим колдовским голосом, от которого у Севергина сладко заныло внутри.
Папоротник в чаще ночью расцветет,
Огонек дрожащий всех с пути собьет,
– А вдруг именно вам повезет найти Перунов цвет! Кто успеет сорвать его, будет богат.
– Да я и так не беден. Что-то рановато вы Купалу празднуете, до седьмого июня еще десять дней.
– Языческие праздники всегда в полнолуние. Так ровно в полночь! – крикнула вдогонку Флора.
Проезжая по селу, Егор остановился на месте обычного сельского схода, у магазина. Рядом на автобусной остановке ожидали транспорта местные жители. На завалинке «колоколили» нарядные старухи в белых праздничных платочках. Севергин вышел из машины, поздоровался и присел рядом, прислушиваясь к разговору. Председательствовала внезапно ставшая знаменитой бабка Пераскея, по паспорту Прасковья Тяпкина:
– Бают, клад у него в Утесе зарыт, вот он и ходит кругом. А как Царев луг разрыли, так и вовсе ему покоя не стало, кажну ночь ходит и вздыхат, а кровища-то с сабли так и капат, и капат...
А этой ночь снова во двор вызыват:
«Схороню, – говорит, – бабка, в твоем погребе наговорный кистень . Огнем будут тебя жечь, лютой пыткой мытарить, никому не открывай место, где спрятано. В этом наговорном кистене – сила могучая и силе той нет конца! За тем кистенем я к тебе опосля нагряну. Ужотко погуляет он по Руси!»
А уж собой хорош, чисто сокол.
«Была б ты помоложе, бабка, умыкнул бы я тебя, а так – спи, отдыхай, я на карауле буду». Так и сказал.
– Словят твоего сокола, бабушка, беспременно словят, – подал голос Севергин.
– Дак я же не затем рассказываю, чтобы его словили.
– Значит, по простоте душевной милицию работой грузишь?
– Я затем говорю, чтобы готовились. Скоро он войско соберет и как встарь пойдет Москву воевать! Вона в городе как шумят, бьются насмерть!
Бабка говорила правду. Уже с неделю в городе было неспокойно. В ночь на воскресенье сгорел местный рынок. Кавказцы передвигались по городку только в колонне. Почти все магазины были наглухо закрыты, и лишь тогда горожане вполне осознали масштабы бедствия. Вся торговля в городке, вплоть до последней лавчонки или распивочной точки, оказалась в руках у приезжих. Голодные и трезвые жители быстро крепли умом и жаждали действий. Тем временем ушлые китайцы заперлись в бараке и не желали выходить на работу. По ночам вокруг общежития кружил страшный призрак. Китайцы опознали в нем Хан-Чан-Чуна, Бога войны. Озаренный луной Бог войны грозно сверкал очами и грозил китайцам саблей. Теперь рабочие требовали доставить их на родину, увеличив ввиду стремительной инфляции дорожные расходы, а также оплатить всей «пятой колонне» моральный ущерб. В случае невыполнения их условий, «ходи» угрожали засорить барачными нечистотами кристально-чистую, ни в чем не повинную Забыть.
В жарком мареве плавился и дрожал деревянный резной конек на крыше усадьбы, но в мыслях Севергин все еще был у Забыти. Выпитый до дна внезапной встречей с Флорой, он шагнул под родимые сосны. Белка с сердитым цоканьем отпрыгнула от его протянутой руки. Глухо заворчал Анчар, исподлобья глядя строгими янтарными глазами, и почему-то не прыгнул навстречу, не закрутился вихрем на месте, а остался лежать, положив на лапы тяжелую умную голову.
– Что с тобой, Егорушка? – В дверях стояла запыхавшаяся Алена.
Вглядевшись в лицо мужа, она отшатнулась и руками прикрыла живот.
– Все нормально, – пряча глаза, пробормотал Егор. – Может, у меня рога выросли?
Он схватил со стола кружку с молоком, жадно хлебнул.
Молоко прогоркло, как будто стояло здесь уже неделю.
Сердцем чуя неладное, Алена робко обняла мужа и прижалась прохладной щекой, но этот шелковистый холод отозвался в нем острой внутренней судорогой.
– Прости, я очень устал... Лягу, посплю...
Глава 18
Кладезь бездны
Так пахнут сыростью гриба
И неуверенно, и слабо
Те потайные погреба,
Где труп зарыт и бродят жабы.Н. Гумилев
Близилась полночь, а в покоях настоятеля все не гасла старинная зеленая лампа. У остывшего самовара в задумчивости сидел владыка Валерий. Смертельно бледный отец Нектарий притулился напротив. Мертвенный свет абажура заметно искажал лица, огрубляя черты, как посмертная маска из жидкого мела.
Кромешные тревоги последних дней отдались бессонницей. Отец Нектарий ослабел и по-стариковски сдал. Его единственное богатство: покой, что дарует человеку чистая совесть, стало добычей воров: неправедных и суетных мыслей. Резко постарел и владыка Валерий; тугие плечи опали, по бороде разлилось раннее серебро.
– ...Я отвел угрозу от монастыря, – продолжал тяжелый разговор владыка Валерий. – Хорошо, что сразу шума не подняли, и монах сообразительный оказался, тело спрятать успел. Но откуда в твоем монастыре девка взялась, да еще в колодце и голая? Молчишь? И я не знаю. Такое дело в канун торжеств – это неспроста, это подкоп сам знаешь под кого. Ну, да ладно, надо как-то с этим покончить. Припомни-ка все...
– В ночь на двадцать второе июня я служил молебен о павших воинах. На колокольне до утра звонили... – Настоятель слабо вскрикнул и прикрыл воспаленные глаза ладонью. – Я знаю... Знаю, как девушка попала в колодец... «Пятый Ангел вострубил, и увидел я звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя... И помрачилось солнце...» – шептал отец Нектарий. – Звезда, падшая с неба на землю, это погибшая девушка. Восьмиконечный знак на стене начертан ее рукой перед гибелью. Она тонкая и гибкая, поэтому и прошла сквозь прутья решетки. Она ничего не знала о ловушке, и ее затянуло в колодец водоворотом, когда она искала пути к Тайная Тайн: ключ от кладезя бездны . В монастыре всю ночь бил колокол, поэтому тело всплыло почти сразу.
– Благословите, ваше Преосвященство, вызвать милицию? – немного успокоившись, попросил Нектарий. – Ведь никто из наших не виноват в происшествии.
– Не благословляю. Мы не имеем права бросать и малой тени на монастырь. Обитель и так в осаде прессы. Милиция, допросы... Писаки, как псы, вцепятся. А нам наше дело завалить нельзя...
Нектарий молчал. Перед его внутренним взором рушились и сдвигались горы и источники вод пенились кровью.
– ...За порядком в монастыре следишь не строго, – вернул его к действительности голос владыки Валерия.
Он выговаривал настоятелю по-отечески мягко, как-никак, теперь они были соучастники, и это сближало их.
– Сколько у тебя доверенных людей из братии?
– Двенадцать, – едва слышно ответил отец Нектарий.
– Мало... А бездельничают твои монахи много. Вчера иду по галерее, слышу – гогот! Послушники и трудники сбились в табун и анекдоты травят: между прочим, про церковное начальство!
– Не может быть.
– Может, еще как может.
– Что-нибудь непристойное?
– Гораздо хуже, вот, послушай: «Один строгой жизни монах почил в Бозе и вскоре прибыл в рай, где шли пышные приготовления. Все было в радостном ожидании, и монах невольно смутился.
– Спаси Бог, святой Петр, но я не достоин такого приема, – робко признается монах святому Петру.
– По правде говоря, – отвечал святой Петр, – этот прием не для тебя. Мы готовимся встретить одного епископа.
– Понимаю, – грустно ответил монах, – это вопрос иерархии...
– Это вопрос редкости! Оглянись, монахов здесь – тысячи, а вот епископы к нам попадают чрезвычайно редко...»
Меня увидели, онемели, потупились, ждут, что будет. А все твой Богованя монахов баламутит. Как-то спрашиваю у него, как найти келаря, а он отвечает:
– Отец Порфирий сейчас на скотне. Вы его легко узнаете по скуфейке.
– Так вы, должно быть, наказали весельчаков? – немного оживился настоятель.
– Плохо ты меня знаешь, отец Нектарий. На притчу о достойном иноке я ответил притчей о дурном: «Жил в монастыре монах, который справедливо считался позором для всей братии. Он был ленив, болтлив, к тому же закоренелый пьяница, и когда он в свой строк отошел ко Господу, монастырская братия невольно вздохнула с облегчением. Прошло некоторое время, и вот отцу игумену снится сон, где этот известный грешник блаженствует в раю с праведниками.
– Ты здесь? А мы-то считали тебя самим пропащим! – изумился игумен.
– Конечно, житие мое не было примером, – со вздохом признал монах. – Но за всю свою жизнь я ни разу никого не осудил...»
Прежде, чем осудить кого-либо, примерь сначала его башмаки, – говорили святые отцы наши, и были правы!
– Монаху надо терпения воз, а игумену – целый обоз, – устало согласился Нектарий.
– Не только терпения, Нектарий, но и соображения...
Но отец Нектарий больше не слышал наставлений владыки. То, что происходило в эту минуту в его душе, можно было сравнить с космической катастрофой. На одной чаше весов корчилась его растоптанная, окровавленная совесть, а на другой поместился величавый, но призрачный храм. Свет, дотоле озарявший его чистый и праведный мир, померк.
Глава 19
Ведьмин круг
Генеральша шального парада,
Огневица купальских костров.
Севергин проснулся от внезапного толчка изнутри. В жарких потемках зудели комары. Стрелки на старинных ходиках показывали полночь. Он всегда стерег этот короткий миг опасного безвременья, когда открываются зеркальные коридоры и сутки смыкаются в круг вечности. В этот час народное поверье запрещает покидать дом, чтобы не вверить душу черной силе.
Алена спала, жарко разметавшись, беспокойно вздрагивая во сне – намаялась за долгий жаркий день... Он осторожно переложил ее влажную руку со своей груди на подушку. Если бы она проснулась и окликнула его, может статься, все сложилось иначе...
Он жадно напился, постукивая зубами о ковшик, проливая на грудь ледяную воду. Его летняя форма, чистая и выглаженная, висела в закутке за пестрой занавеской. Он решительно надел форму, нацепил кобуру, словно эти атрибуты были частью купальского карнавала.
Голубая мгла окутывала дорогу к Забыти. В луговинах парным молоком растекался туман. Истомно стонал коростель, и яростным гвалтом вторили ему лягушки. Через Забыть пролегла широкая лунная дорожка, как хрустальный мост от дальнего темного берега к пойменной луговине, где золотым ожерельем полыхали костры. Егор протер глаза: в кругу голытьбы пировал Стенька Разин.
– Эх, пито-гуляно вволю! А пропито и того боле... Простой я казак, голова забубенная, только дороже воли да шашки для меня ничего нету! Поведу я вас, мои любезные станичники, на стольный град Москву, бояр да кабашников громить.
– Здравия желаю! – Окликнул Севергин честное собрание, но ватага хмуро оглянулась на милиционера, натянула на головы лохматые шапки и обернулась сухими пнями, а сам атаман – оборотился корявым выворотнем в папахе серебристого мха.
Волыжин лес играл зеленоватыми «блудными свечками». На берегу кружили в хороводе задумчивые девушки в белых рубахах.
Увидев Егора, девушки замкнули его в круг:
– Марью, выбирай Марью! – опьяненные хороводом «русалки» не выпускали его из круга.
– Как Иван да Марья на горе купалися.
Где Иван купался, берег колыхался,
Где Марья купалась, трава расстилалась.
Поднырнув под их сомкнутые ладони, в хоровод вошла Флора. Она словно летела к Егору поверх травы. На ее запястьях звенели браслеты из цветов, белая рубаха была подпоясана травами. На голове колыхался венок из ромашек и дягиля.
– Здравствуй, мой Яхонт-Князь! – С тонкой усмешкой Флора поклонилась Севергину. – Я выбираю тебя своим суженым-ряженым. Нарекаю тебя Иванкой, братом моим разлюбезным.
выводил девичий хор.
– За той рекой, за быстрою
Леса стоят дремучие!
Во тех лесах огни горят,
Огни горят великие,
Костры горят горючие,
Котлы кипят кипучие... —
В круг ворвался лохматый мужичок-шишига в вывернутом бараньем тулупе: сам с ноготок, борода с локоток. На волосяной опояске у него болтался сильно преувеличенный атрибут кукерского действа, вырезанный из дерева, и только тут Егор узнал Кощунника, неугомонного Кукера.
вопил Кукер, задирая девушек.
– Раскомаринский мужик, голубок!
Достал-вынул золотой колобок,
Сразу баба стала ласковая,
Шла до дома, не вытаскивая! —
В стороне от шальных плясок Будимир, он же Ярило-Припекало, добывал живой огонь кресеньем двух кусков дерева. Две жены-чаровницы деликатно воодушевляли его на это действо.
– Ой, Ярило-Припекало, поддай жару! – подбадривал Верховного волхва Кукер, потрясая своим деревянным жезлом. – В городе Калязине нас девчата сглазили! Если бы не сглазили, мы бы с них не слазили...
– Ведьма, ведьма! Лови ее! – засвистели и заулюлюкали в зарослях орешника. Хоровод разбился, смешался, и через поляну пробежало страшилище с соломенным чучелом «ведьмы» на шесте. Как по команде, «русалки» взялись метать цветы и травы на раскаленные камни. Душистый пар окутал поляну. Следом в костер полетели сорочки, и обнаженные наяды закружились вокруг костра. Их огненные, окрашенные бликами тела перелетали через огонь, потеряв всякую земную тяжесть.
Егор видел Флору сквозь высокое пламя, ее разметавшиеся волосы стлались по ветру. Он все еще пытался выскользнуть из круга, чтобы немного опамятовать в стороне от дикого ночного веселья, но свадебный пир воды и огня не выпускал его.
Наконец он вырвался и, пьяный от пляски, побрел прочь. На его пути вился «Ручеек». В этой древней языческой игре складывались пары на эту ночь. Разгоряченные плясками Иваны-да-Марьи погружались в теплую парную воду. Игры и хороводы продолжались в заводи и на песчаных отмелях.
В стороне от купальских игрищ Егор встретил Версинецкого. В пышной набедренной повязке из травы, он был похож на выброшенного волной водяного.
– Вы здесь?! – почти обрадовался Севергин. – Так это что, съемки?
– Камера! Мотор-р-р!!! – простонал Версинецкий. – Я мечтал снять такое, но это не фильм, это подлинная мистерия! Стихия! Я пьян без вина! Такое действо невозможно поставить! Это тотальный бешеный танец, так плясали в этих краях тысячелетия назад! Это все она – Флора! Без нее все было пресно, «как всегда». Кажется, она и вправду ведьма! Смотрите, что делается!
Егор беспомощно огляделся вокруг, не веря глазам. До этой минуты все еще надеялся, что попал на съемки. Между двух костров – восьмеркой, кружил хоровод «русалок». За мельканием невесомых тел Севергин вновь увидел Флору: в ее ладонях разноцветными струями дымилась чаша. Он рванулся к ней, но разгоряченные, хохочущие сирены не пускали его. Флора птичьим свистом разогнала русалок и поднесла ему чашу.
– Братик мой Иванушка, не пей из копытца, – прошептала Флора и, понизив голос, грозно нахмурив брови, пропела:
Зловеще стихли русалки, внезапный порыв ветра с треском повалил сухое дерево в чаще. Как во сне, Егор принял из рук Флоры чашу, глотнул вязкое снадобье и зажмурился от горечи; под веками разлилось пламя – сияющий цветок огненной лилии. Потеряв равновесие, он упал навзничь в траву. Он успел схватить Флору за край рубахи, но она выскользнула из одеяния и исчезла в чаще. Колыхался цветущий боярышник, дрожал чуткий тростник, звонко плескала вода. Вокруг него, как сорванные листья, вились в хороводе русалки, поднятые с земли ночным вихрем.
Чашу ту пригубишь, прикоснешься к ней —
И душу загубишь до скончанья дней!
– Ивашка Белая рубашка, люби нас! – глумились лесные девы, и он понял, что сделал что-то не так, и уже ничего нельзя исправить.
Поляна окуталась разноцветным душистым паром. Сквозь густую пелену едва просвечивал костер, и в этом теплом парном тумане кружили причудливые создания, дивные женщины с распущенными волосами, лохматые шишиги, лешие и кикиморы. Из травы, из мха, из-под коры деревьев, из-под коряг смотрели странные существа. Они вышли на свет ночных огней, и самые смелые уже плясали в хороводе и катались через поляну кувырком. Волки и медведи, женщины с лисьими хвостами и мужчины с оленьими рогами пластично, как в пантомиме, вели свои «звериные» танцы. Мохнатый старичок с лозой в руках прогнал сквозь огненные ворота долгогривых коней и белых коз с венками на рогах.
Неслышно подкравшись сзади, кто-то закрыл глаза Егора теплыми ладонями: «Угадай!»
– Флора!
Из сумрака выступила она, вся как светлая ночь: опасная, зовущая. Белая сорочка была опущена с ее плеч.
– Папоротник... Пойдем искать папоротник. – Папоротник-солноповорот, вокруг костра хоровод... – шептала Флора и влекла его в лесной сумрак. – В эту ночь муравьи сбивают муравьиное масло, оно дарует мужскую силу... Чтобы вяз червленый не гнулся, не ломился против женской плоти, против полого места ... – вкрадчиво наговаривала она лукавый заговор.
