Страница:
Ленька, слушая это, заулыбался и опустил глаза. При упоминании о моем отце Павел Иванович сразу стал мягче, приветливее, даже чуть-чуть улыбнулся.
— Да, это есть, — сказал он с гордостью. — Уж я его тренирую: он и гимнастику делает, и закаляется… В этом смысле все в порядке. Только вот несерьезный… Приходится воспитывать по-домашнему. — Он вздохнул ну точно, как Ленька.
«Он совсем не злой, — подумал я. — Но он строгий, это видно».
Обстановка была разряжена. Но это было только полдела. И я исполнился решимости.
— Павел Иванович, — твердо сказал я, — у меня есть к Вам мужской разговор насчет нашего с Ленькой воспитания.
— В чем дело, Женя? — Ленькин отец с интересом посмотрел на меня.
— Павел Иванович, не наказывайте его сегодня! — выпалил я. — Это я во всем виноват. Я позвал его в сад играть в бадминтон, а потом я пригласил его в кафе. Ну и там мы немного выпили. Это тоже я его угощал. Я виноват, а не он!! Не надо его наказывать.
Ленька с удивлением уставился на меня и, как мне показалось, с благодарностью. Он явно не ожидал с моей стороны таких решительных действий. Его отец, казалось, тоже был удивлен, и я решил идти до конца.
Я сказал:
— И еще… вчера тоже. Это ведь Ленька меня провожал домой. Просто, когда мы гуляли, к нам на улице пристал… м-м… хулиган, ну и Ленька не захотел, чтобы я один ночью шел домой, и он проводил меня. Вот и все. Это из-за меня вы его вчера наказали, а во всем виноват я. И мне сейчас очень стыдно, — закончил я упавшим голосом и опустил голову.
— Так, Женя, понятно, — сказал Павел Иванович. — Ну и что же мне с тобой делать? Как с моим сыном мне поступать я знаю, а что делать с тобой?
Ленька смотрел то на отца, то на меня с тревогой, ожидая, что я еще скажу. Я помолчал, чувствуя, что краснею до самых ушей, и шепотом сказал:
— Проучить меня надо как следует! За вчерашнее… («Господи, какие глупые слова», — подумал я.) Потом помолчал и добавил: — И за сегодняшнее…
— Как же проучить тебя, юноша? — удивленно спросил Ленькин отец.
Я снова собрался с духом и прошептал:
— Меня нужно выпороть. — Я покосился на Леньку — он смотрел на меня, широко раскрыв глаза. — Да. Мне это нужно для воспитания, добавил я более твердо, хотя и с ноткой неуверенности.
— Выпороть?!! — Спросил Павел Иванович. — Я не ослышался?
— Да, розгами, как его… — Я кивнул в сторону Леньки.
— Понятно. — Павел Иванович кивнул. — Ну, допустим, я считаю, что ты это вполне заслужил, тем более, сам об этом просишь. И я считаю, что такой метод воспитания тебе вполне подходит. — Я почувствовал, что еще больше краснею, а он продолжал: — А что скажет твой отец? Может быть, пусть все-таки он занимается твоим воспитанием? По крайней мере, надо поставить его в известность о твоем желании. Скажем, перенесем это дело на завтра, а?
— Не надо ему ничего говорить! — горячо воскликнул я. — Он не позволит! Он меня до того любит — пылинки с меня сдувает! Если кто-нибудь меня тронет — что Вы, не дай Бог! А Ленька один должен расплачиваться за себя и за меня? Это нечестно!
Я говорил с таким жаром, что Павел Иванович, а за ним и Ленька, слушая меня, расхохотались.
До сих пор не могу понять, откуда у меня взялось столько смелости — может быть, потому, что я был немножко пьян, или еще почему-то… У меня было странное ощущение, как будто все это происходит в каком-то странном сне.
— А ты не боишься? — спросил Ленькин отец испытующе.
Я запнулся на секунду, потом твердо сказал:
— Нет. Я виноват и должен быть наказан, по-настоящему.
Ленькин отец пожал плечами и сказал:
— Ну, идем, если так.
Он взял меня за локоть и провел в комнату.
— Раздевайся! Сейчас будет тебе по-настоящему.
Я вдруг почувствовал, как по спине моей пробежал холодок, и руки задрожали.
— Да-да, — прошептал я, — сейчас.
Ленька неслышно проскользнул в комнату и встал за моей спиной.
Бросив пиджак на стул, я стал торопливо расстегивать пуговицы рубашки, путаясь в них. Руки мои дрожали и не слушались. Сбросив рубашку и обнажившись до пояса, я остановился, все более и более краснея от стыда.
Павел Иванович выжидающе смотрел на меня.
— Что, испугался?
Я мысленно погрозил себе кулаком: «Трус! Наказание легким не бывает! И пусть мне будет стыдно! А как бы вел себя Ленька на моем месте?» — прошептал я себе, быстро расстегивая и снимая брюки, под которыми у меня ничего не было. Мне хотелось, чтобы все произошло как можно быстрее, хотя я точно знал, что не смогу, как Ленька, перенести все в молчании.
Через минуту, скинув с себя совершенно все, я уже стоял босой, полностью обнаженный, на ковре, посередине комнаты. Стараясь выглядеть смелым, я стоял, расправив плечи и опустив руки вдоль тела, как бы по стойке смирно, учащенно дыша от волнения. Лицо и уши у меня горели. Мне, которого никогда не пороли, было, конечно, очень стыдно и, если честно, то и очень страшно. Но Ленька стоял сзади, я чувствовал своей спиной его взгляд, и это мне придавало силы перенести все, что угодно.
— Я готов, — произнес я с дрожью в голосе, хотя старался говорить твердо. — Накажите меня, как следует, как я того заслужил.
— Я понимаю, — сказал Павел Иванович. — Ты хочешь пережить то, что пережил твой друг. Уверяю тебя, это не так уж страшно. Возможно, ты даже останешься благодарен.
Я кивнул.
— Так сколько, считаешь, тебе полагается? — спросил Павел Иванович строго, но едва заметно улыбаясь.
— Мне полагается, — запинаясь, словно на уроке, ответил я — пятьдесят розог за вчерашнее, и пятьдесят за сегодняшнее. Всего сто розог. И не наказывайте Леньку. Я провинился, мне и отвечать. — Я чувствовал, что колени у меня предательски дрожат, хотя я изо всех сил старался показать смелость.
— Отец, не надо так! — воскликнул Ленька, до тех пор молчавший, и обнял меня сзади за плечи. — Ты что, сто розог! Не надо все Женьке, смотри, какой он нежный! Давай нам поровну что ли! Мы же вместе все делали… — он начал быстро расстегивать куртку, но отец остановил его.
— Ты, Леонид, подожди. Тебя я наказывать не буду. Хотя бы из уважения к твоему другу, смотри, как он за тебя просит. А ты, Женя, ложись…
На середину комнату была выдвинута длинная скамья, покрытая белоснежной простыней (это Ленька постелил, не зная, что еще для меня сделать). Я с готовностью лег на нее ничком, вытянувшись по струнке и, сгорая от стыда, послушно лежал, ожидая начала наказания. У меня все похолодело внутри, когда Павел Иванович, не спеша, аккуратно извлек несколько идеально прямых, гладких ивовых прутьев — намного длиннее и внушительнее, чем я себе представлял! — и подошел к скамье. Я почувствовал, как напряглось мое тело… Ленькин отец грозно взмахнул розгой в воздухе, пробуя ее на гибкость. Розга свистнула, и я затрепетал от страха… Он снова размахнулся, уже по-настоящему. Розга засвистела в воздухе и звонко хлестнула по голому телу — ниже спины, по мягкому месту. Меня словно обожгло, я дернулся и застонал.
— Как же можно, проговорил Ленькин отец, — как же можно так непорядочно относиться к родителям! Как же можно, — повторял он, снова взмахивая розгой, стегая меня второй, третий раз, тщательно отсчитывая удары, — быть таким легкомысленным… таким безответственным! — Не знаю, так ли сильно порол он меня, как Леньку, думаю, вряд ли, конечно нет, но о том, чтобы терпеть молча, не могло быть и речи, это бы я точно не смог. Я стонал от боли, но смирно лежал, вытянувшись на скамье, не смея пошевелиться, решив получить наказание сполна — за себя и за Леньку. Я чувствовал, что он стоит рядом и смотрит на меня, и это меня согревало и придавало силы. А розга опять свистела и опускалась, звучно стегая по моему телу, и я чувствовал, как на нем остаются новые и новые длинные следы, наверное, такие же, как и у Леньки. А Павел Иванович продолжал сечь меня, приговаривая: — Как же можно употреблять спиртное накануне начала учебного года! Да за это можно всыпать и посильнее. Аи — яй — яй! Как нехорошо! — Он размахнулся и вытянул меня пониже спины так хорошенько, что я дернулся и вскрикнул, но тут же прикусил губу — сам виноват, должен терпеть. (Ленька ведь терпел за меня). А розга уже свистела снова и снова. Меня обожгло столько раз, сколько следовало — это было за пьянство. Порка продолжалась, казалось, бесконечно. Раздавался свист розги, новая боль пронизывала мое тело, я чувствовал, как у меня на бедрах, на спине, на плечах появлялись новые и новые следы. Иногда мне даже казалось, что я теряю сознание. Однако Ленькин отец счет вел точно, и не забывал напоминать в педагогических целях:
— Как же можно обманывать чужих родителей, тайком уводить друга из дома, когда ему нужно готовиться к школе? Ай-яй-яй! — И еще десять раз розга больно обожгла меня.
«Так мне и надо, — думал я, — сильнее закусывая губы, чтобы не кричать, — так и надо».
— А разве можно считать, что если у тебя влиятельный папаша, если он тебя очень любит, все тебе позволяет и дает много денег, то тебе уже все можно, и ты ни за что не отвечаешь? Ай-яй-яй, как нехорошо! — приговаривал Павел Иванович, тщательно отмеривая мне последние удары. — Вот так тебе за это… вот так… и вот так! — розга просвистела в воздухе последний раз, звучно стегнув напоследок посильнее, и я застонал, чувствуя, как на теле проступает последний длинный болезненный след. — Очень стыдно все это, юноша, ай-яй-яй!
Порка закончилась.
— Ну, все, хватит, — сказал совсем другим тоном Павел Иванович, откладывая розгу, и неожиданно ласково погладил меня по спине. — Молодец, Женя! Давай, приходи в себя. А ты, Леонид, помоги ему одеться, — и он вышел. Ленька подошел и сел рядом. Я лежал расслабленный, не в силах пошевелиться (как мне казалось). Ленька взял мою руку и пожал своими горячими пальцами. Я повернул голову, взглянул на него и улыбнулся. Он смотрел на меня широко раскрытыми, влюбленными глазами… и вдруг быстро приблизился ко мне и поцеловал мое плечо со следами от розги. Этот поцелуй, словно огнем, запечатлелся на моем теле. Я прикрыл глаза, блаженно улыбаясь. Как я был счастлив сейчас!..
Потом я легко вскочил на ноги. Боль от розги быстро проходила. Потом Ленька протирал мою спину одеколоном, и я извивался и визжал от боли. Это уж точно было больнее всякой розги, и мы хохотали. Потом я оделся, и мы пили чай с Ленькиными родителями — весело и дружно, как будто ничего не произошло, и вечер закончился прекрасно. Павел Иванович сам позвонил моему отцу, сообщил, что я у них в гостях и просил не волноваться: скоро я буду дома.
— Мне ничего не остается, — сказал он, обращаясь к нам, — как самому отправить Леонида проводить тебя, Женя, домой, драгоценный ты наш! Ступайте поскорее! Но только смотри, Ленька, быстро — туда и обратно!
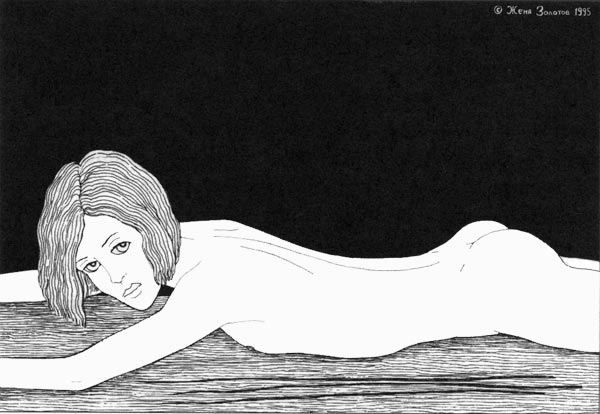
Часть 5
Часть 6
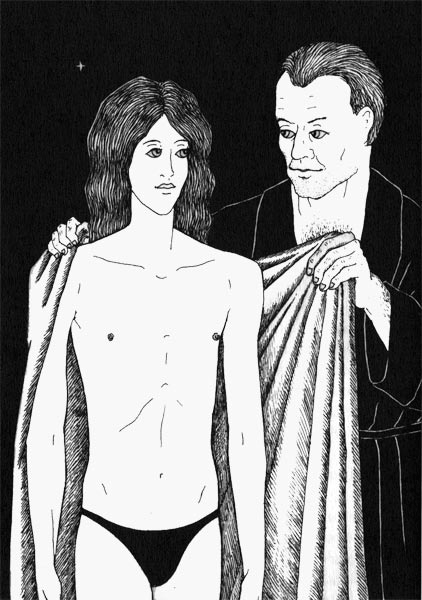 Накануне первого сентября отец всегда устраивал маленький праздничный ужин нам с ним на двоих, со свечами и домашними пирожными, которые любил печь сам, и сейчас, я знал, он ждет меня к столу, несмотря на позднее время. Немножко неудобно получилось, все-таки я обещал быть раньше, но Павел Иванович ему звонил, наверное, он не очень волнуется, так что все в порядке. Тихонько открыв дверь ключом, я, первым делом, скользнул в ванную и внимательно оглядел себя в зеркало. Волосы растрепаны (ну это мы сейчас поправим), глаза сверкают счастливым блеском и вообще, я весь светился от счастья, скажите, пожалуйста! Я даже засмеялся: да, таким я уже давно себя не видел! Но губы были красными и распухшими, а на шее, на плечах и на груди — о, Боже! — ярко выделялись свежие, темно — вишневые, как испанское вино, следы поцелуев.
Накануне первого сентября отец всегда устраивал маленький праздничный ужин нам с ним на двоих, со свечами и домашними пирожными, которые любил печь сам, и сейчас, я знал, он ждет меня к столу, несмотря на позднее время. Немножко неудобно получилось, все-таки я обещал быть раньше, но Павел Иванович ему звонил, наверное, он не очень волнуется, так что все в порядке. Тихонько открыв дверь ключом, я, первым делом, скользнул в ванную и внимательно оглядел себя в зеркало. Волосы растрепаны (ну это мы сейчас поправим), глаза сверкают счастливым блеском и вообще, я весь светился от счастья, скажите, пожалуйста! Я даже засмеялся: да, таким я уже давно себя не видел! Но губы были красными и распухшими, а на шее, на плечах и на груди — о, Боже! — ярко выделялись свежие, темно — вишневые, как испанское вино, следы поцелуев.
«Ленька, Ленька, — подумал я с нежным замиранием сердца, — милый мой, мы с тобой не знали, оказывается, у меня такая нежная кожа».
О том, что я скажу отцу, если он спросит, откуда у меня это, я предпочитал не думать. Но, несмотря на то, что я был не седьмом небе от счастья, я все-таки заметил, что чувствую себя как-то не очень хорошо: у меня немного кружилась голова и начинало знобить. Возможно, я все-таки простудился, гуляя ночью и лежа на холодной земле, или просто мое тело было не в состоянии перенести такое количество адреналина, как за эти два дня, а, может, и то, и другое вместе… а, впрочем, все это ерунда.
Я умылся холодной водой, надел рубашку, застегнув ее на все пуговицы, и вышел к столу, стараясь выглядеть как можно обыкновеннее.
Во время ужина я пытался быть веселым и оживленным, но от меня не укрылось, как отец внимательно, даже с тревогой, поглядывал на меня.
— Ты что-то неважно выглядишь, Женька, — заметил он, глядя, как я вяло ковыряю серебряной ложкой шоколадный торт, не в силах проглотить ни кусочка. Носом я клонился в блюдце.
— У меня что-то голова тяжелая… — я жалко улыбнулся. — И знобит… Мне так холодно…
Отец немедленно дал мне градусник и заставил подержать несколько минут, а когда взял обратно, взглянул на него и присвистнул.
— Да, это есть, — сказал он с гордостью. — Уж я его тренирую: он и гимнастику делает, и закаляется… В этом смысле все в порядке. Только вот несерьезный… Приходится воспитывать по-домашнему. — Он вздохнул ну точно, как Ленька.
«Он совсем не злой, — подумал я. — Но он строгий, это видно».
Обстановка была разряжена. Но это было только полдела. И я исполнился решимости.
— Павел Иванович, — твердо сказал я, — у меня есть к Вам мужской разговор насчет нашего с Ленькой воспитания.
— В чем дело, Женя? — Ленькин отец с интересом посмотрел на меня.
— Павел Иванович, не наказывайте его сегодня! — выпалил я. — Это я во всем виноват. Я позвал его в сад играть в бадминтон, а потом я пригласил его в кафе. Ну и там мы немного выпили. Это тоже я его угощал. Я виноват, а не он!! Не надо его наказывать.
Ленька с удивлением уставился на меня и, как мне показалось, с благодарностью. Он явно не ожидал с моей стороны таких решительных действий. Его отец, казалось, тоже был удивлен, и я решил идти до конца.
Я сказал:
— И еще… вчера тоже. Это ведь Ленька меня провожал домой. Просто, когда мы гуляли, к нам на улице пристал… м-м… хулиган, ну и Ленька не захотел, чтобы я один ночью шел домой, и он проводил меня. Вот и все. Это из-за меня вы его вчера наказали, а во всем виноват я. И мне сейчас очень стыдно, — закончил я упавшим голосом и опустил голову.
— Так, Женя, понятно, — сказал Павел Иванович. — Ну и что же мне с тобой делать? Как с моим сыном мне поступать я знаю, а что делать с тобой?
Ленька смотрел то на отца, то на меня с тревогой, ожидая, что я еще скажу. Я помолчал, чувствуя, что краснею до самых ушей, и шепотом сказал:
— Проучить меня надо как следует! За вчерашнее… («Господи, какие глупые слова», — подумал я.) Потом помолчал и добавил: — И за сегодняшнее…
— Как же проучить тебя, юноша? — удивленно спросил Ленькин отец.
Я снова собрался с духом и прошептал:
— Меня нужно выпороть. — Я покосился на Леньку — он смотрел на меня, широко раскрыв глаза. — Да. Мне это нужно для воспитания, добавил я более твердо, хотя и с ноткой неуверенности.
— Выпороть?!! — Спросил Павел Иванович. — Я не ослышался?
— Да, розгами, как его… — Я кивнул в сторону Леньки.
— Понятно. — Павел Иванович кивнул. — Ну, допустим, я считаю, что ты это вполне заслужил, тем более, сам об этом просишь. И я считаю, что такой метод воспитания тебе вполне подходит. — Я почувствовал, что еще больше краснею, а он продолжал: — А что скажет твой отец? Может быть, пусть все-таки он занимается твоим воспитанием? По крайней мере, надо поставить его в известность о твоем желании. Скажем, перенесем это дело на завтра, а?
— Не надо ему ничего говорить! — горячо воскликнул я. — Он не позволит! Он меня до того любит — пылинки с меня сдувает! Если кто-нибудь меня тронет — что Вы, не дай Бог! А Ленька один должен расплачиваться за себя и за меня? Это нечестно!
Я говорил с таким жаром, что Павел Иванович, а за ним и Ленька, слушая меня, расхохотались.
До сих пор не могу понять, откуда у меня взялось столько смелости — может быть, потому, что я был немножко пьян, или еще почему-то… У меня было странное ощущение, как будто все это происходит в каком-то странном сне.
— А ты не боишься? — спросил Ленькин отец испытующе.
Я запнулся на секунду, потом твердо сказал:
— Нет. Я виноват и должен быть наказан, по-настоящему.
Ленькин отец пожал плечами и сказал:
— Ну, идем, если так.
Он взял меня за локоть и провел в комнату.
— Раздевайся! Сейчас будет тебе по-настоящему.
Я вдруг почувствовал, как по спине моей пробежал холодок, и руки задрожали.
— Да-да, — прошептал я, — сейчас.
Ленька неслышно проскользнул в комнату и встал за моей спиной.
Бросив пиджак на стул, я стал торопливо расстегивать пуговицы рубашки, путаясь в них. Руки мои дрожали и не слушались. Сбросив рубашку и обнажившись до пояса, я остановился, все более и более краснея от стыда.
Павел Иванович выжидающе смотрел на меня.
— Что, испугался?
Я мысленно погрозил себе кулаком: «Трус! Наказание легким не бывает! И пусть мне будет стыдно! А как бы вел себя Ленька на моем месте?» — прошептал я себе, быстро расстегивая и снимая брюки, под которыми у меня ничего не было. Мне хотелось, чтобы все произошло как можно быстрее, хотя я точно знал, что не смогу, как Ленька, перенести все в молчании.
Через минуту, скинув с себя совершенно все, я уже стоял босой, полностью обнаженный, на ковре, посередине комнаты. Стараясь выглядеть смелым, я стоял, расправив плечи и опустив руки вдоль тела, как бы по стойке смирно, учащенно дыша от волнения. Лицо и уши у меня горели. Мне, которого никогда не пороли, было, конечно, очень стыдно и, если честно, то и очень страшно. Но Ленька стоял сзади, я чувствовал своей спиной его взгляд, и это мне придавало силы перенести все, что угодно.
— Я готов, — произнес я с дрожью в голосе, хотя старался говорить твердо. — Накажите меня, как следует, как я того заслужил.
— Я понимаю, — сказал Павел Иванович. — Ты хочешь пережить то, что пережил твой друг. Уверяю тебя, это не так уж страшно. Возможно, ты даже останешься благодарен.
Я кивнул.
— Так сколько, считаешь, тебе полагается? — спросил Павел Иванович строго, но едва заметно улыбаясь.
— Мне полагается, — запинаясь, словно на уроке, ответил я — пятьдесят розог за вчерашнее, и пятьдесят за сегодняшнее. Всего сто розог. И не наказывайте Леньку. Я провинился, мне и отвечать. — Я чувствовал, что колени у меня предательски дрожат, хотя я изо всех сил старался показать смелость.
— Отец, не надо так! — воскликнул Ленька, до тех пор молчавший, и обнял меня сзади за плечи. — Ты что, сто розог! Не надо все Женьке, смотри, какой он нежный! Давай нам поровну что ли! Мы же вместе все делали… — он начал быстро расстегивать куртку, но отец остановил его.
— Ты, Леонид, подожди. Тебя я наказывать не буду. Хотя бы из уважения к твоему другу, смотри, как он за тебя просит. А ты, Женя, ложись…
На середину комнату была выдвинута длинная скамья, покрытая белоснежной простыней (это Ленька постелил, не зная, что еще для меня сделать). Я с готовностью лег на нее ничком, вытянувшись по струнке и, сгорая от стыда, послушно лежал, ожидая начала наказания. У меня все похолодело внутри, когда Павел Иванович, не спеша, аккуратно извлек несколько идеально прямых, гладких ивовых прутьев — намного длиннее и внушительнее, чем я себе представлял! — и подошел к скамье. Я почувствовал, как напряглось мое тело… Ленькин отец грозно взмахнул розгой в воздухе, пробуя ее на гибкость. Розга свистнула, и я затрепетал от страха… Он снова размахнулся, уже по-настоящему. Розга засвистела в воздухе и звонко хлестнула по голому телу — ниже спины, по мягкому месту. Меня словно обожгло, я дернулся и застонал.
— Как же можно, проговорил Ленькин отец, — как же можно так непорядочно относиться к родителям! Как же можно, — повторял он, снова взмахивая розгой, стегая меня второй, третий раз, тщательно отсчитывая удары, — быть таким легкомысленным… таким безответственным! — Не знаю, так ли сильно порол он меня, как Леньку, думаю, вряд ли, конечно нет, но о том, чтобы терпеть молча, не могло быть и речи, это бы я точно не смог. Я стонал от боли, но смирно лежал, вытянувшись на скамье, не смея пошевелиться, решив получить наказание сполна — за себя и за Леньку. Я чувствовал, что он стоит рядом и смотрит на меня, и это меня согревало и придавало силы. А розга опять свистела и опускалась, звучно стегая по моему телу, и я чувствовал, как на нем остаются новые и новые длинные следы, наверное, такие же, как и у Леньки. А Павел Иванович продолжал сечь меня, приговаривая: — Как же можно употреблять спиртное накануне начала учебного года! Да за это можно всыпать и посильнее. Аи — яй — яй! Как нехорошо! — Он размахнулся и вытянул меня пониже спины так хорошенько, что я дернулся и вскрикнул, но тут же прикусил губу — сам виноват, должен терпеть. (Ленька ведь терпел за меня). А розга уже свистела снова и снова. Меня обожгло столько раз, сколько следовало — это было за пьянство. Порка продолжалась, казалось, бесконечно. Раздавался свист розги, новая боль пронизывала мое тело, я чувствовал, как у меня на бедрах, на спине, на плечах появлялись новые и новые следы. Иногда мне даже казалось, что я теряю сознание. Однако Ленькин отец счет вел точно, и не забывал напоминать в педагогических целях:
— Как же можно обманывать чужих родителей, тайком уводить друга из дома, когда ему нужно готовиться к школе? Ай-яй-яй! — И еще десять раз розга больно обожгла меня.
«Так мне и надо, — думал я, — сильнее закусывая губы, чтобы не кричать, — так и надо».
— А разве можно считать, что если у тебя влиятельный папаша, если он тебя очень любит, все тебе позволяет и дает много денег, то тебе уже все можно, и ты ни за что не отвечаешь? Ай-яй-яй, как нехорошо! — приговаривал Павел Иванович, тщательно отмеривая мне последние удары. — Вот так тебе за это… вот так… и вот так! — розга просвистела в воздухе последний раз, звучно стегнув напоследок посильнее, и я застонал, чувствуя, как на теле проступает последний длинный болезненный след. — Очень стыдно все это, юноша, ай-яй-яй!
Порка закончилась.
— Ну, все, хватит, — сказал совсем другим тоном Павел Иванович, откладывая розгу, и неожиданно ласково погладил меня по спине. — Молодец, Женя! Давай, приходи в себя. А ты, Леонид, помоги ему одеться, — и он вышел. Ленька подошел и сел рядом. Я лежал расслабленный, не в силах пошевелиться (как мне казалось). Ленька взял мою руку и пожал своими горячими пальцами. Я повернул голову, взглянул на него и улыбнулся. Он смотрел на меня широко раскрытыми, влюбленными глазами… и вдруг быстро приблизился ко мне и поцеловал мое плечо со следами от розги. Этот поцелуй, словно огнем, запечатлелся на моем теле. Я прикрыл глаза, блаженно улыбаясь. Как я был счастлив сейчас!..
Потом я легко вскочил на ноги. Боль от розги быстро проходила. Потом Ленька протирал мою спину одеколоном, и я извивался и визжал от боли. Это уж точно было больнее всякой розги, и мы хохотали. Потом я оделся, и мы пили чай с Ленькиными родителями — весело и дружно, как будто ничего не произошло, и вечер закончился прекрасно. Павел Иванович сам позвонил моему отцу, сообщил, что я у них в гостях и просил не волноваться: скоро я буду дома.
— Мне ничего не остается, — сказал он, обращаясь к нам, — как самому отправить Леонида проводить тебя, Женя, домой, драгоценный ты наш! Ступайте поскорее! Но только смотри, Ленька, быстро — туда и обратно!
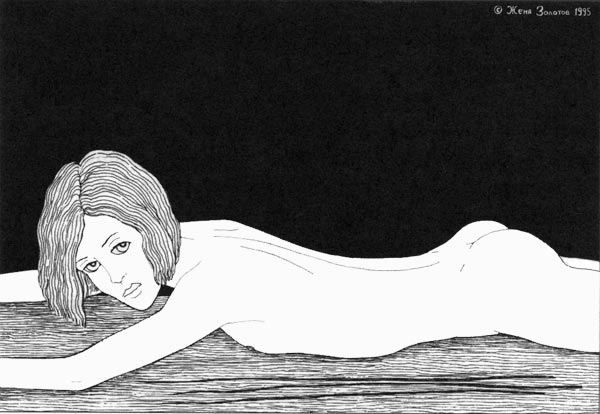
Часть 5
Мы медленно, не спеша, шли по тропинке через яблоневый сад. Высоко в небе стояла луна, заливая своим светом все вокруг. Из нашего кафе доносилась латиноамериканская музыка. Мы наслаждались царящим вокруг покоем. Было совершенно безлюдно. Мы изо всех сил старались продлить этот день, растягивали его, как могли — и, странно — казалось, он действительно никогда не кончится, казалось, это в нашей власти. Мы совсем не хотели расставаться, словно что-то было еще не договорено, что-то оставалось не сделано. Было прохладно. Ветер приятно обдувал мое тело под легкой одеждой, едва заметно болели следы от розги, и нежным огнем горел у меня на плече тот поцелуй Леньки. На душе у меня было легко и светло, настроение было прекрасное. Я выполнил все, что задумал, доказал себе и Леньке все, что хотел. И я прекрасно понимал, когда шел провожать Леньку, что, в конце концов, Павел Иванович будет вынужден сам отправить его со мной (как постоянного защитника в школе и на улице, по договоренности с моим отцом), чтобы он доставил меня в целости и сохранности. И мы опять будем идти вот этой знакомой тропинкой через яблоневый сад, вдыхая его влажный, ночной лиственный воздух, под этой луной. Это правильно, по-другому и быть не могло: день еще не закончился, нам нужно еще многое сказать друг другу, многое еще может случиться. И все произошло именно так, я мысленно улыбнулся: ай-яй-яй, какой я нехороший, какой хитрый мальчишка! Если бы Павел Иванович слышал эти мои мысли — накинул бы мне еще десяток розог. А теперь мы идем, вдвоем с Ленькой, по яблоневому саду. Нам еще долго идти, если не слишком торопиться. Вокруг никого — здесь никогда не бывает хулиганов или пьяных компаний: весь этот квартал, как вы, конечно, догадываетесь, контролировали по периметру усиленные наряды милиции, впрочем, совершенно не нарушая покой его обитателей, таких, как мой отец. Мы миновали поляну, на которой утром играли в бадминтон, и медленно двинулись дальше. Теперь справа и слева от нас была непроглядная черная чаща. Кроны деревьев, растущих по обе стороны тропинки, смыкались у нас над головами. Мы почти не видели друг друга, лишь смутно белел Ленькин льняной костюм да букет хризантем в моих руках. Ответственный Ленька взял меня за руку и осторожно повел, угадывая дорогу в темноте. Или так только казалось, может быть, это я его вел, как было в танце. Там, впереди, в таинственном мраке ночного райского сада, я знал, скрываются запретные зеленые яблоки — свежее и нежнее красных, которые едят все. Их аромат кружил мне голову, я чувствовал, как меня начинает охватывать волнение. Сердце забилось учащенно — так, что даже захватило дыхание, и стало немножко страшно, но это был особый страх, какое-то веселое отчаяние, словно я уже оторвался от земли, и обратного пути нет, есть только восхитительное чувство полета. Я сжимал горячую руку Леньки и понимал: после всего, что было в эти дни, между нами исчезли какие-то преграды, создававшие неловкость, а теперь приходит освобождение, и мне становится с Ленькой легко и радостно. Сейчас можно было говорить о чем угодно; казалось, будто я сплю, и все это мне снится.
— О чем ты думаешь? — тихо спросил я.
— Я думаю об этих днях, — ответил Ленька, тоже тихо. — Сколько всего произошло с нами… Хорошо было.
— Да, — кивнул я. — Помнишь, вчера? Вечер, фонари на бульваре, качели…
— Сегодня утром — игра в бадминтон, — сказал Ленька, — …солнце, апельсины…
— Зеленые яблоки, — напомнил я. — Купание.
— Испанское вино, — добавил Ленька, — хризантемы… и танец.
— Да, — я вздохнул. — А потом меня высекли. А тебя — накануне. Вот было хорошо!
Мы дружно рассмеялись, потом замолчали. Немного погодя Ленька снова заговорил.
— Я хотел тебе сказать… ТЫ самый лучший друг. И еще кое-что… — Он помолчал. — Ты очень хорошо танцуешь, лучше всех! Я этого не знал.
Это было приятно — то, что он сказал. Я улыбнулся в темноте. За деревьями, в кафе звучала музыка.
— Слышишь? — спросил Ленька. — Наша. — «Беса-ме мучо».
— Знаешь, как это переводится? — спросил я.
— Да, — ответил он. — Это значит — «Целуй меня всего…»
Мы снова засмеялись, продолжая идти все медленнее и медленнее.
— Послушай, — спросил я вдруг. — Почему тогда, ну когда я лежал на скамье, после наказания ты меня поцеловал?
В воздухе повисла звенящая тишина.
— Не знаю, — тихо произнес Ленька, и казалось, что он улыбается. Мы прошли еще немного. Наконец, я собрался с духом.
— Ленька, — начал я осторожно, — я хотел спросить тебя серьезно. В эти дни, когда мы с тобой гуляли, играли в бадминтон, загорали, купались, танцевали — что ты чувствовал? Только честно!
Он помолчал, потом сказал задумчиво:
— Если честно, Женька… Я чувствовало, что мне очень хорошо. Мне никогда еще так не было. Это были лучшие дни в моей жизни. Ты… — он запнулся, сглотнул, — ты совсем не похож на других ребят. Ты такой… добрый, открытый, нежный и… такой мужественный… И еще — ты самый красивый. В тебе есть что-то особое, необычное. Ты мне очень нравишься. Ты — мой лучший друг. И я бы хотел, чтобы мы всегда были вместе. Вот… поэтому я тебя поцеловал.
Сердце у меня забилось сильнее, и я заметил, что у нас обоих вспотели ладони. Я еще крепче сжал его руку.
— Ленька! — сказал я, облизывая пересохшие губы. — Ты мой самый лучший друг. Ты тоже мне очень нравишься… И я хочу всегда быть рядом с тобой. Я это понял еще весной, но я стеснялся. Мне казалось, это так стыдно, потому что мы оба мальчики. Но сейчас я уже не могу это скрывать, потому что тогда я сойду с ума. Ну, вот я тебе и сказал, — закончил я и умолк.
— Что ты, Женька, — произнес тихо Леонид, — какая разница, кто ты и кто я? Если мы оба… чувствуем, что нам очень… хочется быть вдвоем? Мне кажется, это и есть настоящая дружба — когда мне уже не важно, мальчик ты или девочка. Все равно ты — лучше всех! И кому какое дело, — добавил он, — если мне…
Я подхватил:
— …Если нам нравится вкус зеленых яблок, а не красных, которые едят все! — и мы тихо, нежно засмеялись.
Деревья над нами совсем сомкнулись. Луна ушла куда-то в сторону, стало совсем темно — только слышался шум листвы, доносилась музыка из кафе, и сводил с ума запах зеленых яблок. Мы шли все медленнее и медленнее, и, наконец, совсем остановились — не сговариваясь, словно поняли, что все, дальше идти некуда, мы уже пришли. Он поставил сумку на траву, я положил на нее цветы. Он повернулся ко мне, и так мы стояли — лицом к лицу, совсем близко друг к другу, взявшись за руки, словно собирались танцевать. Я слышал его дыхание, и его волосы почти касались моего лба. Этого не может быть, — подумал я, это мне сниться.
— Я люблю тебя, Ленька, — прошептал я, и, словно боясь, что не услышу от него ответ, спросил: — И ты меня тоже?
— Нет, это ты — тоже, — ответил он тихо, — а я — по-настоящему!
— И я тоже… По-настоящему!
Он наклонился ко мне, и наши губы соприкоснулись. Я впервые ощутил этот незнакомый вкус — его горячие влажные губы, так мучившие мое воображение… Я непроизвольно приоткрыл рот навстречу ему — все получалось как бы само собой — я даже не знал, что мы оба умеем так нежно, так страстно целоваться — нас ведь никто этому не учил. Он обнял меня, и я прижался к нему, чувствуя сквозь ткань одежды его всего — все его тело, гибкое и сильное, как у пантеры. Ленька ласкал меня, его руки скользнули под мою рубашку, гладили мои плечи, грудь, живот, стараясь проникнуть ниже… Меня бросило в жар, и я вдруг почувствовал, как мне нестерпимо, до боли мешает одежда:
— Подожди, подожди, Ленька, — сказал я задыхающимся голосом, — как говорил твой отец: «раздевайся, сейчас будет тебе по-настоящему».
Ленька отступил в темноту, и я смутно увидел, как он расстегивает и сбрасывает одежды. Я тоже быстро скинул пиджак куда-то в сторону сумки, за ним следом рубашку; сбросил ботинки — они легко поддались: на мне с утра, с бадминтона, так и не было ни носков, ни трусиков. Я почувствовал, как Ленькины пальцы расстегивают на мне пояс — брюки тут же соскользнули вниз, и я переступил через них. Все происходило удивительно быстро, в полном молчании, словно мы оба долго готовились, и лишь дожидались случая. Я стоял совершенно голый, дрожа от возбуждения, с замирающим сердцем. Мое тело обдувал свежий ночной воздух, босые ноги утопали в холодной траве. Ленька шагнул ко мне, обнял с нежной силой. Я тесно прижался к нему, не стыдясь — всем телом, и он увлек меня на холодную влажную траву, в ночную росу. Мы обнимали и ласкали друг друга, забыв про стыд, про холод, про время — нам было совершенно все равно. Я вдыхал запах его волос, слышал его учащенное дыхание, и неистово целовал его — всего, как в песне: шею, плечи, грудь — все то, что я так болезненно любил глазами при солнечном свете. И теперь я это жарко целовал, ощущая вкус крови на искусанных губах, и Ленька отвечал мне тем же — пока мы оба, достаточно осмелев, горячими тонкими пальцами бесстыдно ласкали друг друга в запретных местах, где было сосредоточено наслаждение… Я умоляю милосердного читателя — будьте снисходительны к бедным юношам: мы столько вытерпели, мы так долго мечтали друг о друге, и теперь мы были не в силах остановиться, были точно пьяные. Сейчас мы словно слились воедино. Наше блаженство, нарастая и увеличиваясь, достигло высшей точки. Я вдруг почувствовал, как меня всего обжигает изнутри, как все тело пронзает упоительная дрожь. И все наслаждение, и счастье последних минут, переполнив меня и уже не в силах сдерживаться, стремительным потоком изливается наружу — и мы оба одновременно задрожали и забились, как мокрые рыбы в сетях рыбака, обнимая друг друга, кусая в губы, и переплетаясь телами… Это ощущение было таким сильным и таким острым, что у меня даже закружилась голова, и на какую-то секунду я потерял сознание… Когда все утихло, я обнаружил, что мы лежим, обнявшись, в высокой траве, тяжело дыша, и моя голова покоится на Ленькином плече. Нежная усталость окутывала все тело, пальцы сводило. Наши руки и животы были мокрые и скользкие, и это почему-то было совсем не стыдно. В просвет между кронами деревьев, как по заказу, неожиданно выглянула луна (словно до этого она тактично отворачивалась), и я увидел Ленькино лицо. Он смотрел мне в глаза, нежно перебирал мои волосы, гладил по щеке.
— Ты, наверное, презираешь меня теперь, смеешься надомной? — спросил я, смущенно улыбаясь.
— Женька, милый… — сказал он тихо. — Какой ты сейчас красивый. Женька, ты знаешь, у тебя золотые глаза.
— Нет, серые… — удивился я.
— Точно, серые, а в самом центре, вокруг зрачка — золотые, и лучики расходятся в стороны, как у звездочки. У тебя золотые глаза, и сам ты — весь золотой: золотые волосы, тело золотое от загара и глаза золотые… Ты весь такой — Женя Золотов! — он нежно засмеялся, гладя мои волосы.
— …И золотые часы на руке! — закончил я, тоже смеясь. И сказал проникновенно: — Я люблю тебя, Ленька. «Тоже» и по-настоящему. Ты такой ласковый, такой сильный. Ты — лучше всех.
«Он не упомянул одного, — подумал я, — счетов в банке на мое имя». — И я был уверен, не случайно: это уж точно интересует Леньку меньше всего. Он не такой, я точно знал, для него, действительно, важнее были мои глаза.
— Кстати, Женька, — спросил он с беспокойством, — а где твои часы? И что они показывают?
Золотые швейцарские часы — единственное, что оставалось на мне из одежды, показывали, к нашему удивлению, всего — навсего без четверти двенадцать. Это означало, что с момента нашего выхода из Ленькиного дома прошло не более сорока минут.
«Ничего себе, — подумал я, — а мне казалось, что прошла целая вечность».
Мы еще немного повалялись в траве, расслабленно лаская друг друга, нежно болтая о всяких глупостях — и никак не могли насытиться этой первой ночью. Мы даже не сразу обратили внимание, когда поблизости послышались чьи-то шаги.
— Эй, что это вы тут делаете? — послышался сзади чей-то усталый, ворчливый голос, и кто-то бестактно осветил нас лучом карманного фонаря. Это оказался ночной сторож, совершающий обход яблоневого сада.
— Все, хватит, ребята, пора по домам!
Мы переглянулись, прячась в высокой траве, и дружно захохотали, зажимая рты. Ленька первый нехотя встал, надел свои белые брюки, потом нашел в траве куртку и собрал наши вещи. Я, стараясь, по обыкновению, не показывать свое лицо, накинул на плечи только пиджак, сразу уходя за деревья. Мы смеялись, слыша, как сторож ворчал нам вслед:
— Вот тоже, нашли место. И эта, тоже, разделась, бесстыжая!..
— О чем ты думаешь? — тихо спросил я.
— Я думаю об этих днях, — ответил Ленька, тоже тихо. — Сколько всего произошло с нами… Хорошо было.
— Да, — кивнул я. — Помнишь, вчера? Вечер, фонари на бульваре, качели…
— Сегодня утром — игра в бадминтон, — сказал Ленька, — …солнце, апельсины…
— Зеленые яблоки, — напомнил я. — Купание.
— Испанское вино, — добавил Ленька, — хризантемы… и танец.
— Да, — я вздохнул. — А потом меня высекли. А тебя — накануне. Вот было хорошо!
Мы дружно рассмеялись, потом замолчали. Немного погодя Ленька снова заговорил.
— Я хотел тебе сказать… ТЫ самый лучший друг. И еще кое-что… — Он помолчал. — Ты очень хорошо танцуешь, лучше всех! Я этого не знал.
Это было приятно — то, что он сказал. Я улыбнулся в темноте. За деревьями, в кафе звучала музыка.
— Слышишь? — спросил Ленька. — Наша. — «Беса-ме мучо».
— Знаешь, как это переводится? — спросил я.
— Да, — ответил он. — Это значит — «Целуй меня всего…»
Мы снова засмеялись, продолжая идти все медленнее и медленнее.
— Послушай, — спросил я вдруг. — Почему тогда, ну когда я лежал на скамье, после наказания ты меня поцеловал?
В воздухе повисла звенящая тишина.
— Не знаю, — тихо произнес Ленька, и казалось, что он улыбается. Мы прошли еще немного. Наконец, я собрался с духом.
— Ленька, — начал я осторожно, — я хотел спросить тебя серьезно. В эти дни, когда мы с тобой гуляли, играли в бадминтон, загорали, купались, танцевали — что ты чувствовал? Только честно!
Он помолчал, потом сказал задумчиво:
— Если честно, Женька… Я чувствовало, что мне очень хорошо. Мне никогда еще так не было. Это были лучшие дни в моей жизни. Ты… — он запнулся, сглотнул, — ты совсем не похож на других ребят. Ты такой… добрый, открытый, нежный и… такой мужественный… И еще — ты самый красивый. В тебе есть что-то особое, необычное. Ты мне очень нравишься. Ты — мой лучший друг. И я бы хотел, чтобы мы всегда были вместе. Вот… поэтому я тебя поцеловал.
Сердце у меня забилось сильнее, и я заметил, что у нас обоих вспотели ладони. Я еще крепче сжал его руку.
— Ленька! — сказал я, облизывая пересохшие губы. — Ты мой самый лучший друг. Ты тоже мне очень нравишься… И я хочу всегда быть рядом с тобой. Я это понял еще весной, но я стеснялся. Мне казалось, это так стыдно, потому что мы оба мальчики. Но сейчас я уже не могу это скрывать, потому что тогда я сойду с ума. Ну, вот я тебе и сказал, — закончил я и умолк.
— Что ты, Женька, — произнес тихо Леонид, — какая разница, кто ты и кто я? Если мы оба… чувствуем, что нам очень… хочется быть вдвоем? Мне кажется, это и есть настоящая дружба — когда мне уже не важно, мальчик ты или девочка. Все равно ты — лучше всех! И кому какое дело, — добавил он, — если мне…
Я подхватил:
— …Если нам нравится вкус зеленых яблок, а не красных, которые едят все! — и мы тихо, нежно засмеялись.
Деревья над нами совсем сомкнулись. Луна ушла куда-то в сторону, стало совсем темно — только слышался шум листвы, доносилась музыка из кафе, и сводил с ума запах зеленых яблок. Мы шли все медленнее и медленнее, и, наконец, совсем остановились — не сговариваясь, словно поняли, что все, дальше идти некуда, мы уже пришли. Он поставил сумку на траву, я положил на нее цветы. Он повернулся ко мне, и так мы стояли — лицом к лицу, совсем близко друг к другу, взявшись за руки, словно собирались танцевать. Я слышал его дыхание, и его волосы почти касались моего лба. Этого не может быть, — подумал я, это мне сниться.
— Я люблю тебя, Ленька, — прошептал я, и, словно боясь, что не услышу от него ответ, спросил: — И ты меня тоже?
— Нет, это ты — тоже, — ответил он тихо, — а я — по-настоящему!
— И я тоже… По-настоящему!
Он наклонился ко мне, и наши губы соприкоснулись. Я впервые ощутил этот незнакомый вкус — его горячие влажные губы, так мучившие мое воображение… Я непроизвольно приоткрыл рот навстречу ему — все получалось как бы само собой — я даже не знал, что мы оба умеем так нежно, так страстно целоваться — нас ведь никто этому не учил. Он обнял меня, и я прижался к нему, чувствуя сквозь ткань одежды его всего — все его тело, гибкое и сильное, как у пантеры. Ленька ласкал меня, его руки скользнули под мою рубашку, гладили мои плечи, грудь, живот, стараясь проникнуть ниже… Меня бросило в жар, и я вдруг почувствовал, как мне нестерпимо, до боли мешает одежда:
— Подожди, подожди, Ленька, — сказал я задыхающимся голосом, — как говорил твой отец: «раздевайся, сейчас будет тебе по-настоящему».
Ленька отступил в темноту, и я смутно увидел, как он расстегивает и сбрасывает одежды. Я тоже быстро скинул пиджак куда-то в сторону сумки, за ним следом рубашку; сбросил ботинки — они легко поддались: на мне с утра, с бадминтона, так и не было ни носков, ни трусиков. Я почувствовал, как Ленькины пальцы расстегивают на мне пояс — брюки тут же соскользнули вниз, и я переступил через них. Все происходило удивительно быстро, в полном молчании, словно мы оба долго готовились, и лишь дожидались случая. Я стоял совершенно голый, дрожа от возбуждения, с замирающим сердцем. Мое тело обдувал свежий ночной воздух, босые ноги утопали в холодной траве. Ленька шагнул ко мне, обнял с нежной силой. Я тесно прижался к нему, не стыдясь — всем телом, и он увлек меня на холодную влажную траву, в ночную росу. Мы обнимали и ласкали друг друга, забыв про стыд, про холод, про время — нам было совершенно все равно. Я вдыхал запах его волос, слышал его учащенное дыхание, и неистово целовал его — всего, как в песне: шею, плечи, грудь — все то, что я так болезненно любил глазами при солнечном свете. И теперь я это жарко целовал, ощущая вкус крови на искусанных губах, и Ленька отвечал мне тем же — пока мы оба, достаточно осмелев, горячими тонкими пальцами бесстыдно ласкали друг друга в запретных местах, где было сосредоточено наслаждение… Я умоляю милосердного читателя — будьте снисходительны к бедным юношам: мы столько вытерпели, мы так долго мечтали друг о друге, и теперь мы были не в силах остановиться, были точно пьяные. Сейчас мы словно слились воедино. Наше блаженство, нарастая и увеличиваясь, достигло высшей точки. Я вдруг почувствовал, как меня всего обжигает изнутри, как все тело пронзает упоительная дрожь. И все наслаждение, и счастье последних минут, переполнив меня и уже не в силах сдерживаться, стремительным потоком изливается наружу — и мы оба одновременно задрожали и забились, как мокрые рыбы в сетях рыбака, обнимая друг друга, кусая в губы, и переплетаясь телами… Это ощущение было таким сильным и таким острым, что у меня даже закружилась голова, и на какую-то секунду я потерял сознание… Когда все утихло, я обнаружил, что мы лежим, обнявшись, в высокой траве, тяжело дыша, и моя голова покоится на Ленькином плече. Нежная усталость окутывала все тело, пальцы сводило. Наши руки и животы были мокрые и скользкие, и это почему-то было совсем не стыдно. В просвет между кронами деревьев, как по заказу, неожиданно выглянула луна (словно до этого она тактично отворачивалась), и я увидел Ленькино лицо. Он смотрел мне в глаза, нежно перебирал мои волосы, гладил по щеке.
— Ты, наверное, презираешь меня теперь, смеешься надомной? — спросил я, смущенно улыбаясь.
— Женька, милый… — сказал он тихо. — Какой ты сейчас красивый. Женька, ты знаешь, у тебя золотые глаза.
— Нет, серые… — удивился я.
— Точно, серые, а в самом центре, вокруг зрачка — золотые, и лучики расходятся в стороны, как у звездочки. У тебя золотые глаза, и сам ты — весь золотой: золотые волосы, тело золотое от загара и глаза золотые… Ты весь такой — Женя Золотов! — он нежно засмеялся, гладя мои волосы.
— …И золотые часы на руке! — закончил я, тоже смеясь. И сказал проникновенно: — Я люблю тебя, Ленька. «Тоже» и по-настоящему. Ты такой ласковый, такой сильный. Ты — лучше всех.
«Он не упомянул одного, — подумал я, — счетов в банке на мое имя». — И я был уверен, не случайно: это уж точно интересует Леньку меньше всего. Он не такой, я точно знал, для него, действительно, важнее были мои глаза.
— Кстати, Женька, — спросил он с беспокойством, — а где твои часы? И что они показывают?
Золотые швейцарские часы — единственное, что оставалось на мне из одежды, показывали, к нашему удивлению, всего — навсего без четверти двенадцать. Это означало, что с момента нашего выхода из Ленькиного дома прошло не более сорока минут.
«Ничего себе, — подумал я, — а мне казалось, что прошла целая вечность».
Мы еще немного повалялись в траве, расслабленно лаская друг друга, нежно болтая о всяких глупостях — и никак не могли насытиться этой первой ночью. Мы даже не сразу обратили внимание, когда поблизости послышались чьи-то шаги.
— Эй, что это вы тут делаете? — послышался сзади чей-то усталый, ворчливый голос, и кто-то бестактно осветил нас лучом карманного фонаря. Это оказался ночной сторож, совершающий обход яблоневого сада.
— Все, хватит, ребята, пора по домам!
Мы переглянулись, прячась в высокой траве, и дружно захохотали, зажимая рты. Ленька первый нехотя встал, надел свои белые брюки, потом нашел в траве куртку и собрал наши вещи. Я, стараясь, по обыкновению, не показывать свое лицо, накинул на плечи только пиджак, сразу уходя за деревья. Мы смеялись, слыша, как сторож ворчал нам вслед:
— Вот тоже, нашли место. И эта, тоже, разделась, бесстыжая!..
Часть 6
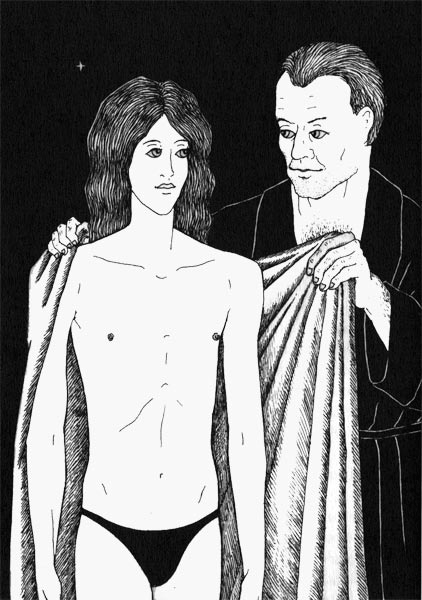
«Ленька, Ленька, — подумал я с нежным замиранием сердца, — милый мой, мы с тобой не знали, оказывается, у меня такая нежная кожа».
О том, что я скажу отцу, если он спросит, откуда у меня это, я предпочитал не думать. Но, несмотря на то, что я был не седьмом небе от счастья, я все-таки заметил, что чувствую себя как-то не очень хорошо: у меня немного кружилась голова и начинало знобить. Возможно, я все-таки простудился, гуляя ночью и лежа на холодной земле, или просто мое тело было не в состоянии перенести такое количество адреналина, как за эти два дня, а, может, и то, и другое вместе… а, впрочем, все это ерунда.
Я умылся холодной водой, надел рубашку, застегнув ее на все пуговицы, и вышел к столу, стараясь выглядеть как можно обыкновеннее.
Во время ужина я пытался быть веселым и оживленным, но от меня не укрылось, как отец внимательно, даже с тревогой, поглядывал на меня.
— Ты что-то неважно выглядишь, Женька, — заметил он, глядя, как я вяло ковыряю серебряной ложкой шоколадный торт, не в силах проглотить ни кусочка. Носом я клонился в блюдце.
— У меня что-то голова тяжелая… — я жалко улыбнулся. — И знобит… Мне так холодно…
Отец немедленно дал мне градусник и заставил подержать несколько минут, а когда взял обратно, взглянул на него и присвистнул.
