Страница:
— Ну, пусть теперь скажут, ваше высочество, что вы не преданы королю как родному брату!
— Но кто же мог усомниться в моей преданности, мадемуазель? — спросил принц.
— Весь двор, монсеньер, и я в частности.
— В том, что двор сомневается, нет ничего удивительного, ведь двор принадлежит господину де Гизу, в то время как вы, мадемуазель…
— Я ему еще не принадлежу, зато я хочу ему принадлежать: в этом различие между настоящим и будущим, монсеньер, ни более и ни менее.
— Значит, столь невероятный брак все еще реален?
— Более чем когда-либо, монсеньер.
— Не знаю почему, — проговорил принц, — но в голове у меня — вернее сказать, в сердце — гнездится тайная мысль, что он никогда не состоится.
— По правде говоря, я бы испугалась, мой принц, если бы вы не были столь дурным пророком.
— О Господи! Кто же подорвал в ваших глазах мою репутацию ученого астролога?
— Вы сами, принц.
— Каким же образом?
— Предсказав, что я вас полюблю.
— Неужели я на самом деле такое предсказывал?
— О, да я вижу, что вы забыли тот день, когда состоялась чудесная рыбная ловля.
— Чтобы это забыть, мадемуазель, мне пришлось бы порвать ячейки сети, куда вы меня поймали в тот день.
— О принц, вам следовало бы говорить о той сети, в которую вы поймали сами себя. Я никогда, благодарение Богу, не накидывала на вас сетей.
— Нет, но зато вы завлекали, подобно сиренам, о каких рассказывает Гораций.
— О! — воскликнула мадемуазель де Сент-Андре, знакомая с латынью, как все женщины того времени, столь же педантичные, сколь и галантные, — Гораций говорит: desinit in piscem 3. Посмотрите на меня, разве мог туловище заканчивается рыбьим хвостом?
— Нет, и потому вы еще опаснее, так как обладаете голосом и взором античных обольстительниц. Вы, возможно, сами того не ведая, безотчетно влечете меня к себе; но я уже, смею вас заверить, безвозвратно околдован.
— Если бы я хоть сколько-нибудь верила вашим словам, принц, я бы вас искренне пожалела, ибо любить без взаимности мне кажется самым жестоким испытанием для чувствительного сердца.
— Тогда пожалейте меня от всей души, мадемуазель: еще ни один человек не любил сильнее и не был менее любим, чем я.
— Вы должны, по крайней мере, отдать мне должное, принц, — улыбнулась мадемуазель де Сент-Андре, — ведь я предупредила вас заблаговременно.
— Прошу прощения, мадемуазель: тогда уже было слишком поздно.
— Так к какой же эре относится дата рождения вашей любви — к эре христианской или эре магометанской?
— К празднику ланди, мадемуазель, к тому несчастному или счастливому дню, когда, закутанная в накидку, вы показали мне свои волосы, растрепанные грозой и ниспадающие светлым каскадом на вашу лебединую шею.
— Но вы со мною в тот день почти не разговаривали, принц.
— Возможно, я слишком долго на вас смотрел и лицезрение убило речь. Ведь не разговаривают же со звездами: на них смотрят, о них мечтают и на них надеются.
— А знаете ли вы, принц, что такому сравнению позавидовал бы господин Ронсар?
— Оно вас поразило?
— Да; я не знала, что у вас такой поэтический склад ума.
— Поэты, мадемуазель, суть эхо природы: природа поет, а поэты повторяют ее песни.
— Невероятно, принц, и, похоже, я ошибалась на ваш счет, когда сказала про склад ума, вы ведь, кроме этого, обладаете прекрасным воображением.
— В моем сердце живет ваш образ, и этот сияющий образ освещает самые скромные мои слова, так что адресуйте только себе те достоинства, какими вы меня наделяете.
— Прекрасно, принц, тогда послушайтесь меня и закройте глаза, не разглядывайте больше мой образ во плоти; я хочу пожелать вам этого ради вашего же счастья.
Мадемуазель де Сент-Андре, сияя от своей победы, в то время как г-н де Конде был унижен поражением, сделала шаг к нему и, протянув руку, заявила:
— Примите ее, принц, ибо так я обращаюсь с побежденными.
Принц схватил белую, холодную руку девушки и жадно прильнул к ней губами.
От этого резкого движения дрожавшая на краю ресницы принца слеза, которую неуемная его гордость тщетно пыталась удержать, упала на эту мраморную руку, дрожа и сверкая, как бриллиант.
Мадемуазель де Сент-Андре одновременно увидела и почувствовала это.
— Ах! Клянусь верой! Полагаю, что вы плачете по-настоящему, принц? — воскликнула она и разразилась смехом.
— Это капля дождя после грозы, — ответил, вздыхая, принц, — что же тут вас удивляет?
Мадемуазель де Сент-Андре устремила горящий взор на принца, казалось, не зная, что избрать: кокетство или сострадание; наконец, так и не решив, что предпочесть, а возможно, под воздействием и того и другого сразу, она вынула из кармана изящный батистовый платок, без герба, без инициалов, но пропитанный запахом ее духов, и бросила его принцу.
— Держите, монсеньер, — сказала она, — если вас вдруг одолеет та же самая болезнь и вы заплачете, то вот платок, чтобы осушить ваши слезы.
Затем она бросила на него откровенно кокетливый взгляд:
— Пусть это будет память о неблагодарной! И, легкая, как фея, она исчезла.
Принц, наполовину обезумевший от любви, поймал платок, и, словно боясь, что у него отнимут столь драгоценный дар, ринулся к лестнице, более не вспоминая о том, что жизнь короля в опасности, забыв о том, что его кузен-адмирал должен зайти за ним к мадемуазель де Сент-Андре, и мечтая только об одном: о том, как он любовно покроет поцелуями этот драгоценный платок.
VII. ДОБРОДЕТЕЛЬ МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ СЕНТ-АНДРЕ
VIII. ЗАЛ МЕТАМОРФОЗ
— Но кто же мог усомниться в моей преданности, мадемуазель? — спросил принц.
— Весь двор, монсеньер, и я в частности.
— В том, что двор сомневается, нет ничего удивительного, ведь двор принадлежит господину де Гизу, в то время как вы, мадемуазель…
— Я ему еще не принадлежу, зато я хочу ему принадлежать: в этом различие между настоящим и будущим, монсеньер, ни более и ни менее.
— Значит, столь невероятный брак все еще реален?
— Более чем когда-либо, монсеньер.
— Не знаю почему, — проговорил принц, — но в голове у меня — вернее сказать, в сердце — гнездится тайная мысль, что он никогда не состоится.
— По правде говоря, я бы испугалась, мой принц, если бы вы не были столь дурным пророком.
— О Господи! Кто же подорвал в ваших глазах мою репутацию ученого астролога?
— Вы сами, принц.
— Каким же образом?
— Предсказав, что я вас полюблю.
— Неужели я на самом деле такое предсказывал?
— О, да я вижу, что вы забыли тот день, когда состоялась чудесная рыбная ловля.
— Чтобы это забыть, мадемуазель, мне пришлось бы порвать ячейки сети, куда вы меня поймали в тот день.
— О принц, вам следовало бы говорить о той сети, в которую вы поймали сами себя. Я никогда, благодарение Богу, не накидывала на вас сетей.
— Нет, но зато вы завлекали, подобно сиренам, о каких рассказывает Гораций.
— О! — воскликнула мадемуазель де Сент-Андре, знакомая с латынью, как все женщины того времени, столь же педантичные, сколь и галантные, — Гораций говорит: desinit in piscem 3. Посмотрите на меня, разве мог туловище заканчивается рыбьим хвостом?
— Нет, и потому вы еще опаснее, так как обладаете голосом и взором античных обольстительниц. Вы, возможно, сами того не ведая, безотчетно влечете меня к себе; но я уже, смею вас заверить, безвозвратно околдован.
— Если бы я хоть сколько-нибудь верила вашим словам, принц, я бы вас искренне пожалела, ибо любить без взаимности мне кажется самым жестоким испытанием для чувствительного сердца.
— Тогда пожалейте меня от всей души, мадемуазель: еще ни один человек не любил сильнее и не был менее любим, чем я.
— Вы должны, по крайней мере, отдать мне должное, принц, — улыбнулась мадемуазель де Сент-Андре, — ведь я предупредила вас заблаговременно.
— Прошу прощения, мадемуазель: тогда уже было слишком поздно.
— Так к какой же эре относится дата рождения вашей любви — к эре христианской или эре магометанской?
— К празднику ланди, мадемуазель, к тому несчастному или счастливому дню, когда, закутанная в накидку, вы показали мне свои волосы, растрепанные грозой и ниспадающие светлым каскадом на вашу лебединую шею.
— Но вы со мною в тот день почти не разговаривали, принц.
— Возможно, я слишком долго на вас смотрел и лицезрение убило речь. Ведь не разговаривают же со звездами: на них смотрят, о них мечтают и на них надеются.
— А знаете ли вы, принц, что такому сравнению позавидовал бы господин Ронсар?
— Оно вас поразило?
— Да; я не знала, что у вас такой поэтический склад ума.
— Поэты, мадемуазель, суть эхо природы: природа поет, а поэты повторяют ее песни.
— Невероятно, принц, и, похоже, я ошибалась на ваш счет, когда сказала про склад ума, вы ведь, кроме этого, обладаете прекрасным воображением.
— В моем сердце живет ваш образ, и этот сияющий образ освещает самые скромные мои слова, так что адресуйте только себе те достоинства, какими вы меня наделяете.
— Прекрасно, принц, тогда послушайтесь меня и закройте глаза, не разглядывайте больше мой образ во плоти; я хочу пожелать вам этого ради вашего же счастья.
Мадемуазель де Сент-Андре, сияя от своей победы, в то время как г-н де Конде был унижен поражением, сделала шаг к нему и, протянув руку, заявила:
— Примите ее, принц, ибо так я обращаюсь с побежденными.
Принц схватил белую, холодную руку девушки и жадно прильнул к ней губами.
От этого резкого движения дрожавшая на краю ресницы принца слеза, которую неуемная его гордость тщетно пыталась удержать, упала на эту мраморную руку, дрожа и сверкая, как бриллиант.
Мадемуазель де Сент-Андре одновременно увидела и почувствовала это.
— Ах! Клянусь верой! Полагаю, что вы плачете по-настоящему, принц? — воскликнула она и разразилась смехом.
— Это капля дождя после грозы, — ответил, вздыхая, принц, — что же тут вас удивляет?
Мадемуазель де Сент-Андре устремила горящий взор на принца, казалось, не зная, что избрать: кокетство или сострадание; наконец, так и не решив, что предпочесть, а возможно, под воздействием и того и другого сразу, она вынула из кармана изящный батистовый платок, без герба, без инициалов, но пропитанный запахом ее духов, и бросила его принцу.
— Держите, монсеньер, — сказала она, — если вас вдруг одолеет та же самая болезнь и вы заплачете, то вот платок, чтобы осушить ваши слезы.
Затем она бросила на него откровенно кокетливый взгляд:
— Пусть это будет память о неблагодарной! И, легкая, как фея, она исчезла.
Принц, наполовину обезумевший от любви, поймал платок, и, словно боясь, что у него отнимут столь драгоценный дар, ринулся к лестнице, более не вспоминая о том, что жизнь короля в опасности, забыв о том, что его кузен-адмирал должен зайти за ним к мадемуазель де Сент-Андре, и мечтая только об одном: о том, как он любовно покроет поцелуями этот драгоценный платок.
VII. ДОБРОДЕТЕЛЬ МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ СЕНТ-АНДРЕ
Конде остановился лишь у обрывистого берега реки, словно считал, что между ним и мадемуазель де Сент-Андре должно быть не менее пятисот шагов и только тогда он сможет спокойно обладать полученным сокровищем.
Вдобавок, именно там он вспомнил об адмирале и об обещании его подождать; он ждал почти четверть часа, прижимая платок к губам, прикладывая его к груди, словно шестнадцатилетний школьник, влюбившийся первый раз в жизни.
Другое дело, действительно ли он ожидал адмирала или находился там лишь ради того, чтобы подольше смотреть на свет, притягивающий его, словно ночную бабочку с блестящими крылышками, которая летит на огонь и в нем сгорает.
Да, он уже весь горел и пылал, этот бедный принц, и надушенный платок лишь разжигал в нем бушующий пламень.
Он был далек от мысли считать себя побежденным, этот горделивый рыцарь любви, и если бы, спрятавшись за шторами окна, юная девица увидела при лунном свете вторую слезу, слезу радости, горящую на кончике ресницы принца, то, без сомнения, она поняла бы, что этот платок, вместо того чтобы осушать слезы, обладал привилегией их порождать и что слезы сожаления уступили место слезам счастья.
Какое-то время принц предавался раздумьям о любви и страстно целовал подарок, полученный от девушки, но вдруг одно из чувств принца, до того пребывавшее в спячке, без сомнения мстя за пренебрежение им со стороны хозяина, внезапно пробудилось под воздействием неожиданного шороха. Этим чувством был его слух.
Шорох явно исходил из складок платка. Сначала еще можно было бы отнести этот шорох на счет сухих листьев, которые расшевелил осенний ветер; или, быть может, его производили насекомые, плотной массой заползавшие под кору дерева после дневных утех; или, не исключено, столь унылые звуки издавали капли воды, падающие на дно бассейнов из фонтанов.
Нет, этот тихий шорох был похож на тот, что издает в руках шелковое платье.
Так откуда же он доносился?
Само собой разумеется, очаровательный, крохотный батистовый платочек сам по себе и по своей воле не смог бы издавать столь заметного шуршания.
Принц де Конде, удивленный этими звуками, тщательно расправил платок, и тот во всей своей наивности раскрыл ему тайну.
Повинен был в этом шорохе скрученный листочек бумаги, по недосмотру очутившийся в складках платка.
При этом записка не просто была пропитана теми же духами, что и платок, но, возможно, как раз именно платок пропитался духами от записки.
Он попытался большим и указательным пальцами ухватить крошечный листок бумаги так же осторожно, как ребенок старается снять за крылышки бабочку с цветка; но, точно так же как бабочка, улетев, спасается от ребенка, эта записка, подхваченная порывом ветра, улетела от него.
Господин де Конде наблюдал за тем, как эта записка, точно снежинка, летела в ночной мгле, и наконец ринулся вслед за ней с гораздо большим пылом, чем ребенок бежит за бабочкой.
К несчастью, записка упала посреди строительного камня, заготовленного для работ во дворце, а поскольку она была почти того же цвета, что и сложенный песчаник, ее очень трудно было различить между камней.
Принц со страстным упорством принялся ее искать. Видимо, он все более и более утверждался во мнении (влюбленные ведь на самом деле странные люди!), что мадемуазель де Сент-Андре видела его под своими окнами, что она заранее заготовила эту записку, чтобы передать ему, как только представится возможность, и когда возможность представилась, она ее передала!
Эта крохотная записка была, вероятно, объяснением ее поведения, и подаренный платок был средством передать записку по назначению.
Согласитесь, было бы крайним невезением потерять эту записку.
Но г-н де Конде готов был поклясться именем Господним, что записка не потеряна, а надо лишь дождаться утра.
А пока он искал ее, но безрезультатно.
Тут ему пришла в голову идея направиться в караульное помещение Лувра, взять там фонарь и с ним отправиться на поиски.
Все так; но если вдруг за это время по скверному стечению обстоятельств налетит порыв ветра, кто тогда может поручиться, что принц найдет записку там, где ее оставил?
Так принц и стоял, преисполненный горьких раздумий, пока неожиданно не увидел ночной дозор во главе с сержантом, в руках которого был фонарь.
Лучшего в данный момент и нельзя было желать.
Он подозвал сержанта, назвался и в ответ на просьбу тотчас же получил фонарь.
После десятиминутных поисков он издал крик радости: на свое счастье, он отыскал записку!
На этот раз записка не пыталась убежать, и с несказанной радостью принц протянул за ней руку.
Но не успел он взять в руки этот листок бумаги, как чья-то рука легла ему на плечо и хорошо знакомый голос с некоторым удивлением спросил:
— Какого дьявола вы тут делаете, мой дорогой принц? Случайно не человека ищете?
Принц узнал голос адмирала.
Тут он поспешно вернул фонарь сержанту и дал дозорным два или три золотых, что были при нем, — скорее всего, все состояние бедного младшего отпрыска рода в данный момент.
— А! — проговорил он, — я ищу нечто еще более важное для влюбленного, чем человек для философа: ищу письмо от женщины.
— И вы его нашли?
— К счастью, да! Если бы я не проявил упорства сейчас, то, возможно, завтра одна из достойных придворных дам оказалась бы безнадежно скомпрометированной.
— А, дьявол! Вот что значит кавалер, умеющий хранить тайну! А сама записка?..
— Она имеет значение только для меня, мой дорогой адмирал, — заявил молодой принц и засунул в боковой карман камзола записку, которая была у него в руке. — Лучше расскажите мне, пока я вас провожу на улицу Бетизи, что произошло между маршалом де Сент-Андре и королем.
— Клянусь верой! Там произошло нечто весьма странное: в письме содержались предостережения по поводу казни советника Анн Дюбура, назначенной на двадцать второе.
— Ах, вот оно что, мой дорогой адмирал! — засмеялся принц Конде. — Его скорее всего написал какой-нибудь разъяренный человек, вкусивший гугенотской отравы.
— Клянусь Господом, меня одолевает страх, — произнес Колиньи. — Сомневаюсь, чтобы это поправило дела несчастного советника. Как теперь просить его помилования? Король, безусловно, после этого заявит: «Нет, ибо если советник не умрет, решат, что я испугался».
— Ну, хорошо, — промолвил Конде, — поразмыслите над столь серьезным вопросом, мой дорогой адмирал, и я не сомневаюсь, что вы благодаря своей мудрости найдете, конечно, способ уладить это дело.
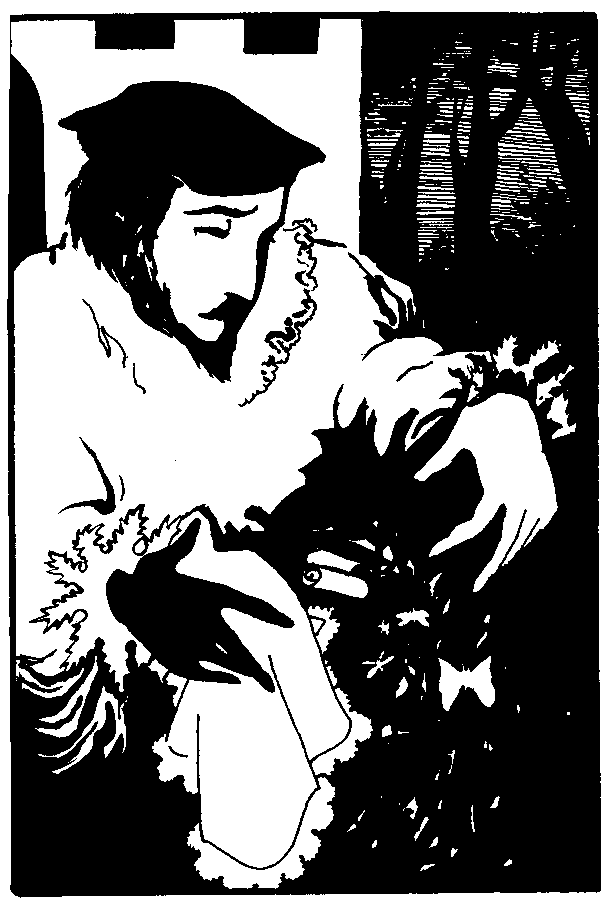
Когда они подошли к церкви Сен-Жермен-л'Оксеруа, откуда принц, чтобы добраться до своего особняка, должен был перейти Сену через Мельничный мост, в десяти шагах от которого в час ночи раздались оклики ночной стражи, он, сославшись на позднее время и дальность предстоящего пути, распрощался с адмиралом и направился к себе.
Адмирал тоже был слишком погружен в раздумья, чтобы его удерживать.
Таким образом, ничто не препятствовало уходу г-на де Конде, и тот, едва скрывшись из поля зрения сеньора де Шатийона, резко прибавил шаг, прижимая рукой драгоценную записку, лежавшую в кармане камзола, чтобы вновь ее не потерять. Но на этот раз опасность миновала!
Вернувшись домой, он буквально пронесся через пятнадцать или восемнадцать ступенек, что вели в его апартаменты; затем распорядился зажечь восковые свечи и отпустил камердинера, сказав, что его услуги более не понадобятся; заперев дверь, он пододвинул к себе подсвечник и достал записку из кармана. Все это заняло у него не более десяти минут.
Однако в тот миг, когда он разворачивал записку и готовился прочесть это столь очаровательное любовное послание (ибо надушенная записка не могла быть ничем иным), перед глазами его пробежало облачко, а сердце забилось так, что ему пришлось прислониться к камину.
Наконец принц успокоился. Взор его стал ясен, и он смог вглядеться в записку и прочесть начертанные на бумаге строки, еще не ведая, что смысл их весьма далек; от того, на что он рассчитывал в своих сладостных ожиданиях.
А вы, дорогие читатели, чего вы ожидаете от письма, по недосмотру завернутого в носовой платок, который мадемуазель де Сент-Андре бросила своему отчаявшемуся обожателю?
Вы знатоки человеческого сердца, неужели у вас сложилось доброе мнение об этой девушке, которая не любит ни милого пажа, ни прекрасного принца, назначает одному из них свидание, чтобы тот добыл ей удочку, бросает другому платок, чтобы тот утирал им слезы, пролитые из-за нее, и все это в то время, когда она собирается выходить замуж за третьего?
Действительно ли природа создает такие каменные сердца, способные устоять даже перед самым закаленным клинком? Вы в этом сомневаетесь?
Прочтите, что содержится в письме, и ваши сомнения исчезнут.
«Не забудьте, дорогая моя возлюбленная, прийти завтра, в час ночи, в зал Метаморфоз: комната, где мы уединялись вчера ночью, слишком близко от апартаментов обеих королев; наша конфидентка, чья верность Вам известна, проследит за тем, чтобы дверь была открыта!»
Подпись отсутствовала; почерк незнакомый.
— О извращенное создание! — воскликнул принц и ударил по столу кулаком, да так, что письмо упало на пол.
После этого первого взрыва чувств, исходившего из самых глубин сердца, принц на какое-то время ошеломленно замер.
Но вскоре к нему вернулись дар речи и способность двигаться, он несколько раз широким шагом прошелся по комнате, восклицая:
— Значит, адмирал был прав!
И, бросив очередной взгляд на письмо, поднял его и кинул в кресло.
— Выходит, — продолжал он, возбуждаясь все больше и больше, — я был игрушкой в руках не имеющей себе равных кокетки, и та, что играла мною, — всего лишь ребенок пятнадцати лет! Я, принц де Конде, то есть человек, считающийся при дворе лучшим знатоком женских сердец, оказался одурачен коварными проделками маленькой девчонки! Клянусь кровью Христовой! Мне стыдно за самого себя! Меня провели точно школяра, и я провел три месяца жизни — три месяца жизни умного человека — в напрасном самопожертвовании, выбросил их на ветер бессмысленно и бесцельно, бесславно и бесполезно, три месяца я страстно любил распутную мерзавку! Я! Я!
И он поднялся, взбешенный до предела.
— Так вот, — продолжал он, — раз теперь я ее знаю, посмотрим, кто кого перехитрит! Будем вести игру до самого конца. Вам известна моя игра, прелестная девица, ну а теперь мне, в свою очередь, стала известна ваша. И, ручаюсь вам, я узнаю имя этого человека, не сумевшего довольствоваться тихими радостями!
Принц скомкал записку, засунул ее внутрь перчатки, пристегнул шпагу, надел шляпу и уже приготовился выйти, но тут его внезапно остановила какая-то мысль.
Опершись локтями о стену, он обхватил голову руками и на какое-то время глубоко задумался; затем, поразмыслив, снял шляпу, пустив ее лететь по комнате, вновь уселся за стол и вторично прочел письмо, столь резко переменившее его умонастроение.
— Дьявольское отродье! — воскликнул он, кончив чтение. — Обманщица и лицемерка! Одной рукой ты манишь меня к себе, а другой отталкиваешь! Ты используешь против меня, человека честного до глупости, все уловки адского двуличия, а я ничего не вижу, ничего не понимаю; по дурости своей я полагался на ее верность, будучи сам ей верен, и склонялся перед лживой добродетелью, будучи сам добродетелен. Ах, да, я плакал; да, плакал от досады; да, плакал он счастья! Лейтесь же, лейтесь теперь, мои слезы, слезы стыда и ярости! Лейтесь и смойте же пятна, какими покрыла меня столь недостойная любовь! Лейтесь и уносите, как уносит поток опавшие листья, последние иллюзии юности, последние чаяния души!..
И действительно, принц — этот могучий дух, это львиное сердце — разразился рыданиями, точно ребенок.
Затем, когда рыдания прекратились, он перечитал письмо в третий раз, но уже безо всякой горечи.
Слезы унесли с собой не иллюзии юности и чаяния души, — их лишаются лишь те, кто никогда их не имел, — но, напротив, гнев и желчь. Правда, остались презрение и пренебрежение.
— Во всяком случае, — через миг проговорил он, — клянусь, что узнаю имя этого человека: а когда я его узнаю, то не может быть и речи о том, что тот, с кем она, должно быть, смеялась над моей глупой страстью, продолжал жить и издеваться надо мной!.. Но кто же он, — вновь спрашивал себя принц, — кто бы это мог быть?
И он опять перечитал письмо.
— Я знаю почерк почти всех при дворе, начиная от короля и кончая господином де Муши, а этого почерка я не знаю; внимательно вглядевшись, можно понять, что это почерк женщины, писавшей за кого-то еще. «Завтра, в час ночи, в зал Метаморфоз». Подождем до завтра, эту неделю Лувром командует Дандело: он протянет мне руку помощи, а при необходимости это сделает и господин адмирал.
Приняв это решение, принц три или четыре раза прошелся по комнате и кончил тем, что одетым бросился на постель.
Но все эти переживания, испытываемые им, привели его в лихорадочное состояние, не позволившее ему закрыть глаза ни на миг.
Ни разу он не чувствовал себя так накануне битвы, какой бы смертельной она ни представлялась.
К счастью, было еще очень рано: ночная стража, когда принц бросился в постель, прокричала, что наступило три часа ночи.
А на рассвете принц встал и вышел, направившись прямо к адмиралу. Господин де Колиньи поднимался рано, и принц застал его уже на ногах.
Завидев г-на де Конде, адмирал был поражен его бледностью и возбужденным состоянием.
— О Боже! — воскликнул он. — Как вы себя чувствуете, мой дорогой принц, и что с вами случилось?
— Помните, — ответил вопросом принц, — как вы вчера застали меня за поисками письма среди камней Лувра?
— Да, и даже то, что вы, к счастью, его отыскали.
— Счастье! Полагаю, что я тогда употребил именно это слово.
— Это письмо ведь от женщины?
— Да.
— И эта женщина?..
— Как вы и предсказывали, мой кузен, это лицемерное чудовище.
— А-а, мадемуазель де Сент-Андре! Похоже, речь идет именно о ней.
— Возьмите и прочитайте; это письмо, которое я тогда потерял: ветер вырвал его из подаренного ею платка.
Адмирал прочел.
А когда он дочитывал письмо, вошел Дандело, прибывший из Лувра, где он провел ночь. Он был того же возраста, что и принц, и их связывали прочные узы дружбы.
— Ах, мой милый Дандело! — воскликнул Конде. — Я пришел к господину адмиралу в надежде встретиться и с вами.
— Что ж, я здесь, мой принц.
— Мне хотелось бы попросить вас об одном одолжении.
— Я к вашим услугам.
— Вот о чем идет речь: по причине, которую мне не позволено назвать вам, мне необходимо оказаться в этот вечер, около полуночи, в зале Метаморфоз; существует ли причина, что может мне закрыть туда доступ?
— Да, монсеньер, к моему величайшему сожалению.
— Так в чем же дело?
— В том, что его величество получил этой ночью угрожающее письмо: некий человек утверждает, будто имеет возможность добраться до короля, и король отдал самые строгие распоряжения, запрещающие после десяти часов вечера вход в Лувр всем дворянам, не находящимся на службе.
— Но, мой дорогой Дандело, — возразил принц, — эта мера не может распространяться на меня: до нынешнего времени я обладал правом входа в Лувр в любой час, и если только принятые меры не направлены лично против меня…
— Само собой разумеется, монсеньер, эта мера не могла быть принята лично против вас; однако, если она принята против всех на свете, то и вы попадаете в это число.
— Что ж, Дандело, тогда для меня придется сделать исключение по причинам, известным господину адмиралу, причинам, не имеющим ни малейшего отношения к происшедшему: по сугубо личным мотивам я обязан сегодня в полночь находиться в зале Метаморфоз, и дело это не только срочное, но и должно оставаться тайной для всех, включая даже его величество.
Дандело заколебался, стыдясь отказать в чем-то принцу.
Он повернулся к адмиралу, спрашивая его взглядом, как поступить. Адмирал едва заметно кивнул, что было равносильно фразе из четырех слов: «Я за него ручаюсь».
Дандело повел себя столь же галантно.
— Что ж, монсеньер, — проговорил он, — признайтесь же, что в основе вашей экспедиции, разумеется, лежит любовь, и тогда, если мне сделают замечание, я, по крайней мере, буду знать, что это связано с делом, достойным благородного человека.
— О! В таком случае, я ничего не собираюсь от вас скрывать, Дандело: клянусь честью, любовь — единственная причина, заставляющая меня просить вас оказать мне услугу.
— Что ж, монсеньер, — заявил Дандело, — договорились, и в полночь я вас провожу в зал Метаморфоз.
— Спасибо, Дандело! — воскликнул принц, протягивая ему руку, — и если вам потребуется помощь в таком же деле или каком-либо ином, не ищите себе, умоляю вас, иного помощника, кроме меня!
И пожав по очереди руки обоим братьям, Луи де Конде быстро спустился по лестнице особняка Колиньи.
Вдобавок, именно там он вспомнил об адмирале и об обещании его подождать; он ждал почти четверть часа, прижимая платок к губам, прикладывая его к груди, словно шестнадцатилетний школьник, влюбившийся первый раз в жизни.
Другое дело, действительно ли он ожидал адмирала или находился там лишь ради того, чтобы подольше смотреть на свет, притягивающий его, словно ночную бабочку с блестящими крылышками, которая летит на огонь и в нем сгорает.
Да, он уже весь горел и пылал, этот бедный принц, и надушенный платок лишь разжигал в нем бушующий пламень.
Он был далек от мысли считать себя побежденным, этот горделивый рыцарь любви, и если бы, спрятавшись за шторами окна, юная девица увидела при лунном свете вторую слезу, слезу радости, горящую на кончике ресницы принца, то, без сомнения, она поняла бы, что этот платок, вместо того чтобы осушать слезы, обладал привилегией их порождать и что слезы сожаления уступили место слезам счастья.
Какое-то время принц предавался раздумьям о любви и страстно целовал подарок, полученный от девушки, но вдруг одно из чувств принца, до того пребывавшее в спячке, без сомнения мстя за пренебрежение им со стороны хозяина, внезапно пробудилось под воздействием неожиданного шороха. Этим чувством был его слух.
Шорох явно исходил из складок платка. Сначала еще можно было бы отнести этот шорох на счет сухих листьев, которые расшевелил осенний ветер; или, быть может, его производили насекомые, плотной массой заползавшие под кору дерева после дневных утех; или, не исключено, столь унылые звуки издавали капли воды, падающие на дно бассейнов из фонтанов.
Нет, этот тихий шорох был похож на тот, что издает в руках шелковое платье.
Так откуда же он доносился?
Само собой разумеется, очаровательный, крохотный батистовый платочек сам по себе и по своей воле не смог бы издавать столь заметного шуршания.
Принц де Конде, удивленный этими звуками, тщательно расправил платок, и тот во всей своей наивности раскрыл ему тайну.
Повинен был в этом шорохе скрученный листочек бумаги, по недосмотру очутившийся в складках платка.
При этом записка не просто была пропитана теми же духами, что и платок, но, возможно, как раз именно платок пропитался духами от записки.
Он попытался большим и указательным пальцами ухватить крошечный листок бумаги так же осторожно, как ребенок старается снять за крылышки бабочку с цветка; но, точно так же как бабочка, улетев, спасается от ребенка, эта записка, подхваченная порывом ветра, улетела от него.
Господин де Конде наблюдал за тем, как эта записка, точно снежинка, летела в ночной мгле, и наконец ринулся вслед за ней с гораздо большим пылом, чем ребенок бежит за бабочкой.
К несчастью, записка упала посреди строительного камня, заготовленного для работ во дворце, а поскольку она была почти того же цвета, что и сложенный песчаник, ее очень трудно было различить между камней.
Принц со страстным упорством принялся ее искать. Видимо, он все более и более утверждался во мнении (влюбленные ведь на самом деле странные люди!), что мадемуазель де Сент-Андре видела его под своими окнами, что она заранее заготовила эту записку, чтобы передать ему, как только представится возможность, и когда возможность представилась, она ее передала!
Эта крохотная записка была, вероятно, объяснением ее поведения, и подаренный платок был средством передать записку по назначению.
Согласитесь, было бы крайним невезением потерять эту записку.
Но г-н де Конде готов был поклясться именем Господним, что записка не потеряна, а надо лишь дождаться утра.
А пока он искал ее, но безрезультатно.
Тут ему пришла в голову идея направиться в караульное помещение Лувра, взять там фонарь и с ним отправиться на поиски.
Все так; но если вдруг за это время по скверному стечению обстоятельств налетит порыв ветра, кто тогда может поручиться, что принц найдет записку там, где ее оставил?
Так принц и стоял, преисполненный горьких раздумий, пока неожиданно не увидел ночной дозор во главе с сержантом, в руках которого был фонарь.
Лучшего в данный момент и нельзя было желать.
Он подозвал сержанта, назвался и в ответ на просьбу тотчас же получил фонарь.
После десятиминутных поисков он издал крик радости: на свое счастье, он отыскал записку!
На этот раз записка не пыталась убежать, и с несказанной радостью принц протянул за ней руку.
Но не успел он взять в руки этот листок бумаги, как чья-то рука легла ему на плечо и хорошо знакомый голос с некоторым удивлением спросил:
— Какого дьявола вы тут делаете, мой дорогой принц? Случайно не человека ищете?
Принц узнал голос адмирала.
Тут он поспешно вернул фонарь сержанту и дал дозорным два или три золотых, что были при нем, — скорее всего, все состояние бедного младшего отпрыска рода в данный момент.
— А! — проговорил он, — я ищу нечто еще более важное для влюбленного, чем человек для философа: ищу письмо от женщины.
— И вы его нашли?
— К счастью, да! Если бы я не проявил упорства сейчас, то, возможно, завтра одна из достойных придворных дам оказалась бы безнадежно скомпрометированной.
— А, дьявол! Вот что значит кавалер, умеющий хранить тайну! А сама записка?..
— Она имеет значение только для меня, мой дорогой адмирал, — заявил молодой принц и засунул в боковой карман камзола записку, которая была у него в руке. — Лучше расскажите мне, пока я вас провожу на улицу Бетизи, что произошло между маршалом де Сент-Андре и королем.
— Клянусь верой! Там произошло нечто весьма странное: в письме содержались предостережения по поводу казни советника Анн Дюбура, назначенной на двадцать второе.
— Ах, вот оно что, мой дорогой адмирал! — засмеялся принц Конде. — Его скорее всего написал какой-нибудь разъяренный человек, вкусивший гугенотской отравы.
— Клянусь Господом, меня одолевает страх, — произнес Колиньи. — Сомневаюсь, чтобы это поправило дела несчастного советника. Как теперь просить его помилования? Король, безусловно, после этого заявит: «Нет, ибо если советник не умрет, решат, что я испугался».
— Ну, хорошо, — промолвил Конде, — поразмыслите над столь серьезным вопросом, мой дорогой адмирал, и я не сомневаюсь, что вы благодаря своей мудрости найдете, конечно, способ уладить это дело.
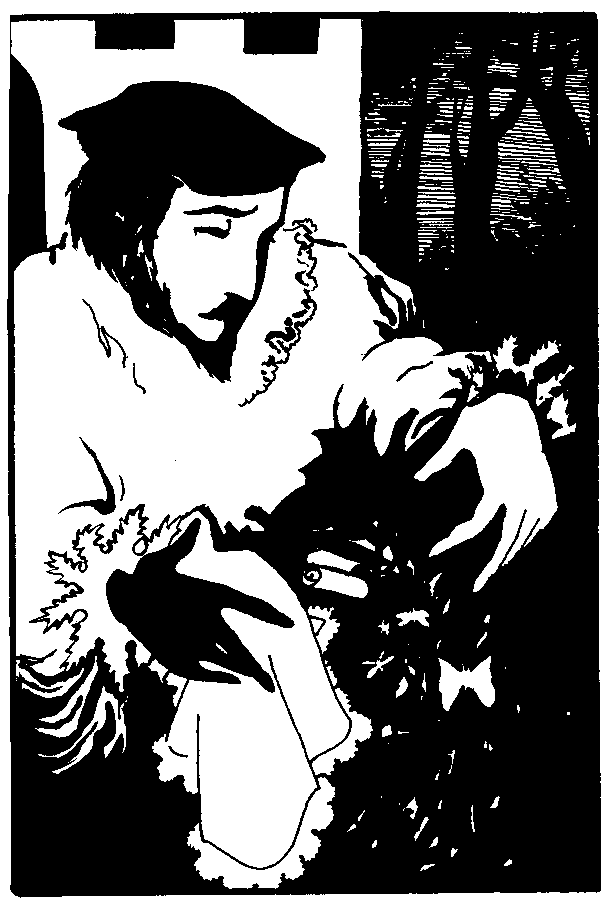
Когда они подошли к церкви Сен-Жермен-л'Оксеруа, откуда принц, чтобы добраться до своего особняка, должен был перейти Сену через Мельничный мост, в десяти шагах от которого в час ночи раздались оклики ночной стражи, он, сославшись на позднее время и дальность предстоящего пути, распрощался с адмиралом и направился к себе.
Адмирал тоже был слишком погружен в раздумья, чтобы его удерживать.
Таким образом, ничто не препятствовало уходу г-на де Конде, и тот, едва скрывшись из поля зрения сеньора де Шатийона, резко прибавил шаг, прижимая рукой драгоценную записку, лежавшую в кармане камзола, чтобы вновь ее не потерять. Но на этот раз опасность миновала!
Вернувшись домой, он буквально пронесся через пятнадцать или восемнадцать ступенек, что вели в его апартаменты; затем распорядился зажечь восковые свечи и отпустил камердинера, сказав, что его услуги более не понадобятся; заперев дверь, он пододвинул к себе подсвечник и достал записку из кармана. Все это заняло у него не более десяти минут.
Однако в тот миг, когда он разворачивал записку и готовился прочесть это столь очаровательное любовное послание (ибо надушенная записка не могла быть ничем иным), перед глазами его пробежало облачко, а сердце забилось так, что ему пришлось прислониться к камину.
Наконец принц успокоился. Взор его стал ясен, и он смог вглядеться в записку и прочесть начертанные на бумаге строки, еще не ведая, что смысл их весьма далек; от того, на что он рассчитывал в своих сладостных ожиданиях.
А вы, дорогие читатели, чего вы ожидаете от письма, по недосмотру завернутого в носовой платок, который мадемуазель де Сент-Андре бросила своему отчаявшемуся обожателю?
Вы знатоки человеческого сердца, неужели у вас сложилось доброе мнение об этой девушке, которая не любит ни милого пажа, ни прекрасного принца, назначает одному из них свидание, чтобы тот добыл ей удочку, бросает другому платок, чтобы тот утирал им слезы, пролитые из-за нее, и все это в то время, когда она собирается выходить замуж за третьего?
Действительно ли природа создает такие каменные сердца, способные устоять даже перед самым закаленным клинком? Вы в этом сомневаетесь?
Прочтите, что содержится в письме, и ваши сомнения исчезнут.
«Не забудьте, дорогая моя возлюбленная, прийти завтра, в час ночи, в зал Метаморфоз: комната, где мы уединялись вчера ночью, слишком близко от апартаментов обеих королев; наша конфидентка, чья верность Вам известна, проследит за тем, чтобы дверь была открыта!»
Подпись отсутствовала; почерк незнакомый.
— О извращенное создание! — воскликнул принц и ударил по столу кулаком, да так, что письмо упало на пол.
После этого первого взрыва чувств, исходившего из самых глубин сердца, принц на какое-то время ошеломленно замер.
Но вскоре к нему вернулись дар речи и способность двигаться, он несколько раз широким шагом прошелся по комнате, восклицая:
— Значит, адмирал был прав!
И, бросив очередной взгляд на письмо, поднял его и кинул в кресло.
— Выходит, — продолжал он, возбуждаясь все больше и больше, — я был игрушкой в руках не имеющей себе равных кокетки, и та, что играла мною, — всего лишь ребенок пятнадцати лет! Я, принц де Конде, то есть человек, считающийся при дворе лучшим знатоком женских сердец, оказался одурачен коварными проделками маленькой девчонки! Клянусь кровью Христовой! Мне стыдно за самого себя! Меня провели точно школяра, и я провел три месяца жизни — три месяца жизни умного человека — в напрасном самопожертвовании, выбросил их на ветер бессмысленно и бесцельно, бесславно и бесполезно, три месяца я страстно любил распутную мерзавку! Я! Я!
И он поднялся, взбешенный до предела.
— Так вот, — продолжал он, — раз теперь я ее знаю, посмотрим, кто кого перехитрит! Будем вести игру до самого конца. Вам известна моя игра, прелестная девица, ну а теперь мне, в свою очередь, стала известна ваша. И, ручаюсь вам, я узнаю имя этого человека, не сумевшего довольствоваться тихими радостями!
Принц скомкал записку, засунул ее внутрь перчатки, пристегнул шпагу, надел шляпу и уже приготовился выйти, но тут его внезапно остановила какая-то мысль.
Опершись локтями о стену, он обхватил голову руками и на какое-то время глубоко задумался; затем, поразмыслив, снял шляпу, пустив ее лететь по комнате, вновь уселся за стол и вторично прочел письмо, столь резко переменившее его умонастроение.
— Дьявольское отродье! — воскликнул он, кончив чтение. — Обманщица и лицемерка! Одной рукой ты манишь меня к себе, а другой отталкиваешь! Ты используешь против меня, человека честного до глупости, все уловки адского двуличия, а я ничего не вижу, ничего не понимаю; по дурости своей я полагался на ее верность, будучи сам ей верен, и склонялся перед лживой добродетелью, будучи сам добродетелен. Ах, да, я плакал; да, плакал от досады; да, плакал он счастья! Лейтесь же, лейтесь теперь, мои слезы, слезы стыда и ярости! Лейтесь и смойте же пятна, какими покрыла меня столь недостойная любовь! Лейтесь и уносите, как уносит поток опавшие листья, последние иллюзии юности, последние чаяния души!..
И действительно, принц — этот могучий дух, это львиное сердце — разразился рыданиями, точно ребенок.
Затем, когда рыдания прекратились, он перечитал письмо в третий раз, но уже безо всякой горечи.
Слезы унесли с собой не иллюзии юности и чаяния души, — их лишаются лишь те, кто никогда их не имел, — но, напротив, гнев и желчь. Правда, остались презрение и пренебрежение.
— Во всяком случае, — через миг проговорил он, — клянусь, что узнаю имя этого человека: а когда я его узнаю, то не может быть и речи о том, что тот, с кем она, должно быть, смеялась над моей глупой страстью, продолжал жить и издеваться надо мной!.. Но кто же он, — вновь спрашивал себя принц, — кто бы это мог быть?
И он опять перечитал письмо.
— Я знаю почерк почти всех при дворе, начиная от короля и кончая господином де Муши, а этого почерка я не знаю; внимательно вглядевшись, можно понять, что это почерк женщины, писавшей за кого-то еще. «Завтра, в час ночи, в зал Метаморфоз». Подождем до завтра, эту неделю Лувром командует Дандело: он протянет мне руку помощи, а при необходимости это сделает и господин адмирал.
Приняв это решение, принц три или четыре раза прошелся по комнате и кончил тем, что одетым бросился на постель.
Но все эти переживания, испытываемые им, привели его в лихорадочное состояние, не позволившее ему закрыть глаза ни на миг.
Ни разу он не чувствовал себя так накануне битвы, какой бы смертельной она ни представлялась.
К счастью, было еще очень рано: ночная стража, когда принц бросился в постель, прокричала, что наступило три часа ночи.
А на рассвете принц встал и вышел, направившись прямо к адмиралу. Господин де Колиньи поднимался рано, и принц застал его уже на ногах.
Завидев г-на де Конде, адмирал был поражен его бледностью и возбужденным состоянием.
— О Боже! — воскликнул он. — Как вы себя чувствуете, мой дорогой принц, и что с вами случилось?
— Помните, — ответил вопросом принц, — как вы вчера застали меня за поисками письма среди камней Лувра?
— Да, и даже то, что вы, к счастью, его отыскали.
— Счастье! Полагаю, что я тогда употребил именно это слово.
— Это письмо ведь от женщины?
— Да.
— И эта женщина?..
— Как вы и предсказывали, мой кузен, это лицемерное чудовище.
— А-а, мадемуазель де Сент-Андре! Похоже, речь идет именно о ней.
— Возьмите и прочитайте; это письмо, которое я тогда потерял: ветер вырвал его из подаренного ею платка.
Адмирал прочел.
А когда он дочитывал письмо, вошел Дандело, прибывший из Лувра, где он провел ночь. Он был того же возраста, что и принц, и их связывали прочные узы дружбы.
— Ах, мой милый Дандело! — воскликнул Конде. — Я пришел к господину адмиралу в надежде встретиться и с вами.
— Что ж, я здесь, мой принц.
— Мне хотелось бы попросить вас об одном одолжении.
— Я к вашим услугам.
— Вот о чем идет речь: по причине, которую мне не позволено назвать вам, мне необходимо оказаться в этот вечер, около полуночи, в зале Метаморфоз; существует ли причина, что может мне закрыть туда доступ?
— Да, монсеньер, к моему величайшему сожалению.
— Так в чем же дело?
— В том, что его величество получил этой ночью угрожающее письмо: некий человек утверждает, будто имеет возможность добраться до короля, и король отдал самые строгие распоряжения, запрещающие после десяти часов вечера вход в Лувр всем дворянам, не находящимся на службе.
— Но, мой дорогой Дандело, — возразил принц, — эта мера не может распространяться на меня: до нынешнего времени я обладал правом входа в Лувр в любой час, и если только принятые меры не направлены лично против меня…
— Само собой разумеется, монсеньер, эта мера не могла быть принята лично против вас; однако, если она принята против всех на свете, то и вы попадаете в это число.
— Что ж, Дандело, тогда для меня придется сделать исключение по причинам, известным господину адмиралу, причинам, не имеющим ни малейшего отношения к происшедшему: по сугубо личным мотивам я обязан сегодня в полночь находиться в зале Метаморфоз, и дело это не только срочное, но и должно оставаться тайной для всех, включая даже его величество.
Дандело заколебался, стыдясь отказать в чем-то принцу.
Он повернулся к адмиралу, спрашивая его взглядом, как поступить. Адмирал едва заметно кивнул, что было равносильно фразе из четырех слов: «Я за него ручаюсь».
Дандело повел себя столь же галантно.
— Что ж, монсеньер, — проговорил он, — признайтесь же, что в основе вашей экспедиции, разумеется, лежит любовь, и тогда, если мне сделают замечание, я, по крайней мере, буду знать, что это связано с делом, достойным благородного человека.
— О! В таком случае, я ничего не собираюсь от вас скрывать, Дандело: клянусь честью, любовь — единственная причина, заставляющая меня просить вас оказать мне услугу.
— Что ж, монсеньер, — заявил Дандело, — договорились, и в полночь я вас провожу в зал Метаморфоз.
— Спасибо, Дандело! — воскликнул принц, протягивая ему руку, — и если вам потребуется помощь в таком же деле или каком-либо ином, не ищите себе, умоляю вас, иного помощника, кроме меня!
И пожав по очереди руки обоим братьям, Луи де Конде быстро спустился по лестнице особняка Колиньи.
VIII. ЗАЛ МЕТАМОРФОЗ
Припомните, дорогие читатели, лихорадочные часы, медленно сменявшие друг друга, когда вы готовились к своему первому свиданию, или, что еще лучше, восстановите в памяти острую тоску, сжимающую сердце в ожидании той роковой минуты, что должна принести вам доказательства неверности обожаемой вами женщины, — и тогда у вас возникнет представление о том, как медленно и тоскливо протекал для бедного принца де Конде тот день, казавшийся ему нескончаемым.
Он попытался претворить в жизнь известный рецепт медиков и философов всех времен: побеждать тревогу духа изнурением тела. Распорядившись подать самую быструю из своих лошадей, он вскочил на нее и помчался, бросив поводья или подумав, что бросил их, и через четверть часа лошадь и всадник очутились в Сен-Клу, куда при выезде из особняка г-н де Конде не имел ни малейшего намерения следовать.
Он направил свою лошадь в противоположную сторону. Но не прошло и часа, как он оказался на том же месте: замок Сен-Клу превратился для него в магнитную гору мореплавателей из «Тысячи и одной ночи», куда непрестанно возвращались корабли, несмотря на бесплодные усилия удалиться от нее.
Средство философов и медиков, безошибочно действующее на всех, было бесполезным для принца де Конде — так, во всяком случае, могло показаться. Да, он пытался весь этот день, вплоть до самого вечера, изнурять тело, но все равно с самого утра испытывал томление духа.
И как только день стал клониться к закату, он вернулся к себе, разбитый, унылый, изнывающий от страсти.
Камердинер подал ему три письма, судя по почерку — от первых дам двора: он их даже не распечатал. Камердинер же сообщил ему, что некий молодой человек уже шесть раз в течение дня заходил, заявляя, будто у него имеются чрезвычайно важные сведения, предназначенные лично для принца, и каждый раз, несмотря на все настояния, отказываясь назвать свое имя, а принц обратил внимание на эту новость не более чем если бы ему сказали: «Монсеньер, хорошая погода» или «Монсеньер, идет дождь».
Он поднялся в спальню и машинально открыл книгу. Но какая книга способна притупить боль от укуса этой змеи, грызущей сердце?
Он бросился на постель; но как плохо он ни спал прошлой ночью, как ни утомился от дневной скачки, он тщетно призывал себе на помощь друга, называемого сном и, подобно прочим друзьям, неразлучного с нами в дни счастья и исчезающего тогда, когда он особенно нужен, то есть в дни невзгод.
Настал долгожданный час; колокол на башне прозвенел двенадцать раз; проследовала стража, крича:
— Полночь!
Принц набросил на себя плащ, пристегнул шпагу, подвесил к поясу кинжал и вышел.
Нет необходимости спрашивать, куда он направился.
В десять минут первого он был у ворот Лувра.
У часового уже было соответствующее распоряжение, так что принцу достаточно было назвать себя, и он вошел.
Он попытался претворить в жизнь известный рецепт медиков и философов всех времен: побеждать тревогу духа изнурением тела. Распорядившись подать самую быструю из своих лошадей, он вскочил на нее и помчался, бросив поводья или подумав, что бросил их, и через четверть часа лошадь и всадник очутились в Сен-Клу, куда при выезде из особняка г-н де Конде не имел ни малейшего намерения следовать.
Он направил свою лошадь в противоположную сторону. Но не прошло и часа, как он оказался на том же месте: замок Сен-Клу превратился для него в магнитную гору мореплавателей из «Тысячи и одной ночи», куда непрестанно возвращались корабли, несмотря на бесплодные усилия удалиться от нее.
Средство философов и медиков, безошибочно действующее на всех, было бесполезным для принца де Конде — так, во всяком случае, могло показаться. Да, он пытался весь этот день, вплоть до самого вечера, изнурять тело, но все равно с самого утра испытывал томление духа.
И как только день стал клониться к закату, он вернулся к себе, разбитый, унылый, изнывающий от страсти.
Камердинер подал ему три письма, судя по почерку — от первых дам двора: он их даже не распечатал. Камердинер же сообщил ему, что некий молодой человек уже шесть раз в течение дня заходил, заявляя, будто у него имеются чрезвычайно важные сведения, предназначенные лично для принца, и каждый раз, несмотря на все настояния, отказываясь назвать свое имя, а принц обратил внимание на эту новость не более чем если бы ему сказали: «Монсеньер, хорошая погода» или «Монсеньер, идет дождь».
Он поднялся в спальню и машинально открыл книгу. Но какая книга способна притупить боль от укуса этой змеи, грызущей сердце?
Он бросился на постель; но как плохо он ни спал прошлой ночью, как ни утомился от дневной скачки, он тщетно призывал себе на помощь друга, называемого сном и, подобно прочим друзьям, неразлучного с нами в дни счастья и исчезающего тогда, когда он особенно нужен, то есть в дни невзгод.
Настал долгожданный час; колокол на башне прозвенел двенадцать раз; проследовала стража, крича:
— Полночь!
Принц набросил на себя плащ, пристегнул шпагу, подвесил к поясу кинжал и вышел.
Нет необходимости спрашивать, куда он направился.
В десять минут первого он был у ворот Лувра.
У часового уже было соответствующее распоряжение, так что принцу достаточно было назвать себя, и он вошел.
