Еще в XII веке Аверроэс разработал поэтику зрелища (драматического действа?), содержащую некоторые замечания о поэзии, – в ней он следовал Аристотелю, однако без особой оригинальности222 , но его различение истории и поэзии отлично от аристотелевского и, во всяком случае, ново для эпохи Средневековья. Тот, кто рассказывает «истории» (заметьте, не «историю»), соединяет факты, не упорядочивая их. Поэт же подходит с численной мерой и правилами (то есть со стихотворным метром) к фактам правдивым или правдоподобным, но также говорит об общих понятиях. Поэтому поэзия гораздо философичнее, чем просто придуманный рассказ. Поэзии никогда не следует прибегать к средствам убеждающим или риторическим, ее удел – имитация. Имитировать нужно с такой живостью и красочностью, чтобы вещь, как настоящая, явилась перед глазами. Когда поэт отказывается от подобных средств и переходит к рассуждениям, он грешит перед своим искусством223.
Под влиянием вульгарной поэзии в схоластических предписаниях постепенно начинает проявляться осознание новых ценностей, пробивающих себе дорогу в мире слов и зрительных образов. Начинают замечать, что поэзия – это нечто новое и более глубокое, чем простые упражнения в метрике. Твердо придерживаясь позиций схоластов, Александр Гэльский рассматривает поэтический жанр как знание ненаучное и нехудожественное (inartificialis sive поп scietialis)224, но теперь поэты умеют обращаться с наукой иным, новым образом и говорят о веселой науке225. В лице трубадуров мы имеем дело с поэтикой вдохновения; благодать нахождения (trovare) дается как прямой дар Бога, скажет Хуан де Баэна в прологе к своему «Cancionero»; для него поэзия становится чем-то вроде субъективной декларации, сентиментального излияния.
Готфрид из Венсофа указывает, что разум должен контролировать порывы руки и управлять ее ходом при помощи заранее обдуманного плана226 . Но когда одетый в доспехи Персефаль из романа Кретьена де Труа впервые садится на коня, тщетно сведущий человек, приставленный к нему как наставник, будет объяснять, что каждое искусство требует долгого и усердного изучения. Молодой уроженец Галлии, который ничего не знает о схоластической теории искусства (подобно автору он, вероятно, и знать ее не хочет), бросается вперед с копьем наперевес, не ведая страха: «Сама Природа меня научит, и ежели Природе угодно, то при помощи пыла сердца нет ничего трудного»227.
Иллюстрации к главе X



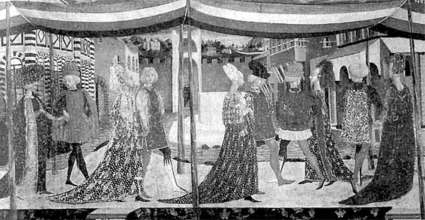
XI ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФАНТАЗИЯ И ДОСТОИНСТВО ХУДОЖНИКА
Под влиянием вульгарной поэзии в схоластических предписаниях постепенно начинает проявляться осознание новых ценностей, пробивающих себе дорогу в мире слов и зрительных образов. Начинают замечать, что поэзия – это нечто новое и более глубокое, чем простые упражнения в метрике. Твердо придерживаясь позиций схоластов, Александр Гэльский рассматривает поэтический жанр как знание ненаучное и нехудожественное (inartificialis sive поп scietialis)224, но теперь поэты умеют обращаться с наукой иным, новым образом и говорят о веселой науке225. В лице трубадуров мы имеем дело с поэтикой вдохновения; благодать нахождения (trovare) дается как прямой дар Бога, скажет Хуан де Баэна в прологе к своему «Cancionero»; для него поэзия становится чем-то вроде субъективной декларации, сентиментального излияния.
Готфрид из Венсофа указывает, что разум должен контролировать порывы руки и управлять ее ходом при помощи заранее обдуманного плана226 . Но когда одетый в доспехи Персефаль из романа Кретьена де Труа впервые садится на коня, тщетно сведущий человек, приставленный к нему как наставник, будет объяснять, что каждое искусство требует долгого и усердного изучения. Молодой уроженец Галлии, который ничего не знает о схоластической теории искусства (подобно автору он, вероятно, и знать ее не хочет), бросается вперед с копьем наперевес, не ведая страха: «Сама Природа меня научит, и ежели Природе угодно, то при помощи пыла сердца нет ничего трудного»227.
Иллюстрации к главе X
34. Роспись Зала Баронов в Кастелло-ди-Манта близ Салуццо. Ок. 1420 г.

35. «Фонтан молодости». Роспись Зала Баронов в Кастелло-ди-Манта близ Салуццо. Ок. 1420 г.

36. Манускрипт Сфорца. Ок. 1450-1460 гг.

37. Сцена городского гуляния. Роспись кассона Адимари. Середина XV в.
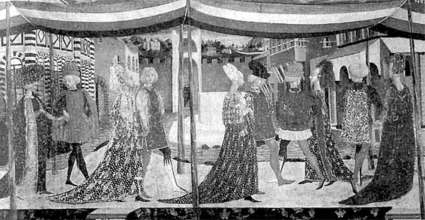
XI ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФАНТАЗИЯ И ДОСТОИНСТВО ХУДОЖНИКА
1. Новое представление о достоинстве искусства и ценности поэтической фантазии вошло в средневековую культуру постепенно. Схоластическая теория была слишком ригористичной, чтобы воспринять подобные идеи. Тем не менее философия не была абсолютно глуха к ним, и то, что она говорила по этому поводу, свидетельствует не только о непонимании или осуждении.
Когда, к примеру, св. Фома Аквинский говорит о поэзии как об учении низменном (infima doctrina) и сообщает, что «поэзия не может быть познана человеческим разумом, поскольку она нарушает истину»228, он вовсе не хочет окончательно обесценить modus poeticus (как, впрочем, не хочет провоцировать и проблему perceptio confusa, подобную той, на которую, казалось, указывал Баумгарт). Он просто повторяет общее место относительно искусства как «делания», занятия более низкого, чем философия. В рассматриваемом отрывке поэзия сравнивается со Священным Писанием, и при таком сравнении она может только проиграть. Что до нарушения истины (defectus veritatis), то его следует понимать так: поэзия – не научный род речи, она рассказывает о вещах, которые не существуют в действительности. «Поэт... пользуется метафорами для того, чтобы представлять вещи... поскольку представление по природе своей есть нечто услаждающее человека»229; из этого следует, что предмет поэзии не может быть предметом познания в узком смысле слова. В остальном же св. Фома вполне осознавал эстетическую и гедонистическую ценность поэзии. Таким образом, мы имеем дело вовсе не с осуждением, а скорее с равнодушием теории ко всему приятному, что заключено в поэзии, в особенности там, где она, как кажется, не занимается поучением. Конрад Хирсаусский в «Диалоге об авторах» («Dialogue Super Auctores») отмечает, что поэт именуется «выдумщиком» (fictor), «потому что вместо правды он говорит ложь или смешивает ложь с правдой»230, и зачастую поэтическая речь не имеет особой силы (virtus), но представляет собой только звук голоса (sonum tantummodo vocis).
Схоластическая теория не могла предположить, как это сделали современные специалисты, что поэзия может выявлять природу вещей с силой и широтой, которые недоступны рациональной мысли. Причиной тому была приверженность дидактической концепции искусства. Когда поэзия излагает известные истины, она, самое большее, способна изложить их приятно, но не открывает ничего нового. Не знавшие истины Откровения языческие поэты могли иногда говорить истину лишь благодаря Божественному вдохновению. Если Сенека утверждает в VIII Послании к Луци-лию: «Ведь как много поэты говорят такого, что или сказано, или должно быть сказано философами!»231 – то Средневековье истолковывает эту фразу в наиболее поверхностном и непосредственном смысле: поэзия говорит о предметах научных и философских, и «слагать», как выражается Жан де Мён, означает «трудиться на ниве философии». Настает момент, когда такие предшественники гуманизма, как Альбертино Муссато, учреждают новую поэтическую доктрину. Последний утверждает, что поэзия – это наука, явившаяся к нам прямо с небес, некий Божественный дар: «...то была наука, ниспосланная самим Небом, подобно тому как закон исходит от Бога»232. Поэты античности были Божьими глашатаями, и в этом смысле поэзию можно рассматривать как вторичную теологию: «...кем бы ни был пророк– он был сосудом Божьим». Св. Фома прибег к сделанному Аристотелем в первой книге «Метафизики» («Metaphysica») подразделению ранних космогонических поэтов на теологов и философов, но при этом он полагал, что только философы (для него – теологи) при-частны Божественному знанию, в то время как поэты «лгут, как говорит народная пословица» (mentiuntur, sicut dicitur in proverbio vulgari).
О мифических поэтах – Орфее, Мусее и Линее – св. Фома с явной снисходительностью говорит, что они могут в лучшем случае поведать нам посредством иносказания или басни (sub fabulari similitudine) о том, что вода была началом всех вещей233.
Предшественники гуманистов добавили к схоластической терминологии двойственное понятие поэта-теолога (poeta theologus); эта идея родилась в споре со сторонниками аристотелевского интеллектуализма, такими как брат Джованнино из Мантуи. Под покровом традиционных понятий они создали совершенно новую концепцию поэзии234. Эудженио Гарин описал ее как «попытку придать поэзии роль откровения, осмыслить ее как центральный и высший момент человеческого опыта... в котором человек видит свою подлинную природу... отождествляет себя с живым ритмом вещей и сливается с ним как нечто, одновременно способное перевести все в образы и в то же время быть формой общения людей»235.
Но если этот новый смысл ощутим в стихах светских поэтов и прямо выражен у некоторых ранних гуманистов, то схоластической теории он остается чужд. Поэзия Священного Писания виделась совершенно иной – менее украшательной, более точной в своих аллегориях и в конечном счете превосходящей человеческую. В видениях мистиков, в их эстетическом экстазе, проникнутом верой и благостью, не находили ничего общего с экстазом в романтическом смысле. Более того, и дидактическая поэзия никогда не рассматривалась как более «глубокий» род творчества, чем философия. Различие между интуицией и размышлением относилось к противопоставлению мистицизма и философии, а не дидактической поэзии и философии. Теорию искусства нельзя упрекнуть в том, что она избегала этой проблемы, ее ценность заключалась в выделении иных аспектов творчества, в том, что она сохранила понимание рукотворного и созидательного характера искусства, сознание того, что художественное присутствует в техническом, а техническое – в художественном. Это забытые уроки, к которым эстетика начинает обращаться вновь.
2. Еще одна проблема, которую обсуждает средневековая теория искусства, не замечая ни новой поэзии, ни нового поэтического самосознания, это проблема прообраза в сознании художника – проблема творческой фантазии. В классической эстетике платоновская теория идеи претерпела изменения: изначально она использовалась для дискредитации искусства, постепенно стала объяснять свойственное художникам воображение. Эллинистическая мысль пришла к переоценке творчества и согласилась с тем, что художник способен создать идеально прекрасный образ, не существующий в природе. А вместе с Филостратом люди полагали, что художник может вовсе освободиться от существующих в природе образцов и даже от привычного восприятия как такового. Так пролагало себе дорогу понятие воображения, содержащее в себе предпосылки интуитивной эстетики236. Стоики способствуют такому развитию, а Цицерон в диалоге «Об ораторе» («De Oratore») наметил теорию внутренней фантазии, которая выше чувственной реальности. Если тот или иной прекрасный предмет (species) нуждается в мысли (cogitas), чтобы быть созданным, то либо он оказывается менее совершенным, чем формы, которые реально существуют в природе, либо приходится считать, что художественные идеи наделены подлинным метафизическим совершенством. Плотин, конечно, придерживается второй точки зрения. Внутренняя идея есть возвышенный и совершенный прообраз, благодаря которому художник наслаждается умственным созерцанием основополагающих принципов природы. Искусство стремится воплотить эту идею, но делает это с трудом и только отчасти успешно: материя Плотина сопротивляется такому оформлению, она не дает лепить себя внутреннему образу, тогда как материя Аристотеля не сопротивляется своей форме. Доя Плотина более важным, однако, было ощущение достоинства внутреннего видения художника, образца, живущего в его сознании237.
Все люди Средневековья – и платоники, и арио тотелианцы – верили в существование прообраза в сознании художника (in mente artifices), они полагали, что произведение создается в соответствии с ним, не очень беспокоясь о том, как происходит его материальное воплощение. Но как все-таки оно оформляется в мозгу художника? Откуда оно исходит и каким является сознанию?
Для Августина человеческая душа обладает свойством прибавлять к вещам или отнимать от них, чтобы изменить содержимое своей памяти, созданное опытом. Таким образом, прибавив или отняв что-нибудь от формы ворона, можно получить нечто, в природе не существующее238. В сущности, это механизм воображения, набросанный в начале послания «Ad Pisones». При всех возможностях, которые открывал Августину его врожденный ум, он так и не смог отойти от взгляда на воображение как имитацию. Как мы уже видели, к своей теории вдохновения ближе всего Средние века подошли в трактате Теофила «О различных искусствах» («Schedula Diversarum Artium»).
Сейчас принято думать, что уникальность искусства состоит не в его независимости от природы и опыта. В искусстве соединяются плоды нашего опыта; они пережиты, переработаны и заново усвоены в согласии с обычной деятельностью воображения, художественное своеобразие сообщает произведению искусства тот способ, при помощи которого эта переработка обретает конкретность и предстает перед нашим восприятием: в процессе взаимодействия между пережитым опытом, волей художника и внутренними законами обрабатываемого материала. Но и современная эстетика долгое время исходила из того, что существует воплощаемая в произведении идея, совершенная сама в себе. В споре о ней родился ряд существенных наблюдений. Средневековье, передав их «по наследству» Возрождению и маньеризму, в то же время не смогло существенно углубить проблему: в рамках аристотелевской теории искусства феномен воплощения идеи не мог получить удовлетворительного истолкования.
Для св. Фомы художественная идея вещи, которую предстоит создать, существует в уме художника как идеальный образ, по подобию которого создается нечто (forma exemplaris ad cujus similitudinem aliquid constituiter). «Творящий разум, заранее видящий образ творения, обладает идеей воспроизводимой вещи». «Аристотелизм» этой позиции подчеркивается тем обстоятельством, что речь идет не об идее субстанциональной формы, формы как чего-то отличного от материи, подобия платоновской сущности. Скорее это прообраз формы, рожденной в связи с материей; формы, устанавливающей единство с материей, «поэтому сама идея соотносится не только с формой или только с материей, но с композицией целого; она осуществляется во всем: как в форме, так и в материи». Создаваемый организм управляется одной идеальной формой, и св. Фома подчеркивает единство композиции: когда архитектор представляет дом, он мыслит в то же время все его свойства: план, высоту и т. д. Частности будут продуманы позднее, когда здание будет построено: орнаментация, роспись стен и прочее. Здесь стоит снова отметить сугубо функционалистское понимание искусства, при котором услаждающие элементы не принадлежат собственно художественной идее239.
Этот прообраз возникает в сознании художника как результат стремления к подражанию, поскольку стремится воспроизвести объект, существующий в природе. Но в случае, когда создается новый объект – дом, сказка, статуя чудовища, – первичная идея порождается воображением (phantasia), которое представляет собой одну из четырех внутренних сил чувственной натуры человека (наряду со здравым смыслом, способностью оценивать или размышлять и памятью) и формируется живым опытом, словно хранилище чувственно воспринимаемых образов (quasi thesaurus quidam formarum per sensum acceptarum)240. Посредством воображения мы можем вызвать из памяти некий предмет или же сочетать разные формы так, словно мы действительно видим их241. Такое сочетание форм наиболее типично для деятельности воображения и может быть объяснено без ссылки на какую-либо иную человеческую способность: «Авиценна утверждает, что есть пятая сила, соединяющая реальное и воображаемое, которая сопоставляет и разделяет воображаемые формы; так, из воображаемой формы золота и воображаемой формы горы мы составляем форму золотой горы, которой мы никогда не видели. Такая способность не провляется ни у кого из живых существ, кроме человека, свойство воображения которого способно на это»242.
Эта теория откровенно эмпирична и интеллек-туалистична. Ее положительные стороны – ясность и простота, она объясняет искусство, не прибегая к иррациональному и сверхъестественному. Но аристотелевско-томистской теории недостает более сложного представления о творческой силе воображения, которое, в принципе, могло бы быть развито на основе существующих предпосылок и осознания того, что искусство, даже опирающееся на силы разума и опыт ремесла, есть трудоемкий процесс, в котором не физическое действие следует замыслам ума, но сам ум постигает творение в процессе творчества. Жиль-сон задается вопросом: каким же образом искусство, если оно принадлежит сфере интеллекта, способно запечатлевать идеи в материи? Сам интеллект этого не может243. Последователи Аристотеля полагали, что художественный процесс не является спонтанным и не ведет к уникальному акту творения, по сути они игнорировали субъективность и эмоциональность искусства.
3. По мере того как рыцарский идеал становился утонченнее, основополагающая средневековая добродетель (kalokagathia) приобретала все более эстетический характер. Один из примеров – «Роман о Розе» («Le Roman de la Rose»), куртуазная любовь – другой. Эстетические ценности прежде были выражены в стилизованных формулах, прилагаемых к человеческой жизни, истолкованной в категориях Божественного. Теперь они стали общественными ценностями. Центром общественной и художественной жизни стала женщина – суровая феодальная эпоха проходила мимо нее, но теперь она прочно заняла свое место в литературе. Ценность чувств возросла, и поэзия событий уступила первенство поэзии личных признаний. Много позднее романтизм в своем восхищении Средневековьем создал искаженный образ истории, но он верно открыл в нем ростки эстетики чувства, рождение новой чувствительности, чреватой безответной страстью, заставляющей поэзию выразить несказанное (у романтиков это станет мазохистским влечением к недоступной принцессе (d'une princesse lointaine). И все это несмотря на условность и строгость аллегорий, которая была свойственна новой куртуазной поэзии и поэзии трубадуров.
В этих условиях схоластическая теория искусства оказалась почти беспомощной. С самого начала лишь отчасти способная объяснить изящные искусства, она в лучшем случае могла найти обоснование искусству дидактическому, в котором ясное, заранее данное знание несло прообраз и выражалось в соответствии с нормами. Но когда Данте говорит, что он выражает диктуемое изнутри Любовью, мы сталкиваемся с чем-то иным, даже если определим эту «Любовь» философски: это новое понимание творчества, с очевидностью связанное с миром страсти и чувства. Оно возвещает рождение современного эстетического чувства – и всех его проблем.
Только мистики могли бы сообщить новой поэзии способ выражения ее мыслей, ее чувств и ее интуитивной природы. Конечно, мистицизм касается других сфер души, но в нем присутствуют зерна будущей эстетики вдохновения и интуиции. Подобно тому как платоновская традиция сделала возможной теорию художественных идей, францисканская сосредоточенность на любви и воле предвещала эстетику чувства. Теория св. Бонавен-туры открывала в потаенных глубинах души потребность в гармонической плавности (aequalitas numerosa), подсказывая будущей эстетике вдохновения путь к определению внутреннего воображения.
Уже во францисканском спиритуализме, как и в мистике Гуго Сен-Викторского, можно усмотреть основу эстетической интуиции. Она заключается в разделении ума и разума; при этом первый обозначает созерцание и синтезирующее видение: «созерцание, свободное, словно полет, охватывает [все предметы] с удивительной легкостью»244.
Иудео-арабская мысль также подходила к эстетике воображения. Иегуда Леви в своей «Liber Cosri» говорит о небесном даре поэта – непосредственном внутреннем видении, о его прозрениях, о поэте, который лелеет в себе законы гармонии и реализует их, даже не умея их формулировать. Есть люди, владеющие всеми поэтическими правилами, но не способные ничего создать: «те, кто от природы являются поэтами, [могут] мгновенно создать прелестное и безукоризненное стихотворение»245. Здесь наступает предел интеллектуализма Боэция. Для Авиценны, с которым св. Фома полемизировал как раз по поводу воображения, воображение возвышает чувства и, спускаясь с небес, порождает совершенную форму: «беседу в стихах, или форму удивительной красоты»246. В то же время через всю средневековую традицию проходит мотив Божественного безумия поэта, так и не нашедший, однако, теоретического осмысления247.
Для Мейстера Экхарта формы всего сотворенного существуют первоначально в сознании Бога, и всегда, когда воображение задумывает некий предмет, это своего рода озарение или благодать мудрости; человеческие идеи скорее обретаются, чем формируются; все, "что задумано человеком, уже существует в Боге: «Слово берет свое могущество от Слова Первоначального». Искать художественный образец вовсе не значит сочинять: это значит мистически сосредоточить взгляд на той реальности, которую надлежит воспроизвести вплоть до полного самоотождествления с нею. Но идеи, существующие в Боге и сообщенные уму человека, являются не столько платоновскими архетипами, сколько образами действия, силами, принципами организации. При этом идеи живут, они существуют не как стандарты (standarts), но как идеи деяний, которые надлежит совершить. Реальная вещь возникает из идеи, словно произрастая из нее. Теория Экхарта внешне напоминает аристотелевскую, но ей присуще большее ощущение динамизма и порождающей силы идей248. Нашедший выражение образ есть «эманация формы» (formalis emanatio) и «осознает свою возрастающую силу» (sapit proprie ebullitionem). Он не отличается от образца, он живет с ним, он заключается в нем и идентичен ему: «Образ и его прототип не различаются между собой и не представляют собой две различные субстанции... Образ в действительности есть простая и формальная эманация, развитие исходно простой и голой сущности; это внутренняя эманация, осуществленная в безмолвии и без воздействия извне, – это некая жизнь, так как образ вещи произрастает из нее самой и начинает существовать сам по себе»249. Из этих плодотворных идей рождается новое понимание художественного процесса. Если мы изымем их из контекста психологии мистицизма и теологии Троицы, то откроем в них то, что более не принадлежит Средним векам, – источники новых путей в эстетике, близких уже нашему миру.
4. Пока теоретики боролись с проблемами, художники обрели сознание собственной значимости. Конечно, это сознание никогда не исчезало в Средневековье, хотя различные общественные, религиозные и психологические обстоятельства культивировали смирение и то, что выглядит как стремление к анонимности.
В раннем Средневековье широко почитался Туотил, легендарный монах из монастыря Сент Галлен, проживший жизнь художника. Его считали сведущим во всех искусствах, он был пригож, красноречив, обладал приятным голосом, умел играть на органе и флейте, слыл великолепным оратором и собеседником, владел изобразительными искусствами, – в общем, он был идеалом человека и «гуманиста» эпохи Каролингов. Говорят, что и Абеляр был во многом похож на него, он писал своему сыну Астролябию, что мертвые продолжают жить в творениях поэтов. Сохранилось множество свидетельств того почтения, которым были окружены поэты и художники. Но формы, в которых выражалось это почтение, часто были экстравагантны. Например, монахи аббатства Сен-Рюф под покровом ночи похищают молодого паренька, необычайно сведущего в искусстве живописи, которого соборный капитул Нотр-Дам-де-Дом в Авиньоне ревностно оберегал. В действительности такого рода эпизоды изобличают определенную недооценку искусства, тенденцию рассматривать художника как предмет, который можно использовать и даже обменивать. Они поддерживают образ средневекового художника, посвятившего себя смиренному труду во имя веры и на благо общины, – образ, совершенно отличный от художника Возрождения, кичащегося своей неповторимостью.
Схоластическая теория искусства поддерживала этот смиренный образ, поскольку абсолютно объективистская концепция искусства не принимала во внимание влияния личности на его произведения. Распространенная тенденция принижать «механические» искусства также мешала архитекторам и скульпторам искать личной славы. Фигуративные произведения создавались для ар-хитектурых построек, были плодами труда артели, и самое большее, что художники и ремесленники могли оставить на память о себе, это монограммы, вырезанные на замковых камнях. Впрочем, и сегодня рассеянный зритель, который не удосуживается прочесть титры фильма, склонен рассматривать его как произведение анонимное, о котором лучше всего напомнят не имена создателей, а сюжет или герои.
В отличие от представителей механических искусств (mecanici) поэты достаточно рано добились полного признания своей значимости. Искусства «механические» сохранили нам лишь имена самых известных архитекторов, однако каждое стихотворение имело определенного автора, осознававшего оригинальность своего стиля и своих мыслей. Многочисленные доказательства тому можно найти у Теодульфа Орлеанского, Валафрида Страбона, Готфрида из Витербо. Начиная с XI века каждый поэт хорошо понимал, что его труд – это способ достигнуть бессмертия. Произошло так, что как раз в это время понятие ars стали связывать преимущественно с занятиями логикой и грамматикой, и это негативно отразилось на искусстве литераторов (auctores), бывшем все еще живым во времена Иоанна Солсберийского. Писатели, той поры, реагируя на подобное унижение, еще больше утверждают собственное значение. К примеру, Жан де Мён полагает, что благородство по рождению – ничто по сравнению с благородством литератора.
Когда, к примеру, св. Фома Аквинский говорит о поэзии как об учении низменном (infima doctrina) и сообщает, что «поэзия не может быть познана человеческим разумом, поскольку она нарушает истину»228, он вовсе не хочет окончательно обесценить modus poeticus (как, впрочем, не хочет провоцировать и проблему perceptio confusa, подобную той, на которую, казалось, указывал Баумгарт). Он просто повторяет общее место относительно искусства как «делания», занятия более низкого, чем философия. В рассматриваемом отрывке поэзия сравнивается со Священным Писанием, и при таком сравнении она может только проиграть. Что до нарушения истины (defectus veritatis), то его следует понимать так: поэзия – не научный род речи, она рассказывает о вещах, которые не существуют в действительности. «Поэт... пользуется метафорами для того, чтобы представлять вещи... поскольку представление по природе своей есть нечто услаждающее человека»229; из этого следует, что предмет поэзии не может быть предметом познания в узком смысле слова. В остальном же св. Фома вполне осознавал эстетическую и гедонистическую ценность поэзии. Таким образом, мы имеем дело вовсе не с осуждением, а скорее с равнодушием теории ко всему приятному, что заключено в поэзии, в особенности там, где она, как кажется, не занимается поучением. Конрад Хирсаусский в «Диалоге об авторах» («Dialogue Super Auctores») отмечает, что поэт именуется «выдумщиком» (fictor), «потому что вместо правды он говорит ложь или смешивает ложь с правдой»230, и зачастую поэтическая речь не имеет особой силы (virtus), но представляет собой только звук голоса (sonum tantummodo vocis).
Схоластическая теория не могла предположить, как это сделали современные специалисты, что поэзия может выявлять природу вещей с силой и широтой, которые недоступны рациональной мысли. Причиной тому была приверженность дидактической концепции искусства. Когда поэзия излагает известные истины, она, самое большее, способна изложить их приятно, но не открывает ничего нового. Не знавшие истины Откровения языческие поэты могли иногда говорить истину лишь благодаря Божественному вдохновению. Если Сенека утверждает в VIII Послании к Луци-лию: «Ведь как много поэты говорят такого, что или сказано, или должно быть сказано философами!»231 – то Средневековье истолковывает эту фразу в наиболее поверхностном и непосредственном смысле: поэзия говорит о предметах научных и философских, и «слагать», как выражается Жан де Мён, означает «трудиться на ниве философии». Настает момент, когда такие предшественники гуманизма, как Альбертино Муссато, учреждают новую поэтическую доктрину. Последний утверждает, что поэзия – это наука, явившаяся к нам прямо с небес, некий Божественный дар: «...то была наука, ниспосланная самим Небом, подобно тому как закон исходит от Бога»232. Поэты античности были Божьими глашатаями, и в этом смысле поэзию можно рассматривать как вторичную теологию: «...кем бы ни был пророк– он был сосудом Божьим». Св. Фома прибег к сделанному Аристотелем в первой книге «Метафизики» («Metaphysica») подразделению ранних космогонических поэтов на теологов и философов, но при этом он полагал, что только философы (для него – теологи) при-частны Божественному знанию, в то время как поэты «лгут, как говорит народная пословица» (mentiuntur, sicut dicitur in proverbio vulgari).
О мифических поэтах – Орфее, Мусее и Линее – св. Фома с явной снисходительностью говорит, что они могут в лучшем случае поведать нам посредством иносказания или басни (sub fabulari similitudine) о том, что вода была началом всех вещей233.
Предшественники гуманистов добавили к схоластической терминологии двойственное понятие поэта-теолога (poeta theologus); эта идея родилась в споре со сторонниками аристотелевского интеллектуализма, такими как брат Джованнино из Мантуи. Под покровом традиционных понятий они создали совершенно новую концепцию поэзии234. Эудженио Гарин описал ее как «попытку придать поэзии роль откровения, осмыслить ее как центральный и высший момент человеческого опыта... в котором человек видит свою подлинную природу... отождествляет себя с живым ритмом вещей и сливается с ним как нечто, одновременно способное перевести все в образы и в то же время быть формой общения людей»235.
Но если этот новый смысл ощутим в стихах светских поэтов и прямо выражен у некоторых ранних гуманистов, то схоластической теории он остается чужд. Поэзия Священного Писания виделась совершенно иной – менее украшательной, более точной в своих аллегориях и в конечном счете превосходящей человеческую. В видениях мистиков, в их эстетическом экстазе, проникнутом верой и благостью, не находили ничего общего с экстазом в романтическом смысле. Более того, и дидактическая поэзия никогда не рассматривалась как более «глубокий» род творчества, чем философия. Различие между интуицией и размышлением относилось к противопоставлению мистицизма и философии, а не дидактической поэзии и философии. Теорию искусства нельзя упрекнуть в том, что она избегала этой проблемы, ее ценность заключалась в выделении иных аспектов творчества, в том, что она сохранила понимание рукотворного и созидательного характера искусства, сознание того, что художественное присутствует в техническом, а техническое – в художественном. Это забытые уроки, к которым эстетика начинает обращаться вновь.
2. Еще одна проблема, которую обсуждает средневековая теория искусства, не замечая ни новой поэзии, ни нового поэтического самосознания, это проблема прообраза в сознании художника – проблема творческой фантазии. В классической эстетике платоновская теория идеи претерпела изменения: изначально она использовалась для дискредитации искусства, постепенно стала объяснять свойственное художникам воображение. Эллинистическая мысль пришла к переоценке творчества и согласилась с тем, что художник способен создать идеально прекрасный образ, не существующий в природе. А вместе с Филостратом люди полагали, что художник может вовсе освободиться от существующих в природе образцов и даже от привычного восприятия как такового. Так пролагало себе дорогу понятие воображения, содержащее в себе предпосылки интуитивной эстетики236. Стоики способствуют такому развитию, а Цицерон в диалоге «Об ораторе» («De Oratore») наметил теорию внутренней фантазии, которая выше чувственной реальности. Если тот или иной прекрасный предмет (species) нуждается в мысли (cogitas), чтобы быть созданным, то либо он оказывается менее совершенным, чем формы, которые реально существуют в природе, либо приходится считать, что художественные идеи наделены подлинным метафизическим совершенством. Плотин, конечно, придерживается второй точки зрения. Внутренняя идея есть возвышенный и совершенный прообраз, благодаря которому художник наслаждается умственным созерцанием основополагающих принципов природы. Искусство стремится воплотить эту идею, но делает это с трудом и только отчасти успешно: материя Плотина сопротивляется такому оформлению, она не дает лепить себя внутреннему образу, тогда как материя Аристотеля не сопротивляется своей форме. Доя Плотина более важным, однако, было ощущение достоинства внутреннего видения художника, образца, живущего в его сознании237.
Все люди Средневековья – и платоники, и арио тотелианцы – верили в существование прообраза в сознании художника (in mente artifices), они полагали, что произведение создается в соответствии с ним, не очень беспокоясь о том, как происходит его материальное воплощение. Но как все-таки оно оформляется в мозгу художника? Откуда оно исходит и каким является сознанию?
Для Августина человеческая душа обладает свойством прибавлять к вещам или отнимать от них, чтобы изменить содержимое своей памяти, созданное опытом. Таким образом, прибавив или отняв что-нибудь от формы ворона, можно получить нечто, в природе не существующее238. В сущности, это механизм воображения, набросанный в начале послания «Ad Pisones». При всех возможностях, которые открывал Августину его врожденный ум, он так и не смог отойти от взгляда на воображение как имитацию. Как мы уже видели, к своей теории вдохновения ближе всего Средние века подошли в трактате Теофила «О различных искусствах» («Schedula Diversarum Artium»).
Сейчас принято думать, что уникальность искусства состоит не в его независимости от природы и опыта. В искусстве соединяются плоды нашего опыта; они пережиты, переработаны и заново усвоены в согласии с обычной деятельностью воображения, художественное своеобразие сообщает произведению искусства тот способ, при помощи которого эта переработка обретает конкретность и предстает перед нашим восприятием: в процессе взаимодействия между пережитым опытом, волей художника и внутренними законами обрабатываемого материала. Но и современная эстетика долгое время исходила из того, что существует воплощаемая в произведении идея, совершенная сама в себе. В споре о ней родился ряд существенных наблюдений. Средневековье, передав их «по наследству» Возрождению и маньеризму, в то же время не смогло существенно углубить проблему: в рамках аристотелевской теории искусства феномен воплощения идеи не мог получить удовлетворительного истолкования.
Для св. Фомы художественная идея вещи, которую предстоит создать, существует в уме художника как идеальный образ, по подобию которого создается нечто (forma exemplaris ad cujus similitudinem aliquid constituiter). «Творящий разум, заранее видящий образ творения, обладает идеей воспроизводимой вещи». «Аристотелизм» этой позиции подчеркивается тем обстоятельством, что речь идет не об идее субстанциональной формы, формы как чего-то отличного от материи, подобия платоновской сущности. Скорее это прообраз формы, рожденной в связи с материей; формы, устанавливающей единство с материей, «поэтому сама идея соотносится не только с формой или только с материей, но с композицией целого; она осуществляется во всем: как в форме, так и в материи». Создаваемый организм управляется одной идеальной формой, и св. Фома подчеркивает единство композиции: когда архитектор представляет дом, он мыслит в то же время все его свойства: план, высоту и т. д. Частности будут продуманы позднее, когда здание будет построено: орнаментация, роспись стен и прочее. Здесь стоит снова отметить сугубо функционалистское понимание искусства, при котором услаждающие элементы не принадлежат собственно художественной идее239.
Этот прообраз возникает в сознании художника как результат стремления к подражанию, поскольку стремится воспроизвести объект, существующий в природе. Но в случае, когда создается новый объект – дом, сказка, статуя чудовища, – первичная идея порождается воображением (phantasia), которое представляет собой одну из четырех внутренних сил чувственной натуры человека (наряду со здравым смыслом, способностью оценивать или размышлять и памятью) и формируется живым опытом, словно хранилище чувственно воспринимаемых образов (quasi thesaurus quidam formarum per sensum acceptarum)240. Посредством воображения мы можем вызвать из памяти некий предмет или же сочетать разные формы так, словно мы действительно видим их241. Такое сочетание форм наиболее типично для деятельности воображения и может быть объяснено без ссылки на какую-либо иную человеческую способность: «Авиценна утверждает, что есть пятая сила, соединяющая реальное и воображаемое, которая сопоставляет и разделяет воображаемые формы; так, из воображаемой формы золота и воображаемой формы горы мы составляем форму золотой горы, которой мы никогда не видели. Такая способность не провляется ни у кого из живых существ, кроме человека, свойство воображения которого способно на это»242.
Эта теория откровенно эмпирична и интеллек-туалистична. Ее положительные стороны – ясность и простота, она объясняет искусство, не прибегая к иррациональному и сверхъестественному. Но аристотелевско-томистской теории недостает более сложного представления о творческой силе воображения, которое, в принципе, могло бы быть развито на основе существующих предпосылок и осознания того, что искусство, даже опирающееся на силы разума и опыт ремесла, есть трудоемкий процесс, в котором не физическое действие следует замыслам ума, но сам ум постигает творение в процессе творчества. Жиль-сон задается вопросом: каким же образом искусство, если оно принадлежит сфере интеллекта, способно запечатлевать идеи в материи? Сам интеллект этого не может243. Последователи Аристотеля полагали, что художественный процесс не является спонтанным и не ведет к уникальному акту творения, по сути они игнорировали субъективность и эмоциональность искусства.
3. По мере того как рыцарский идеал становился утонченнее, основополагающая средневековая добродетель (kalokagathia) приобретала все более эстетический характер. Один из примеров – «Роман о Розе» («Le Roman de la Rose»), куртуазная любовь – другой. Эстетические ценности прежде были выражены в стилизованных формулах, прилагаемых к человеческой жизни, истолкованной в категориях Божественного. Теперь они стали общественными ценностями. Центром общественной и художественной жизни стала женщина – суровая феодальная эпоха проходила мимо нее, но теперь она прочно заняла свое место в литературе. Ценность чувств возросла, и поэзия событий уступила первенство поэзии личных признаний. Много позднее романтизм в своем восхищении Средневековьем создал искаженный образ истории, но он верно открыл в нем ростки эстетики чувства, рождение новой чувствительности, чреватой безответной страстью, заставляющей поэзию выразить несказанное (у романтиков это станет мазохистским влечением к недоступной принцессе (d'une princesse lointaine). И все это несмотря на условность и строгость аллегорий, которая была свойственна новой куртуазной поэзии и поэзии трубадуров.
В этих условиях схоластическая теория искусства оказалась почти беспомощной. С самого начала лишь отчасти способная объяснить изящные искусства, она в лучшем случае могла найти обоснование искусству дидактическому, в котором ясное, заранее данное знание несло прообраз и выражалось в соответствии с нормами. Но когда Данте говорит, что он выражает диктуемое изнутри Любовью, мы сталкиваемся с чем-то иным, даже если определим эту «Любовь» философски: это новое понимание творчества, с очевидностью связанное с миром страсти и чувства. Оно возвещает рождение современного эстетического чувства – и всех его проблем.
Только мистики могли бы сообщить новой поэзии способ выражения ее мыслей, ее чувств и ее интуитивной природы. Конечно, мистицизм касается других сфер души, но в нем присутствуют зерна будущей эстетики вдохновения и интуиции. Подобно тому как платоновская традиция сделала возможной теорию художественных идей, францисканская сосредоточенность на любви и воле предвещала эстетику чувства. Теория св. Бонавен-туры открывала в потаенных глубинах души потребность в гармонической плавности (aequalitas numerosa), подсказывая будущей эстетике вдохновения путь к определению внутреннего воображения.
Уже во францисканском спиритуализме, как и в мистике Гуго Сен-Викторского, можно усмотреть основу эстетической интуиции. Она заключается в разделении ума и разума; при этом первый обозначает созерцание и синтезирующее видение: «созерцание, свободное, словно полет, охватывает [все предметы] с удивительной легкостью»244.
Иудео-арабская мысль также подходила к эстетике воображения. Иегуда Леви в своей «Liber Cosri» говорит о небесном даре поэта – непосредственном внутреннем видении, о его прозрениях, о поэте, который лелеет в себе законы гармонии и реализует их, даже не умея их формулировать. Есть люди, владеющие всеми поэтическими правилами, но не способные ничего создать: «те, кто от природы являются поэтами, [могут] мгновенно создать прелестное и безукоризненное стихотворение»245. Здесь наступает предел интеллектуализма Боэция. Для Авиценны, с которым св. Фома полемизировал как раз по поводу воображения, воображение возвышает чувства и, спускаясь с небес, порождает совершенную форму: «беседу в стихах, или форму удивительной красоты»246. В то же время через всю средневековую традицию проходит мотив Божественного безумия поэта, так и не нашедший, однако, теоретического осмысления247.
Для Мейстера Экхарта формы всего сотворенного существуют первоначально в сознании Бога, и всегда, когда воображение задумывает некий предмет, это своего рода озарение или благодать мудрости; человеческие идеи скорее обретаются, чем формируются; все, "что задумано человеком, уже существует в Боге: «Слово берет свое могущество от Слова Первоначального». Искать художественный образец вовсе не значит сочинять: это значит мистически сосредоточить взгляд на той реальности, которую надлежит воспроизвести вплоть до полного самоотождествления с нею. Но идеи, существующие в Боге и сообщенные уму человека, являются не столько платоновскими архетипами, сколько образами действия, силами, принципами организации. При этом идеи живут, они существуют не как стандарты (standarts), но как идеи деяний, которые надлежит совершить. Реальная вещь возникает из идеи, словно произрастая из нее. Теория Экхарта внешне напоминает аристотелевскую, но ей присуще большее ощущение динамизма и порождающей силы идей248. Нашедший выражение образ есть «эманация формы» (formalis emanatio) и «осознает свою возрастающую силу» (sapit proprie ebullitionem). Он не отличается от образца, он живет с ним, он заключается в нем и идентичен ему: «Образ и его прототип не различаются между собой и не представляют собой две различные субстанции... Образ в действительности есть простая и формальная эманация, развитие исходно простой и голой сущности; это внутренняя эманация, осуществленная в безмолвии и без воздействия извне, – это некая жизнь, так как образ вещи произрастает из нее самой и начинает существовать сам по себе»249. Из этих плодотворных идей рождается новое понимание художественного процесса. Если мы изымем их из контекста психологии мистицизма и теологии Троицы, то откроем в них то, что более не принадлежит Средним векам, – источники новых путей в эстетике, близких уже нашему миру.
4. Пока теоретики боролись с проблемами, художники обрели сознание собственной значимости. Конечно, это сознание никогда не исчезало в Средневековье, хотя различные общественные, религиозные и психологические обстоятельства культивировали смирение и то, что выглядит как стремление к анонимности.
В раннем Средневековье широко почитался Туотил, легендарный монах из монастыря Сент Галлен, проживший жизнь художника. Его считали сведущим во всех искусствах, он был пригож, красноречив, обладал приятным голосом, умел играть на органе и флейте, слыл великолепным оратором и собеседником, владел изобразительными искусствами, – в общем, он был идеалом человека и «гуманиста» эпохи Каролингов. Говорят, что и Абеляр был во многом похож на него, он писал своему сыну Астролябию, что мертвые продолжают жить в творениях поэтов. Сохранилось множество свидетельств того почтения, которым были окружены поэты и художники. Но формы, в которых выражалось это почтение, часто были экстравагантны. Например, монахи аббатства Сен-Рюф под покровом ночи похищают молодого паренька, необычайно сведущего в искусстве живописи, которого соборный капитул Нотр-Дам-де-Дом в Авиньоне ревностно оберегал. В действительности такого рода эпизоды изобличают определенную недооценку искусства, тенденцию рассматривать художника как предмет, который можно использовать и даже обменивать. Они поддерживают образ средневекового художника, посвятившего себя смиренному труду во имя веры и на благо общины, – образ, совершенно отличный от художника Возрождения, кичащегося своей неповторимостью.
Схоластическая теория искусства поддерживала этот смиренный образ, поскольку абсолютно объективистская концепция искусства не принимала во внимание влияния личности на его произведения. Распространенная тенденция принижать «механические» искусства также мешала архитекторам и скульпторам искать личной славы. Фигуративные произведения создавались для ар-хитектурых построек, были плодами труда артели, и самое большее, что художники и ремесленники могли оставить на память о себе, это монограммы, вырезанные на замковых камнях. Впрочем, и сегодня рассеянный зритель, который не удосуживается прочесть титры фильма, склонен рассматривать его как произведение анонимное, о котором лучше всего напомнят не имена создателей, а сюжет или герои.
В отличие от представителей механических искусств (mecanici) поэты достаточно рано добились полного признания своей значимости. Искусства «механические» сохранили нам лишь имена самых известных архитекторов, однако каждое стихотворение имело определенного автора, осознававшего оригинальность своего стиля и своих мыслей. Многочисленные доказательства тому можно найти у Теодульфа Орлеанского, Валафрида Страбона, Готфрида из Витербо. Начиная с XI века каждый поэт хорошо понимал, что его труд – это способ достигнуть бессмертия. Произошло так, что как раз в это время понятие ars стали связывать преимущественно с занятиями логикой и грамматикой, и это негативно отразилось на искусстве литераторов (auctores), бывшем все еще живым во времена Иоанна Солсберийского. Писатели, той поры, реагируя на подобное унижение, еще больше утверждают собственное значение. К примеру, Жан де Мён полагает, что благородство по рождению – ничто по сравнению с благородством литератора.
