Все моряки с жаром одобрили высказывания Марсиаля. Его разглагольствования длились до утра и охватывали обширный круг вопросов, начиная от мореходного дела и кончая дипломатической наукой. Ночь стояла ясная, дул свежий ветер. Да позволит мне дорогой читатель, говоря об эскадре, употреблять местоимение «мы». Я был так горд от сознания, что нахожусь на борту «Тринидада», что вообразил, будто судьба предназначила мне играть важную роль в столь знаменательные дни. Вот почему я всячески старался показать старым морякам, что и от меня на корабле будет польза.
Глава X
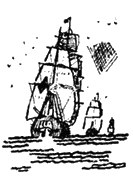 На рассвете двадцатого октября дул сильный встречный ветер, и поэтому наши корабли шли на большом расстоянии друг от друга. Но как только после полудня ветер утих, на флагмане подняли сигнал строиться в пять колонн: авангард, центр, арьергард и две линии резерва.
На рассвете двадцатого октября дул сильный встречный ветер, и поэтому наши корабли шли на большом расстоянии друг от друга. Но как только после полудня ветер утих, на флагмане подняли сигнал строиться в пять колонн: авангард, центр, арьергард и две линии резерва.
Я прямо млел от удовольствия при виде того, как послушно перестраивались эти огромные плавучие крепости. И хотя из-за различия мореходных качеств корабли совершали маневр не слишком быстро и не слишком правильно, я с восхищением наблюдал за ними. Дул юго-западный ветер, еще с утра предсказанный Марсиалем. Эскадра приняла его правым бортом и взяла курс на Гибралтарский пролив. Ночью то там, то тут мелькали огни, а наутро, двадцать первого октября, мы увидели с наветренной стороны двадцать семь вражеских кораблей, среди которых Марсиаль насчитал семь трехпалубных фрегатов. Часам к восьми утра все тридцать три неприятельских корабля, шедшие двумя колоннами, были у нас на виду. Наша эскадра вытянулась длинной кильватерной колонной. По всей вероятности, две колонны Нельсона, идущие клином, намеревались прорезать нашу линию в центре и арьергарде. Такова была позиция двух неприятельских сторон, когда «Буцентавр» подал сигнал делать поворот фордевинд. Вы, наверное, и не знаете, что это такое; но я вам объясню: нужно было сменить курс на сто восемьдесят градусов, то есть если ветер раньше нам дул с правого борта, то после маневра он уже дул в левый борт, и мы пошли почти прямо в противоположном направлении. Бушприты наших кораблей теперь смотрели на север, Кадис лежал у нас под ветром, и в случае опасности мы могли лечь в дрейф – этот маневр флагмана подвергся сильному осуждению на «Тринидаде», особенно его поносил Марсиаль, который приговаривал: «Ну, совсем расфордевинели боевой порядок, вот уж воистину не было печали, так черти накачали».
И в самом деле, авангард превратился в арьергард, а резерв – лучшие боевые корабли – остался в хвосте. И поскольку ветер ослаб, то суда с разношерстной оснасткой и плохо обученными экипажами не могли быстро и умело построить новую линию: одни корабли чрезмерно поспешили и налетели на идущие впереди, другие, наоборот, замешкавшись, отстали или сбились с курса, образовав большую брешь в общем строю, прежде чем это сделал неприятель. С флагмана отдали команду восстановить порядок, но, как ни послушен корабль, им намного труднее управлять, чем конем. Вот почему, всматриваясь в маневр близидущих кораблей, Марсиаль ворчал:
– Наша колонна длиннее Млечного Пути. Если Барчук разорвет ее, прощай родина! Мы пропали во цвете лет, тут хоть пушки заряжай головами вместо ядер, ничем не поможешь, вот помяните мои слова, дадут нам прикурить по самому центру. И как тогда нам помогут «Святой Хуан» и «Багама», которые плетутся в хвосте, или «Нептун» и «Громовержец», которые идут в голове колонны? – (Всеобщее одобрение.) – Кроме всего прочего, мы идем с подветренной стороны, и сюртучники могут выбрать любое место для атаки. Дай бог унести нам ноги. Господь свершит великую милость, если освободит нас от французов на веки вечные. Аминь! Иисус.
Солнце поднималось к зениту, неприятель шел на нас прямым курсом.
– Да какой же дурак начинает бой в самый что ни на есть полдень? – в сердцах восклицал старый моряк, стараясь, правда, чтобы его слышали только приятели, к которым я примкнул, сгорая от ненасытного любопытства. Лица всех моряков, как мне показалось, были мрачны и насуплены. Офицеры, стоявшие на шканцах, а также матросы и боцманы на баке – все всматривались в выбившиеся из строя, шедшие байдевинд корабли; несколько из них принадлежали к центру. Я запамятовал рассказать вам, дорогой читатель, об одном очень важном приготовлении к бою; в котором я принял участие. После того как поутру произвели уборку на корабле и подготовили все, что полагалось для стрельбы и для маневра, я услышал странную команду: «Сыпь песок! Сыпь песок!» Марсиаль за ухо оттащил меня к палубному люку и поставил в ряд с какими-то новобранцами, юнгами и прочей шушерой. Матросы, взобравшись на уступы и трапы, вытаскивали из глубины трюма мешки с песком. Ловко и быстро, словно балуясь, они перекидывали друг другу тяжелые мешки. И так по живой цепи из трюма извлекли груду мешков. Я оторопел, когда увидел, как их стали вытряхивать прямо на палубу, мостики, шканцы, бак, пока не покрыли толстым слоем песка весь корабль. То же самое проделали на деках. Меня прямо-таки распирало любопытство, и я спросил у стоявшего рядом юнги, для чего все это делалось.
– Для крови, – с безразличным видом бросил он.
– Для крови? – переспросил я, невольно попятившись от ужаса.
Я посмотрел на песок, посмотрел на моряков, которые с веселыми прибаутками занимались своим делом, и на миг почувствовал себя трусом. Однако мое разгоряченное воображение вскоре освободило меня от всякого страха, и я принялся мечтать лишь о победах и приятных сюрпризах.
Пушки стояли наготове, боеприпасы из пороховых погребов, подобно мешкам с песком, передавались на батарейные палубы по цепи матросов.
Англичане наступали на нас двумя колоннами. Одну колонну возглавлял идущий на самом острие клина огромный корабль под флагом адмирала. Позже я узнал, что это была «Виктория» и командовал ею сам Нельсон. Во главе другой колонны шел «Ройял Соверен» под командой Коллингвуда.
С именами этих флотоводцев, а также с мельчайшими подробностями морского сражения я познакомился много позже. Мои воспоминания, ясные и четкие в отношении всего занимательного и живописного, едва служат мне во всех тех вопросах, которые были мне тогда непонятны. Все, что я так часто слышал из уст Марсиаля, а также узнал впоследствии, позволило мне составить представление о нашей эскадре, а чтобы и вам, дорогой читатель, стала ясна обстановка перед сражением, я перечислю наши корабли, выделив те из них, которые не успели совершить маневра и тем самым образовали брешь в нашей обороне, а также укажу национальную принадлежность кораблей и схему атаки.
Вот приблизительно как это было.
Первая колонна под командой Нельсона
«Виктория»
АВАНГАРД
«Нептун»…………………………исп.
«Сципион»…………………………фр.
«Громовержец»………………….исп.
«Формидабль»……………………фр.
«Дюгэ» …………………………………..фр.
«Мон-Блан» ………………………….фр.
«Ассиз» ………………………………исп.
ЦЕНТР
«Августин» …………………………..исп.
«Эрот» ………………………………….фр.
«Тринидад» ……………………исп.
«Буцентавр»………………………….фр.
«Нептун». ……………………………..фр.
«Редутабль» ………………………….фр.
«Энтрепид»…………………………..фр.
«Леандро»………………………..исп.
Вторая колонна под командой Коллингвуда
«Ройял Соверен»
АРЬЕРГАРД
«Сан Хусто» …………………………исп.
«Эндомтаблъ» ……………………….фр.
«Санта Анна» ………………………исп.
«Фуге» …………………………………..фр.
«Монарх»……………………………..исп.
«Плутон» ………………………фр.
РЕЗЕРВ
«Багама»……………………………….исп.
«Эгль». ……………………………………фр.
«Горец» ………………………………….исп.
«Альхесирас» ………………………….исп.
«Аргонавт» ……………………………исп.
«Свифт-Сюр» …………………………фр.
«Аргонавт» …………………………….фр.
«Ильдефонсо» ………………………..исп.
«Ахилл» ………………………………….фр.
«Принц Астурийский» ……………исп.
«Бёрвик» …………………………………фр.
«Непомусено»………………………..исп.
Пробило без четверти двенадцать. Страшный миг приближался. Всех, как и меня, охватило лихорадочное нетерпение, а мое внимание было приковано к кораблю, на котором, как говорили, находился Нельсон, и мне было не до того, что творилось вокруг.
Внезапно наш командир отдал приказ. Его повторили боцманы. Матросы бросились к вантам; заскрипели лебедки, заполоскали на ветру марселя.
– Ложись в дрейф! – крепко выругавшись, завопил Марсиаль.
– Этот сукин сын хочет влепить нам по корме!
В тот же миг я понял, что «Тринидаду» был отдан приказ застопорить ход и прижаться к шедшему следом «Буцентавру». Наперерез нам на всех парусах летела «Виктория». Наблюдая за маневром нашего корабля, я лишний раз мог убедиться, что большая часть команды не обладала тем умением и сноровкой, которые были присущи бывалым морякам вроде Марсиаля. Многие солдаты страдали морской болезнью, они даже хватались за поручни, чтобы не свалиться за борт. Правда, было немало отважных, храбрых людей, особенно среди добровольцев, но основная масса насильно завербованных ни к черту не годилась; они плохо слушались команды, и я уверен, что у них не было ни на грош патриотизма. Как я впоследствии понял, не они принесли славу сражению, а оно прославило их. Но, несмотря на невысокие моральные качества разношерстной команды, мне думается, что в торжественную минуту перед первым выстрелом помыслы всех были устремлены к всевышнему. Что касается меня, то впечатления тех минут запомнились мне на всю жизнь.
Несмотря на юные годы, я прекрасно сознавал всю серьезность положения, и впервые в жизни мной овладели высокие мысли, возвышенные образы и благородные идеи. Я настолько был убежден в нашей победе, что мне даже стало жалко англичан: ведь они шли на верную гибель! Именно в эти минуты я впервые со всей ясностью осознал свою любовь к родине, и мое сердце радостно забилось от этого глубокого чувства. До сих пор родина представлялась мне в виде нескольких лиц, управлявших страной, таких, как король и его первый министр, но я не воздавал им должного уважения. Поскольку истории я обучался лишь в бухте Ла Калета, для меня было законом радоваться и приходить в восторг при известии о том, что испанцы в давние времена поубивали несметное множество мавров, а потом – добрую порцию англичан и французов. Я представлял свою страну самой храброй на свете, но в моем представлении эта храбрость отождествлялась с жестокостью и варварством. При таком образе мыслей патриотизм для меня сводился лишь к горделивому тщеславию, что я принадлежу к славному племени истребителей мавров.
Но в минуты, предшествующие сражению, я глубоко осознал все значение этого божественного чувства, и национальная гордость расцвела в моей душе, осветив самые сокровенные тайники, как утреннее солнце освещает землю и отвоевывает у мрака прекрасные картины природы. Страна моя представлялась мне огромной землей, населенной людьми, по-братски любящими друг друга; все общество состоит из отдельных семей, в которых мужья безбедно содержат своих жен, воспитывают детей, управляют хозяйством, защищают честь семьи. Я понял, что эти люди заключили договор о помощи и поддержке в борьбе против внешнего врага, что именно они построили корабли, чтобы защитить родину, иными словами – ту землю, по которой они ходили, ту ниву, которую они оросили потом, дом, где жили их отцы и деды, сады, где играли их дети, новые земли, открытые и завоеванные их предками, морские порты, где пришвартовывались после долгих утомительных путешествий корабли, склады, где люди хранили свои богатства, церкви – усыпальницы предков, жилища святых и алтари веры; площади и цирки – места развлечений и празднеств; домашний очаг, чье старинное убранство, переходящее из поколения в поколение, является как бы символом вечности нации; кухни, в чьих закопченных стенах никогда не замолкает эхо древних сказок, которыми бабушки умиротворяют шумных, шаловливых внучат; улицы, по которым гуляют друзья и подруги; поля, море, небо – все, что с рождения неразрывно с нами связано и дорого нашему сердцу, начиная от яслей любимого коня и кончая троном древних королей; все предметы, в которых живет частица нашей души.
Вдобавок я был убежден, что распри Испании с Францией или с Англией возникали оттого, что эти страны хотели у нас всегда что-нибудь отнять, и, надо сказать, в этом вопросе я не намного ошибался. Итак, наша оборона представлялась мне самым законным делом, а нападение англичан – самым подлым и низким, но, поскольку мне не раз доводилось слышать, что справедливость торжествует, я был уверен в нашей победе. Любуясь красно-желтыми знаменами, так живо напоминавшими бушующее пламя, я чувствовал, как у меня вздымается грудь, и не в силах был сдержать слез восторга; мне пришли на память Кадис, Вехер; воображение рисовало мне всех испанцев, собравшихся вместе на огромной плоской крыше, откуда они с замиранием сердца следили за нами; все эти мысли и образы в конце концов обратили мои помыслы к богу, к которому я воззвал в жаркой молитве, но это не были обычные «Отче наш» или «Аве Мария», а нечто новое, впервые пришедшее мне на ум. Оглушительный грохот вывел меня из этого блаженного состояния, и я невольно вздрогнул. То прозвучал первый залп.
Глава XI
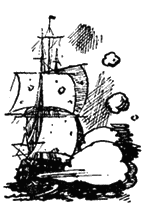 Корабль нашего арьергарда дал первый залп по «Ройял Соверену», шедшему под флагом Коллингвуда. Пока «Санта Анна» вела с англичанами бой, «Виктория» повернула и пошла прямо на нас. У нас на «Тринидаде» все сгорали от нетерпения открыть огонь по врагу, но наш командир все выжидал удобного момента. И тут от «Санта Анны» по боевой линии кораблей, словно по цепочке петард, засверкали вспышки огней. «Виктория», атаковавшая французский «Редутабль» и получившая от него отпор, очутилась прямо у нашей наветренной стороны. Грозный момент наступил. Раздалась команда: «Огонь!» – и громовый залп из полсотни пушечных глоток обрушился на английский флагман. На миг дым скрыл от меня неприятельский корабль, а он, обуянный яростью, на всех парусах летел прямо на нас. Подойдя на расстояние ружейного выстрела, он повернул к нам бортом и дал залп. В короткие минуты между первым и вторым залпом наша команда, оценив урон, нанесенный врагу, с удвоенной силой бросилась выполнять приказания офицеров. Пушки заряжались молниеносно, но бывали и заминки, – следствие нерасторопности некоторых канониров. Марсиаль по доброй воле решил стать у пушки, но его дряхлая плоть не позволила ему исполнить благородный порыв души. Ему пришлось довольствоваться присмотром за боевыми припасами и лишь голосом и жестами воодушевлять батарейную прислугу. «Буцентавр», шедший за нами, тоже вел огонь по «Виктории» и «Темерери», английским линейным кораблям. Казалось, что корабль Нельсона вот-вот выкинет белый флаг: ведь мы разбили всю его оснастку, и я сам видел, как на нем рухнула бизань-мачта.
Корабль нашего арьергарда дал первый залп по «Ройял Соверену», шедшему под флагом Коллингвуда. Пока «Санта Анна» вела с англичанами бой, «Виктория» повернула и пошла прямо на нас. У нас на «Тринидаде» все сгорали от нетерпения открыть огонь по врагу, но наш командир все выжидал удобного момента. И тут от «Санта Анны» по боевой линии кораблей, словно по цепочке петард, засверкали вспышки огней. «Виктория», атаковавшая французский «Редутабль» и получившая от него отпор, очутилась прямо у нашей наветренной стороны. Грозный момент наступил. Раздалась команда: «Огонь!» – и громовый залп из полсотни пушечных глоток обрушился на английский флагман. На миг дым скрыл от меня неприятельский корабль, а он, обуянный яростью, на всех парусах летел прямо на нас. Подойдя на расстояние ружейного выстрела, он повернул к нам бортом и дал залп. В короткие минуты между первым и вторым залпом наша команда, оценив урон, нанесенный врагу, с удвоенной силой бросилась выполнять приказания офицеров. Пушки заряжались молниеносно, но бывали и заминки, – следствие нерасторопности некоторых канониров. Марсиаль по доброй воле решил стать у пушки, но его дряхлая плоть не позволила ему исполнить благородный порыв души. Ему пришлось довольствоваться присмотром за боевыми припасами и лишь голосом и жестами воодушевлять батарейную прислугу. «Буцентавр», шедший за нами, тоже вел огонь по «Виктории» и «Темерери», английским линейным кораблям. Казалось, что корабль Нельсона вот-вот выкинет белый флаг: ведь мы разбили всю его оснастку, и я сам видел, как на нем рухнула бизань-мачта.
В пылу первого в моей жизни сражения я даже не замечал, как вокруг меня падали тела раненых и убитых моряков. Забравшись в укромный уголок, я не отрывал взора от нашего капитана, с героическим хладнокровием командовавшего на мостике. Но не менее меня поразил мой беспокойный хозяин, который охрипшим голосом воодушевлял на подвиг офицеров и матросов. «Ну-ну, – подумал я про себя, – вот бы увидела тебя сейчас донья Франсиска».
Признаюсь, дорогой читатель, порой я испытывал такой невыносимый страх, что готов был спрятаться на дно трюма, а то, подгоняемый лихорадочным любопытством, наблюдал за всеми перипетиями боя из самых опасных мест на корабле. Но оставим в покое мою скромную персону, лучше я поведаю вам о самой страшной минуте боя с «Викторией». «Тринидад» нанес ей уже очень большой урон, как вдруг «Темерери», совершив изумительный маневр, встал между нами и загородил собой своего флагмана от наших залпов. Затем, не мешкая, прошел у нас под кормой и отрезал от остальной эскадры. «Буцентавр» в пылу боя подошел очень близко к неприятелю; он чуть не касался его своими реями; из-за этого в нашем строю образовалась брешь, куда и устремился «Темерери». Сделав поворот фордевинд, он очутился у нашего целехонького бакборта и разрядил по нему все свои пушки. В ту же минуту «Нептун» и другой английский линейный корабль, заняв место «Виктории», которая, в свою очередь, повернула и стала с подветренной стороны, в мгновение ока окружили «Тринидад» и принялись молотить по нему с двух сторон. По исказившемуся лицу дона Алонсо, по страшному гневу Уриарте, по неистовым ругательствам и проклятьям матросов, друзей Марсиаля, я понял, что мы погибли, и мысль о нашем поражении наполнила скорбью мою душу. Строй союзной эскадры был прорезан в нескольких местах; после неразумного поворота фордевинд наш боевой порядок пришел в совершеннейший беспорядок. Мы оказались в окружении врагов, чья артиллерия обрушила на нас с «Буцентавром» целый шквал ядер и картечи. «Августин», «Эрот» и «Леандро» дрались далеко от нас, почти в таких же стесненных условиях. А «Тринидад» и флагман нашей эскадры, потеряв управление и попав в кровавую ловушку, измышленную гением Нельсона, оставили всякую мысль о победе и героически сражались, помышляя лишь о том, чтобы умереть с честью.
Седые волосы, венчающие сегодня мою голову, встают дыбом при воспоминании о тех ужасных часах, особенно от двух до четырех пополудни. Корабли представлялись мне уже не слепыми орудиями войны, а послушными воле людей, живыми чудовищами, сражающимися своими гигантскими крыльями-парусами и огнедышащими пастями пушек. Мое воображение наделило этих чудовищ жизнью, я до сих пор словно вижу, как они подкрадываются друг к другу, вступают в бой, яростно изрыгают огонь из своих пушек, бесстрашно схватываются на абордаж, медленно отступают, чтобы, передохнув, наброситься с новыми силами и сломить сопротивление врага. Мне кажется, я и сейчас вижу, как они корчатся от боли, когда их ранят, или издают предсмертный воинственный клич, словно не теряющий благородства гладиатор перед близкой кончиной. Мне чудится, будто я слышу крики матросов, словно вырывающиеся из единой разъяренной глотки: порой это воинственный клич, порой глухой стон отчаяния, предвестник скорой гибели; то ликующий гимн близкой победы, то бешеное проклятье, после которого наступает гнетущая, мертвая тишина, свидетельница позорного поражения.
 «Сантисима Тринидад» являл собой ужасающую картину. Корабль лишился управления и не мог двинуться с места. Все наши усилия были направлены лишь к одному – заряжать как можно скорее пушки и хоть так отвечать врагу, который непрестанно громил нас своими батареями. Английские ядра, подобно огромным невидимым когтям, терзали нашу оснастку. Обломки мачт и рей, обрывки парусов, целые снопы вант и канатов, исковерканные блоки, куски железа и обшивки корабля, сорванные и сметенные вражескими ядрами, сплошь устилали палубу, так что некуда было ступить. То и дело на палубы или за борт валились десятки людей; ругань и богохульства сражающихся матросов мешались со стонами и криками раненых, и нельзя было разобрать, то ли поносят бога умирающие, то ли взывают к нему страждущие.
«Сантисима Тринидад» являл собой ужасающую картину. Корабль лишился управления и не мог двинуться с места. Все наши усилия были направлены лишь к одному – заряжать как можно скорее пушки и хоть так отвечать врагу, который непрестанно громил нас своими батареями. Английские ядра, подобно огромным невидимым когтям, терзали нашу оснастку. Обломки мачт и рей, обрывки парусов, целые снопы вант и канатов, исковерканные блоки, куски железа и обшивки корабля, сорванные и сметенные вражескими ядрами, сплошь устилали палубу, так что некуда было ступить. То и дело на палубы или за борт валились десятки людей; ругань и богохульства сражающихся матросов мешались со стонами и криками раненых, и нельзя было разобрать, то ли поносят бога умирающие, то ли взывают к нему страждущие.
По мере своих сил я помогал переносить раненых в трюм, где помещался лазарет. Некоторые умирали прямо у меня на руках, не получив никакого облегчения, другим же страдальцам предстояло перенести мучительные операции, прежде чем они могли надеяться на какой-либо покой. Кроме этой печальной обязанности, на мою долю выпала честь помогать плотникам, которые с великой поспешностью накладывали заплаты на пробоины в бортах, но в силу моего тщедушного сложения эта помощь не была столь действенной, как мне бы хотелось.
Несмотря на песок, потоки крови растекались по палубе, образуя причудливые мрачные рисунки. Ядра, выпущенные почти в упор, производили страшный урон, нередко по палубе катились тела с напрочь снесенной головой, если сила удара не обрушивала жертву сразу в море, где в пучине волн затихали последние проблески жизни. Другие ядра попадали в мачты, в снасти, в надстройки, поднимая тучи обломков и щепок, которые ранили, словно стрелы. Ружейный огонь с марса и картечь тоже наносили большой урон, смерть от них наступала не так быстро, но зато муки были нестерпимы, и уже не оставалось ни одного человека, которого бы не отметала вражеская пуля или осколок…
Разбитая, сломленная команда – душа корабля, почуявшая свое поражение, – погибала, не в силах нанести ответный удар, отчаянно сражаясь, как и сам героический корабль, трещавший под залпами вражеских батарей. Я чувствовал, как корабль никнет в неравной борьбе, как скрипят его блоки, трещат и ломаются бимсы и переборки, словно корчась от боли, а палуба, грохоча, ходит ходуном под ногами, точно весь огромный корабль дрожит от негодования и боли, передавшейся ему от команды. А тем временем вода устремилась в тысячи щелей и пробоин изрешеченного корпуса, наполняя трюм.
«Буцентавр» – флагманский корабль – сдался у нас на глазах. Вильнев спустил свой флаг. Что же оставалось делать другим кораблям, после того как сдался сам командующий эскадрой? Французский национальный флаг исчез с кормы этого гордого корабля, и смолкли его пушки. «Сан Августин» и «Эрот» еще продолжали борьбу, а принадлежащие к авангарду «Громовержец» и «Нептун», пришедшие к нам на помощь, предприняли напрасную попытку освободить нас из вражеского окружения. Я видел бой, разгоревшийся в непосредственной близости к «Сантисима Тринидад», что же касается последних кораблей в строю, то их совсем невозможно было разглядеть. Ветер, казалось, замер, и дым окутал нас густыми белыми клубами, так что ничего нельзя было разобрать вокруг. Мы едва различали оснастку сражавшихся поодаль кораблей, в наших глазах они выросли до невероятных размеров, не знаю, то ли по причине неких оптических явлений, то ли из-за неописуемого страха, обуявшего всех нас.
На мгновение густой дым рассеялся, но, боже, что послужило тому причиной! Невероятной силы взрыв, сильнее одновременного залпа из нескольких тысяч пушек, потряс воздух, повергнув всех в ужас. Когда этот адский грохот достиг нашего слуха, густая пелена дыма разверзлась, и в ослепительно ясной синеве перед нашими взорами открылась широкая панорама сражения двух флотов. Ужасающий взрыв этот раздался в южной части моря, там, где находился наш арьергард.
– Взорвался корабль, – воскликнули все в один голос. Мнения тут же разделились; многие предполагали, что взорвались «Санта Анна», «Аргонавт», «Ильдефонсо» или «Багама». Только потом мы узнали, что взлетел на воздух французский корабль «Ахиллес». Страшный взрыв тысячей обломков разметал по небу и морю то, что недавно было прекрасным семидесятичетырехпушечным кораблем с командой в шестьсот человек. Но через несколько минут после этого несчастья мы уже думали только о себе. После того как сдался «Буцентавр», весь вражеский огонь обрушился на наш корабль, гибель которого тоже была уже предрешена. Энтузиазм первых минут боя угас во мне, и мое сердце наполнилось ужасом, парализовавшим всю мою волю, все мои чувства, кроме любопытства. Это чувство было столь непреодолимым, что я пробирался в самые опасные места. Моя скромная помощь уже никому не была нужна, раненых уже никто не относил в трюм: так их было много; а пушки нуждались лишь в тех, у кого хватало сил заряжать их. Среди этих самоотверженных героев я увидел Марсиаля, который кричал, командовал и исполнял – сколько позволяла его деревяшка – различные обязанности, воплощая в своем лице боцмана, матроса, бомбардира, плотника и еще десятки других профессий, которые требовались в эти страшные минуты. Я никогда не мог даже себе представить, сколько различных дел может исполнять этот искалеченный матрос, прозванный Полчеловека. Обломок мачты ранил его в голову, и залитое кровью лицо придавало ему жуткий вид. Я видел, как он всасывал губами липкую жижу, стекавшую по лицу, и, чертыхаясь, сплевывал ее за борт, словно желая поразить этими кровавыми плевками наших врагов.
Но особенно меня поражало и даже пугало то, что Марсиаль шутил и балагурил в этом кромешном аду, не знаю, то ли желая подбодрить упавших духом приятелей, то ли сам черпая в этом новые силы.
С грохотом рухнула фок-мачта, загромоздив своими парусами весь бак, и тут же Марсиаль крикнул:
– А ну, ребята, живей топоры. Засунем эту кроватку в спаленку.
В миг были разрублены реи и канаты, и мачта полетела за борт. А Марсиаль, слыша, что утихает пушечная стрельба, побежал к буфетчику, ставшему канониром, и крикнул ему:
Глава X
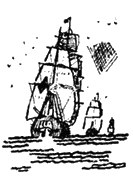
Я прямо млел от удовольствия при виде того, как послушно перестраивались эти огромные плавучие крепости. И хотя из-за различия мореходных качеств корабли совершали маневр не слишком быстро и не слишком правильно, я с восхищением наблюдал за ними. Дул юго-западный ветер, еще с утра предсказанный Марсиалем. Эскадра приняла его правым бортом и взяла курс на Гибралтарский пролив. Ночью то там, то тут мелькали огни, а наутро, двадцать первого октября, мы увидели с наветренной стороны двадцать семь вражеских кораблей, среди которых Марсиаль насчитал семь трехпалубных фрегатов. Часам к восьми утра все тридцать три неприятельских корабля, шедшие двумя колоннами, были у нас на виду. Наша эскадра вытянулась длинной кильватерной колонной. По всей вероятности, две колонны Нельсона, идущие клином, намеревались прорезать нашу линию в центре и арьергарде. Такова была позиция двух неприятельских сторон, когда «Буцентавр» подал сигнал делать поворот фордевинд. Вы, наверное, и не знаете, что это такое; но я вам объясню: нужно было сменить курс на сто восемьдесят градусов, то есть если ветер раньше нам дул с правого борта, то после маневра он уже дул в левый борт, и мы пошли почти прямо в противоположном направлении. Бушприты наших кораблей теперь смотрели на север, Кадис лежал у нас под ветром, и в случае опасности мы могли лечь в дрейф – этот маневр флагмана подвергся сильному осуждению на «Тринидаде», особенно его поносил Марсиаль, который приговаривал: «Ну, совсем расфордевинели боевой порядок, вот уж воистину не было печали, так черти накачали».
И в самом деле, авангард превратился в арьергард, а резерв – лучшие боевые корабли – остался в хвосте. И поскольку ветер ослаб, то суда с разношерстной оснасткой и плохо обученными экипажами не могли быстро и умело построить новую линию: одни корабли чрезмерно поспешили и налетели на идущие впереди, другие, наоборот, замешкавшись, отстали или сбились с курса, образовав большую брешь в общем строю, прежде чем это сделал неприятель. С флагмана отдали команду восстановить порядок, но, как ни послушен корабль, им намного труднее управлять, чем конем. Вот почему, всматриваясь в маневр близидущих кораблей, Марсиаль ворчал:
– Наша колонна длиннее Млечного Пути. Если Барчук разорвет ее, прощай родина! Мы пропали во цвете лет, тут хоть пушки заряжай головами вместо ядер, ничем не поможешь, вот помяните мои слова, дадут нам прикурить по самому центру. И как тогда нам помогут «Святой Хуан» и «Багама», которые плетутся в хвосте, или «Нептун» и «Громовержец», которые идут в голове колонны? – (Всеобщее одобрение.) – Кроме всего прочего, мы идем с подветренной стороны, и сюртучники могут выбрать любое место для атаки. Дай бог унести нам ноги. Господь свершит великую милость, если освободит нас от французов на веки вечные. Аминь! Иисус.
Солнце поднималось к зениту, неприятель шел на нас прямым курсом.
– Да какой же дурак начинает бой в самый что ни на есть полдень? – в сердцах восклицал старый моряк, стараясь, правда, чтобы его слышали только приятели, к которым я примкнул, сгорая от ненасытного любопытства. Лица всех моряков, как мне показалось, были мрачны и насуплены. Офицеры, стоявшие на шканцах, а также матросы и боцманы на баке – все всматривались в выбившиеся из строя, шедшие байдевинд корабли; несколько из них принадлежали к центру. Я запамятовал рассказать вам, дорогой читатель, об одном очень важном приготовлении к бою; в котором я принял участие. После того как поутру произвели уборку на корабле и подготовили все, что полагалось для стрельбы и для маневра, я услышал странную команду: «Сыпь песок! Сыпь песок!» Марсиаль за ухо оттащил меня к палубному люку и поставил в ряд с какими-то новобранцами, юнгами и прочей шушерой. Матросы, взобравшись на уступы и трапы, вытаскивали из глубины трюма мешки с песком. Ловко и быстро, словно балуясь, они перекидывали друг другу тяжелые мешки. И так по живой цепи из трюма извлекли груду мешков. Я оторопел, когда увидел, как их стали вытряхивать прямо на палубу, мостики, шканцы, бак, пока не покрыли толстым слоем песка весь корабль. То же самое проделали на деках. Меня прямо-таки распирало любопытство, и я спросил у стоявшего рядом юнги, для чего все это делалось.
– Для крови, – с безразличным видом бросил он.
– Для крови? – переспросил я, невольно попятившись от ужаса.
Я посмотрел на песок, посмотрел на моряков, которые с веселыми прибаутками занимались своим делом, и на миг почувствовал себя трусом. Однако мое разгоряченное воображение вскоре освободило меня от всякого страха, и я принялся мечтать лишь о победах и приятных сюрпризах.
Пушки стояли наготове, боеприпасы из пороховых погребов, подобно мешкам с песком, передавались на батарейные палубы по цепи матросов.
Англичане наступали на нас двумя колоннами. Одну колонну возглавлял идущий на самом острие клина огромный корабль под флагом адмирала. Позже я узнал, что это была «Виктория» и командовал ею сам Нельсон. Во главе другой колонны шел «Ройял Соверен» под командой Коллингвуда.
С именами этих флотоводцев, а также с мельчайшими подробностями морского сражения я познакомился много позже. Мои воспоминания, ясные и четкие в отношении всего занимательного и живописного, едва служат мне во всех тех вопросах, которые были мне тогда непонятны. Все, что я так часто слышал из уст Марсиаля, а также узнал впоследствии, позволило мне составить представление о нашей эскадре, а чтобы и вам, дорогой читатель, стала ясна обстановка перед сражением, я перечислю наши корабли, выделив те из них, которые не успели совершить маневра и тем самым образовали брешь в нашей обороне, а также укажу национальную принадлежность кораблей и схему атаки.
Вот приблизительно как это было.
Первая колонна под командой Нельсона
«Виктория»
АВАНГАРД
«Нептун»…………………………исп.
«Сципион»…………………………фр.
«Громовержец»………………….исп.
«Формидабль»……………………фр.
«Дюгэ» …………………………………..фр.
«Мон-Блан» ………………………….фр.
«Ассиз» ………………………………исп.
ЦЕНТР
«Августин» …………………………..исп.
«Эрот» ………………………………….фр.
«Тринидад» ……………………исп.
«Буцентавр»………………………….фр.
«Нептун». ……………………………..фр.
«Редутабль» ………………………….фр.
«Энтрепид»…………………………..фр.
«Леандро»………………………..исп.
Вторая колонна под командой Коллингвуда
«Ройял Соверен»
АРЬЕРГАРД
«Сан Хусто» …………………………исп.
«Эндомтаблъ» ……………………….фр.
«Санта Анна» ………………………исп.
«Фуге» …………………………………..фр.
«Монарх»……………………………..исп.
«Плутон» ………………………фр.
РЕЗЕРВ
«Багама»……………………………….исп.
«Эгль». ……………………………………фр.
«Горец» ………………………………….исп.
«Альхесирас» ………………………….исп.
«Аргонавт» ……………………………исп.
«Свифт-Сюр» …………………………фр.
«Аргонавт» …………………………….фр.
«Ильдефонсо» ………………………..исп.
«Ахилл» ………………………………….фр.
«Принц Астурийский» ……………исп.
«Бёрвик» …………………………………фр.
«Непомусено»………………………..исп.
Пробило без четверти двенадцать. Страшный миг приближался. Всех, как и меня, охватило лихорадочное нетерпение, а мое внимание было приковано к кораблю, на котором, как говорили, находился Нельсон, и мне было не до того, что творилось вокруг.
Внезапно наш командир отдал приказ. Его повторили боцманы. Матросы бросились к вантам; заскрипели лебедки, заполоскали на ветру марселя.
– Ложись в дрейф! – крепко выругавшись, завопил Марсиаль.
– Этот сукин сын хочет влепить нам по корме!
В тот же миг я понял, что «Тринидаду» был отдан приказ застопорить ход и прижаться к шедшему следом «Буцентавру». Наперерез нам на всех парусах летела «Виктория». Наблюдая за маневром нашего корабля, я лишний раз мог убедиться, что большая часть команды не обладала тем умением и сноровкой, которые были присущи бывалым морякам вроде Марсиаля. Многие солдаты страдали морской болезнью, они даже хватались за поручни, чтобы не свалиться за борт. Правда, было немало отважных, храбрых людей, особенно среди добровольцев, но основная масса насильно завербованных ни к черту не годилась; они плохо слушались команды, и я уверен, что у них не было ни на грош патриотизма. Как я впоследствии понял, не они принесли славу сражению, а оно прославило их. Но, несмотря на невысокие моральные качества разношерстной команды, мне думается, что в торжественную минуту перед первым выстрелом помыслы всех были устремлены к всевышнему. Что касается меня, то впечатления тех минут запомнились мне на всю жизнь.
Несмотря на юные годы, я прекрасно сознавал всю серьезность положения, и впервые в жизни мной овладели высокие мысли, возвышенные образы и благородные идеи. Я настолько был убежден в нашей победе, что мне даже стало жалко англичан: ведь они шли на верную гибель! Именно в эти минуты я впервые со всей ясностью осознал свою любовь к родине, и мое сердце радостно забилось от этого глубокого чувства. До сих пор родина представлялась мне в виде нескольких лиц, управлявших страной, таких, как король и его первый министр, но я не воздавал им должного уважения. Поскольку истории я обучался лишь в бухте Ла Калета, для меня было законом радоваться и приходить в восторг при известии о том, что испанцы в давние времена поубивали несметное множество мавров, а потом – добрую порцию англичан и французов. Я представлял свою страну самой храброй на свете, но в моем представлении эта храбрость отождествлялась с жестокостью и варварством. При таком образе мыслей патриотизм для меня сводился лишь к горделивому тщеславию, что я принадлежу к славному племени истребителей мавров.
Но в минуты, предшествующие сражению, я глубоко осознал все значение этого божественного чувства, и национальная гордость расцвела в моей душе, осветив самые сокровенные тайники, как утреннее солнце освещает землю и отвоевывает у мрака прекрасные картины природы. Страна моя представлялась мне огромной землей, населенной людьми, по-братски любящими друг друга; все общество состоит из отдельных семей, в которых мужья безбедно содержат своих жен, воспитывают детей, управляют хозяйством, защищают честь семьи. Я понял, что эти люди заключили договор о помощи и поддержке в борьбе против внешнего врага, что именно они построили корабли, чтобы защитить родину, иными словами – ту землю, по которой они ходили, ту ниву, которую они оросили потом, дом, где жили их отцы и деды, сады, где играли их дети, новые земли, открытые и завоеванные их предками, морские порты, где пришвартовывались после долгих утомительных путешествий корабли, склады, где люди хранили свои богатства, церкви – усыпальницы предков, жилища святых и алтари веры; площади и цирки – места развлечений и празднеств; домашний очаг, чье старинное убранство, переходящее из поколения в поколение, является как бы символом вечности нации; кухни, в чьих закопченных стенах никогда не замолкает эхо древних сказок, которыми бабушки умиротворяют шумных, шаловливых внучат; улицы, по которым гуляют друзья и подруги; поля, море, небо – все, что с рождения неразрывно с нами связано и дорого нашему сердцу, начиная от яслей любимого коня и кончая троном древних королей; все предметы, в которых живет частица нашей души.
Вдобавок я был убежден, что распри Испании с Францией или с Англией возникали оттого, что эти страны хотели у нас всегда что-нибудь отнять, и, надо сказать, в этом вопросе я не намного ошибался. Итак, наша оборона представлялась мне самым законным делом, а нападение англичан – самым подлым и низким, но, поскольку мне не раз доводилось слышать, что справедливость торжествует, я был уверен в нашей победе. Любуясь красно-желтыми знаменами, так живо напоминавшими бушующее пламя, я чувствовал, как у меня вздымается грудь, и не в силах был сдержать слез восторга; мне пришли на память Кадис, Вехер; воображение рисовало мне всех испанцев, собравшихся вместе на огромной плоской крыше, откуда они с замиранием сердца следили за нами; все эти мысли и образы в конце концов обратили мои помыслы к богу, к которому я воззвал в жаркой молитве, но это не были обычные «Отче наш» или «Аве Мария», а нечто новое, впервые пришедшее мне на ум. Оглушительный грохот вывел меня из этого блаженного состояния, и я невольно вздрогнул. То прозвучал первый залп.
Глава XI
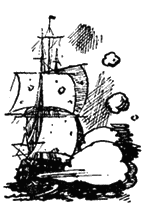
В пылу первого в моей жизни сражения я даже не замечал, как вокруг меня падали тела раненых и убитых моряков. Забравшись в укромный уголок, я не отрывал взора от нашего капитана, с героическим хладнокровием командовавшего на мостике. Но не менее меня поразил мой беспокойный хозяин, который охрипшим голосом воодушевлял на подвиг офицеров и матросов. «Ну-ну, – подумал я про себя, – вот бы увидела тебя сейчас донья Франсиска».
Признаюсь, дорогой читатель, порой я испытывал такой невыносимый страх, что готов был спрятаться на дно трюма, а то, подгоняемый лихорадочным любопытством, наблюдал за всеми перипетиями боя из самых опасных мест на корабле. Но оставим в покое мою скромную персону, лучше я поведаю вам о самой страшной минуте боя с «Викторией». «Тринидад» нанес ей уже очень большой урон, как вдруг «Темерери», совершив изумительный маневр, встал между нами и загородил собой своего флагмана от наших залпов. Затем, не мешкая, прошел у нас под кормой и отрезал от остальной эскадры. «Буцентавр» в пылу боя подошел очень близко к неприятелю; он чуть не касался его своими реями; из-за этого в нашем строю образовалась брешь, куда и устремился «Темерери». Сделав поворот фордевинд, он очутился у нашего целехонького бакборта и разрядил по нему все свои пушки. В ту же минуту «Нептун» и другой английский линейный корабль, заняв место «Виктории», которая, в свою очередь, повернула и стала с подветренной стороны, в мгновение ока окружили «Тринидад» и принялись молотить по нему с двух сторон. По исказившемуся лицу дона Алонсо, по страшному гневу Уриарте, по неистовым ругательствам и проклятьям матросов, друзей Марсиаля, я понял, что мы погибли, и мысль о нашем поражении наполнила скорбью мою душу. Строй союзной эскадры был прорезан в нескольких местах; после неразумного поворота фордевинд наш боевой порядок пришел в совершеннейший беспорядок. Мы оказались в окружении врагов, чья артиллерия обрушила на нас с «Буцентавром» целый шквал ядер и картечи. «Августин», «Эрот» и «Леандро» дрались далеко от нас, почти в таких же стесненных условиях. А «Тринидад» и флагман нашей эскадры, потеряв управление и попав в кровавую ловушку, измышленную гением Нельсона, оставили всякую мысль о победе и героически сражались, помышляя лишь о том, чтобы умереть с честью.
Седые волосы, венчающие сегодня мою голову, встают дыбом при воспоминании о тех ужасных часах, особенно от двух до четырех пополудни. Корабли представлялись мне уже не слепыми орудиями войны, а послушными воле людей, живыми чудовищами, сражающимися своими гигантскими крыльями-парусами и огнедышащими пастями пушек. Мое воображение наделило этих чудовищ жизнью, я до сих пор словно вижу, как они подкрадываются друг к другу, вступают в бой, яростно изрыгают огонь из своих пушек, бесстрашно схватываются на абордаж, медленно отступают, чтобы, передохнув, наброситься с новыми силами и сломить сопротивление врага. Мне кажется, я и сейчас вижу, как они корчатся от боли, когда их ранят, или издают предсмертный воинственный клич, словно не теряющий благородства гладиатор перед близкой кончиной. Мне чудится, будто я слышу крики матросов, словно вырывающиеся из единой разъяренной глотки: порой это воинственный клич, порой глухой стон отчаяния, предвестник скорой гибели; то ликующий гимн близкой победы, то бешеное проклятье, после которого наступает гнетущая, мертвая тишина, свидетельница позорного поражения.

По мере своих сил я помогал переносить раненых в трюм, где помещался лазарет. Некоторые умирали прямо у меня на руках, не получив никакого облегчения, другим же страдальцам предстояло перенести мучительные операции, прежде чем они могли надеяться на какой-либо покой. Кроме этой печальной обязанности, на мою долю выпала честь помогать плотникам, которые с великой поспешностью накладывали заплаты на пробоины в бортах, но в силу моего тщедушного сложения эта помощь не была столь действенной, как мне бы хотелось.
Несмотря на песок, потоки крови растекались по палубе, образуя причудливые мрачные рисунки. Ядра, выпущенные почти в упор, производили страшный урон, нередко по палубе катились тела с напрочь снесенной головой, если сила удара не обрушивала жертву сразу в море, где в пучине волн затихали последние проблески жизни. Другие ядра попадали в мачты, в снасти, в надстройки, поднимая тучи обломков и щепок, которые ранили, словно стрелы. Ружейный огонь с марса и картечь тоже наносили большой урон, смерть от них наступала не так быстро, но зато муки были нестерпимы, и уже не оставалось ни одного человека, которого бы не отметала вражеская пуля или осколок…
Разбитая, сломленная команда – душа корабля, почуявшая свое поражение, – погибала, не в силах нанести ответный удар, отчаянно сражаясь, как и сам героический корабль, трещавший под залпами вражеских батарей. Я чувствовал, как корабль никнет в неравной борьбе, как скрипят его блоки, трещат и ломаются бимсы и переборки, словно корчась от боли, а палуба, грохоча, ходит ходуном под ногами, точно весь огромный корабль дрожит от негодования и боли, передавшейся ему от команды. А тем временем вода устремилась в тысячи щелей и пробоин изрешеченного корпуса, наполняя трюм.
«Буцентавр» – флагманский корабль – сдался у нас на глазах. Вильнев спустил свой флаг. Что же оставалось делать другим кораблям, после того как сдался сам командующий эскадрой? Французский национальный флаг исчез с кормы этого гордого корабля, и смолкли его пушки. «Сан Августин» и «Эрот» еще продолжали борьбу, а принадлежащие к авангарду «Громовержец» и «Нептун», пришедшие к нам на помощь, предприняли напрасную попытку освободить нас из вражеского окружения. Я видел бой, разгоревшийся в непосредственной близости к «Сантисима Тринидад», что же касается последних кораблей в строю, то их совсем невозможно было разглядеть. Ветер, казалось, замер, и дым окутал нас густыми белыми клубами, так что ничего нельзя было разобрать вокруг. Мы едва различали оснастку сражавшихся поодаль кораблей, в наших глазах они выросли до невероятных размеров, не знаю, то ли по причине неких оптических явлений, то ли из-за неописуемого страха, обуявшего всех нас.
На мгновение густой дым рассеялся, но, боже, что послужило тому причиной! Невероятной силы взрыв, сильнее одновременного залпа из нескольких тысяч пушек, потряс воздух, повергнув всех в ужас. Когда этот адский грохот достиг нашего слуха, густая пелена дыма разверзлась, и в ослепительно ясной синеве перед нашими взорами открылась широкая панорама сражения двух флотов. Ужасающий взрыв этот раздался в южной части моря, там, где находился наш арьергард.
– Взорвался корабль, – воскликнули все в один голос. Мнения тут же разделились; многие предполагали, что взорвались «Санта Анна», «Аргонавт», «Ильдефонсо» или «Багама». Только потом мы узнали, что взлетел на воздух французский корабль «Ахиллес». Страшный взрыв тысячей обломков разметал по небу и морю то, что недавно было прекрасным семидесятичетырехпушечным кораблем с командой в шестьсот человек. Но через несколько минут после этого несчастья мы уже думали только о себе. После того как сдался «Буцентавр», весь вражеский огонь обрушился на наш корабль, гибель которого тоже была уже предрешена. Энтузиазм первых минут боя угас во мне, и мое сердце наполнилось ужасом, парализовавшим всю мою волю, все мои чувства, кроме любопытства. Это чувство было столь непреодолимым, что я пробирался в самые опасные места. Моя скромная помощь уже никому не была нужна, раненых уже никто не относил в трюм: так их было много; а пушки нуждались лишь в тех, у кого хватало сил заряжать их. Среди этих самоотверженных героев я увидел Марсиаля, который кричал, командовал и исполнял – сколько позволяла его деревяшка – различные обязанности, воплощая в своем лице боцмана, матроса, бомбардира, плотника и еще десятки других профессий, которые требовались в эти страшные минуты. Я никогда не мог даже себе представить, сколько различных дел может исполнять этот искалеченный матрос, прозванный Полчеловека. Обломок мачты ранил его в голову, и залитое кровью лицо придавало ему жуткий вид. Я видел, как он всасывал губами липкую жижу, стекавшую по лицу, и, чертыхаясь, сплевывал ее за борт, словно желая поразить этими кровавыми плевками наших врагов.
Но особенно меня поражало и даже пугало то, что Марсиаль шутил и балагурил в этом кромешном аду, не знаю, то ли желая подбодрить упавших духом приятелей, то ли сам черпая в этом новые силы.
С грохотом рухнула фок-мачта, загромоздив своими парусами весь бак, и тут же Марсиаль крикнул:
– А ну, ребята, живей топоры. Засунем эту кроватку в спаленку.
В миг были разрублены реи и канаты, и мачта полетела за борт. А Марсиаль, слыша, что утихает пушечная стрельба, побежал к буфетчику, ставшему канониром, и крикнул ему:
