Страница:
И только четверо учеников шли молча. Они были встревожены и старались держаться поближе к Учителю, чтобы тот утешил их. Назарет, родина Учителя, освистал их и прогнал прочь – нехорошо начался их великий поход! «А что если нас прогонят и из Каны, и из Капернаума, и отовсюду с берегов Геннисаретского озера, – что тогда будет с нами? – думали они. – Куда нам тогда идти? Кому возглашать слово Божье? Коль народ Израиля отречется от нас и подвергнет осмеянию, к кому тогда обращаться? Уж не к неверным ли?»
Они смотрели на Учителя, но никто из них не осмелился рта раскрыть. Однако Иисус заметил испуг в их глазах, взял за руку Петра и сказал:
– Эх, Петр-маловер! Черный зверь со вздыбленной шерстью сидит, содрогаясь, в зрачке твоего глаза. Имя ему – Страх. Тебе страшно?
– Когда я далеко от тебя, Учитель, мне страшно. Поэтому я и подошел к тебе. Поэтому все мы подошли. Поговори с нами, дабы укрепились сердца наши.
Иисус улыбнулся.
– Когда я заглядываю в глубину души моей, сам не знаю как и почему истина выходит из сердца моего в образе притчи. Поэтому, товарищи, я снова расскажу вам притчу.
– Кто же эти приглашенные и кто те, кого не приглашали? Что это за свадьба? Прости, Учитель, мы не поняли, – сказал Петр, в отчаянии почесывая свою огромную голову.
– Вы поймете это, когда я позову приглашенных войти в Ковчег, а они откажутся, – сказал Иисус. – Потому что есть у них виноградники, поля и жены, а глаза их, уши, уста, ноздри и руки – пять пар быков, на которых они пашут. Но что вспахивают они? Ад!
Иисус вздохнул, посмотрел на товарищей и почувствовал, насколько он одинок в мире.
– Вот я говорю, а кому я говорю все это? – произнес Сын Марии. – Бросаю слова на ветер. Говорю и чувствую, как я одинок. Когда у пустыни появится слух, дабы слышать меня?
– Прости нас, Учитель, – снова сказал Петр. – Пласт земли есть разум наш. Погоди, и он даст обильные всходы.
Иисус повернулся к почтенному раввину и посмотрел на него. Но тот устремил взгляд в землю, догадываясь о скрытом грозном смысле, а его старческие глазки с выцветшими ресницами наполнились слезами.
На околице Назарета у деревянного барака стоял мытарь, собиравший налоги, по имени Матфей: всякий товар при въезде и выезде облагался налогом в пользу римлян. Приземистый, тучный, бледный человечек: мягкие желтоватые руки, перепачканные чернилами пальцы, черные ногти, крупные волосатые уши, высокий, как у евнуха, голос. Все селение ненавидело и презирало его, никто не подавал ему руки; все отворачивались, проходя мимо барака. Разве не гласят Писания: «Только Богу, но не людям надлежит платить подати»? Этот же мытарь на службе у тирана попирает Закон, живя беззаконием. Воздух осквернен на семь миль вокруг него.
– Идемте быстрее, ребята, – сказал Петр. – Старайтесь не дышать. Отвернитесь от него!
Но Иисус остановился. Матфей стоял у барака, зажав в пальцах тростинку для письма, и прерывисто дышал, не зная как поступить – остаться было боязно, уйти в барак не хотелось. Давно уже владело им желание увидеть нового пророка, который провозглашал, что все люди – братья. Разве не он сказал как-то: «Богу намного милей раскаявшийся грешник, чем никогда не согрешивший»? Разве не Он сказал в другой раз: «В мир явился я не для праведников, но для грешников: с ними мне любо вести беседу и вкушать пищу?» Разве не он на вопрос: «Учитель, каково истинное имя Божье?» – ответил: «Любовь»?
Вот уже много дней и ночей повторял Матфей эти слова в сердце своем и говорил, вздыхая: «О, если бы мне довелось увидеть его и припасть к стопам его!» И вот теперь, когда пророк рядом, Матфею стыдно поднять глаза, чтобы взглянуть на него, и стоит Матфей неподвижно, опустив голову, и ждет чего-то. Чего же он ждет? Сейчас пророк уйдет и исчезнет навсегда.
Иисус шагнул к нему.
– Матфей, – сказал он тихо, но с такой нежностью, что мытарь почувствовал, как млеет его сердце.
Он поднял глаза. Иисус стоял перед ним и смотрел на него. Нежный всесильный взгляд проникал в душу мытаря, сердце его обретало умиротворение, разум – озарение, на все его существо, дрожавшее в ознобе, нисходили солнечные лучи и согревали его. О, как велика была его радость, уверенность, умиротворенность! Оказывается, мир так прост и так легко обрести спасение?
Матфей вошел в барак, закрыл счетные книги, взял под мышку чистый свиток, заткнул за пояс чернильницу, сунул за ухо тростинку для письма. Вытащив из-за пояса ключ, он запер дверь и швырнул ключ в сад. Затем Матфей направился к Иисусу. Колени его дрожали. Он остановился. Подходить или не подходить? Подаст ли ему руку Учитель? Матфей поднял глаза и посмотрел, на Иисуса взглядом, который кричал: «Пожалей меня!» Иисус улыбнулся и протянул ему руку:
– Здравствуй, Матфей! Пошли с нами.
Ученики вздрогнули, расступились. Старый раввин наклонился к уху Иисуса:
– Дитя мое, он же мытарь! Это великий грех, ты должен повиноваться Закону.
– Я повинуюсь своему сердцу, старче, – ответил тот. Они покинули Назарет, миновали сады, вышли в поле. Дул холодный ветер. Вдали поблескивал усыпанный первым снегом Хеврон.
Раввин снова взял Иисуса за руку, не желая расставаться, не поговорив с ним… Но что сказать ему? С чего начать? В Иудейской пустыне Бог якобы доверил ему держать в одной длани огонь, а в другой – семена: он сожжет этот мир и взрастит новый… Раввин тайком взглянул на Иисуса: верить ли этому? Разве не гласят Писания, что Избранник Божий схож с засохшим древом, возросшим среди камней, презираемым и покинутым людьми? «Может быть, это и есть Он…» – подумал старец.
– Кто ты? – тихо, чтобы никто не слышал, спросил раввин, опершись о его плечо.
– С того дня, как я появился на свет, мы провели рядом столько времени, а ты до сих пор не узнал меня, дядя Симеон?
У почтенного раввина перехватило дыхание.
– Я не в силах постичь это разумом, – прошептал он. – Не в силах…
– А сердцем, дядя Симеон?
– Его я не слушаю, дитя мое, – оно толкает человека в пропасть.
– В пропасть Божью, к спасению, – сказал Иисус, сочувственно посмотрев на старца. Помолчав немного, он продолжал:
– Помнишь, старче, мечту племени Израилева, которую узрел как-то ночью во сне пророк Даниил в Вавилоне? Воссел Ветхий Днями на престоле своем; одеяние на Нем было бело как снег, и волосы главы Его – как чистая волна; престол Его – как пламя огня; Огненная река выходила и проходила перед Ним. Справа и слева от Него воссели Судьи. И разверзлись тогда облака, и сошел на облака… Кто? Помнишь, старче?
– Сын Человеческий, – ответил почтенный раввин, который вот уже в течение нескольких поколений жил этой мечтой, а теперь вот пришли ночи, когда и он стал видеть ее во сне.
– И кто же этот Сын Человеческий, старче?
Колени почтенного раввина дрогнули. Он испуганно взглянул на юношу.
– Кто? – прошептал раввин, прильнув взглядом к губам Иисуса. – Кто?
– Я, – тихо сказал тот, опустив руку на голову старцу, словно благословляя его.
Почтенный раввин попытался было заговорить, но уста не повиновались ему.
– Прощай, старче! – сказал Иисус, протянув ему руку. – Ты счастлив, ибо удостоился зреть до смерти то, чего страстно желал всю свою жизнь. – Бог сдержал слово, старче Симеон!
Раввин стоял и смотрел на него широко раскрытыми глазами… Чем был окружавший его мир? Престолы, крылья, белые молнии, нисходящие облака, Сын Человеческий в облаках? Может быть, все это снилось ему? Или же он был пророком Даниилом, зревшим во врата грядущего, отворившегося перед ним? Не земля, но облака были вокруг, а этот юноша, который с улыбкой протягивал ему руку, был не Сын Марии, но Сын Человеческий!
В голове у него закружилось. Чтобы не упасть, старец оперся на посох и смотрел. Смотрел, как Иисус с пастушьим посохом в руках ступает под осенними деревьями. Солнце опустилось. Не в силах больше удержаться на небе, дождь пал на землю. Одежда почтенного раввина промокла насквозь, прилипла к телу, дождь струями стекал с волос. Старец дрожал от холода, но продолжал неподвижно стоять посреди дороги, несмотря на то, что Иисус и следовавшие за ним ученики уже скрылись за деревьями. Видел ли почтенный раввин сквозь дождь и ветер, как босые оборванцы идут вперед, совершая свое восхождение? Куда идут они? К чему стремятся? Раздуют ли эта оборванные, босые и необразованные мировой пожар? Бездна есть воля Господня…
– Адонаи, – прошептал старец. – Адонаи…
И слезы потекли из глаз его.
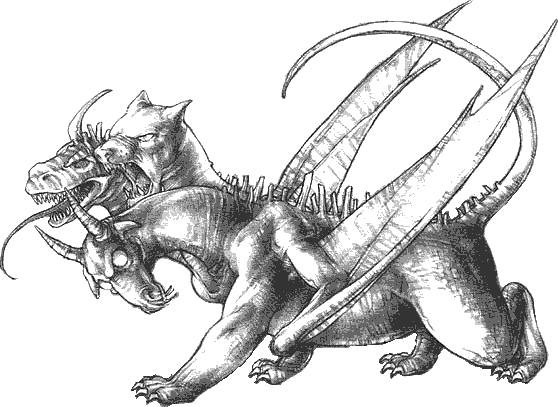
Они смотрели на Учителя, но никто из них не осмелился рта раскрыть. Однако Иисус заметил испуг в их глазах, взял за руку Петра и сказал:
– Эх, Петр-маловер! Черный зверь со вздыбленной шерстью сидит, содрогаясь, в зрачке твоего глаза. Имя ему – Страх. Тебе страшно?
– Когда я далеко от тебя, Учитель, мне страшно. Поэтому я и подошел к тебе. Поэтому все мы подошли. Поговори с нами, дабы укрепились сердца наши.
Иисус улыбнулся.
– Когда я заглядываю в глубину души моей, сам не знаю как и почему истина выходит из сердца моего в образе притчи. Поэтому, товарищи, я снова расскажу вам притчу.
Иисус умолк. Он уж было успокоился, но, когда во время рассказа вспомнил о назаретянах и евреях, гнев обозначился между его бровями. Ученики смотрели на него, недоумевая.
Однажды знатный вельможа женил сына своего и велел приготовить во дворце роскошный ужин. Когда закололи быков и накрыли столы, он послал слуг сообщить приглашенным: «Все готово, соблаговолите пожаловать на свадьбу». Но каждый из приглашенных нашел какой-то повод, чтобы не явиться. «Я купил поле и отправляюсь осмотреть его», – сказал один. «Я сам недавно женился и потому не могу прийти», – сказал другой. «Я купил пять пар быков и должен испытать их», – сказал третий… Слуги вернулись и сказали хозяину: «Никто из приглашенных не может прийти, все они заняты». Вельможа разгневался: «Отправляйтесь немедленно на площади и перекрестки, соберите бедняков, хромых, слепых, калек и приведите их сюда! – приказал он. – Я пригласил друзей, но они отказались. Так пусть же в доме моем соберутся те, кого я не звал, – пусть едят, пьют и разделят с сыном моим радость его».
– Кто же эти приглашенные и кто те, кого не приглашали? Что это за свадьба? Прости, Учитель, мы не поняли, – сказал Петр, в отчаянии почесывая свою огромную голову.
– Вы поймете это, когда я позову приглашенных войти в Ковчег, а они откажутся, – сказал Иисус. – Потому что есть у них виноградники, поля и жены, а глаза их, уши, уста, ноздри и руки – пять пар быков, на которых они пашут. Но что вспахивают они? Ад!
Иисус вздохнул, посмотрел на товарищей и почувствовал, насколько он одинок в мире.
– Вот я говорю, а кому я говорю все это? – произнес Сын Марии. – Бросаю слова на ветер. Говорю и чувствую, как я одинок. Когда у пустыни появится слух, дабы слышать меня?
– Прости нас, Учитель, – снова сказал Петр. – Пласт земли есть разум наш. Погоди, и он даст обильные всходы.
Иисус повернулся к почтенному раввину и посмотрел на него. Но тот устремил взгляд в землю, догадываясь о скрытом грозном смысле, а его старческие глазки с выцветшими ресницами наполнились слезами.
На околице Назарета у деревянного барака стоял мытарь, собиравший налоги, по имени Матфей: всякий товар при въезде и выезде облагался налогом в пользу римлян. Приземистый, тучный, бледный человечек: мягкие желтоватые руки, перепачканные чернилами пальцы, черные ногти, крупные волосатые уши, высокий, как у евнуха, голос. Все селение ненавидело и презирало его, никто не подавал ему руки; все отворачивались, проходя мимо барака. Разве не гласят Писания: «Только Богу, но не людям надлежит платить подати»? Этот же мытарь на службе у тирана попирает Закон, живя беззаконием. Воздух осквернен на семь миль вокруг него.
– Идемте быстрее, ребята, – сказал Петр. – Старайтесь не дышать. Отвернитесь от него!
Но Иисус остановился. Матфей стоял у барака, зажав в пальцах тростинку для письма, и прерывисто дышал, не зная как поступить – остаться было боязно, уйти в барак не хотелось. Давно уже владело им желание увидеть нового пророка, который провозглашал, что все люди – братья. Разве не он сказал как-то: «Богу намного милей раскаявшийся грешник, чем никогда не согрешивший»? Разве не Он сказал в другой раз: «В мир явился я не для праведников, но для грешников: с ними мне любо вести беседу и вкушать пищу?» Разве не он на вопрос: «Учитель, каково истинное имя Божье?» – ответил: «Любовь»?
Вот уже много дней и ночей повторял Матфей эти слова в сердце своем и говорил, вздыхая: «О, если бы мне довелось увидеть его и припасть к стопам его!» И вот теперь, когда пророк рядом, Матфею стыдно поднять глаза, чтобы взглянуть на него, и стоит Матфей неподвижно, опустив голову, и ждет чего-то. Чего же он ждет? Сейчас пророк уйдет и исчезнет навсегда.
Иисус шагнул к нему.
– Матфей, – сказал он тихо, но с такой нежностью, что мытарь почувствовал, как млеет его сердце.
Он поднял глаза. Иисус стоял перед ним и смотрел на него. Нежный всесильный взгляд проникал в душу мытаря, сердце его обретало умиротворение, разум – озарение, на все его существо, дрожавшее в ознобе, нисходили солнечные лучи и согревали его. О, как велика была его радость, уверенность, умиротворенность! Оказывается, мир так прост и так легко обрести спасение?
Матфей вошел в барак, закрыл счетные книги, взял под мышку чистый свиток, заткнул за пояс чернильницу, сунул за ухо тростинку для письма. Вытащив из-за пояса ключ, он запер дверь и швырнул ключ в сад. Затем Матфей направился к Иисусу. Колени его дрожали. Он остановился. Подходить или не подходить? Подаст ли ему руку Учитель? Матфей поднял глаза и посмотрел, на Иисуса взглядом, который кричал: «Пожалей меня!» Иисус улыбнулся и протянул ему руку:
– Здравствуй, Матфей! Пошли с нами.
Ученики вздрогнули, расступились. Старый раввин наклонился к уху Иисуса:
– Дитя мое, он же мытарь! Это великий грех, ты должен повиноваться Закону.
– Я повинуюсь своему сердцу, старче, – ответил тот. Они покинули Назарет, миновали сады, вышли в поле. Дул холодный ветер. Вдали поблескивал усыпанный первым снегом Хеврон.
Раввин снова взял Иисуса за руку, не желая расставаться, не поговорив с ним… Но что сказать ему? С чего начать? В Иудейской пустыне Бог якобы доверил ему держать в одной длани огонь, а в другой – семена: он сожжет этот мир и взрастит новый… Раввин тайком взглянул на Иисуса: верить ли этому? Разве не гласят Писания, что Избранник Божий схож с засохшим древом, возросшим среди камней, презираемым и покинутым людьми? «Может быть, это и есть Он…» – подумал старец.
– Кто ты? – тихо, чтобы никто не слышал, спросил раввин, опершись о его плечо.
– С того дня, как я появился на свет, мы провели рядом столько времени, а ты до сих пор не узнал меня, дядя Симеон?
У почтенного раввина перехватило дыхание.
– Я не в силах постичь это разумом, – прошептал он. – Не в силах…
– А сердцем, дядя Симеон?
– Его я не слушаю, дитя мое, – оно толкает человека в пропасть.
– В пропасть Божью, к спасению, – сказал Иисус, сочувственно посмотрев на старца. Помолчав немного, он продолжал:
– Помнишь, старче, мечту племени Израилева, которую узрел как-то ночью во сне пророк Даниил в Вавилоне? Воссел Ветхий Днями на престоле своем; одеяние на Нем было бело как снег, и волосы главы Его – как чистая волна; престол Его – как пламя огня; Огненная река выходила и проходила перед Ним. Справа и слева от Него воссели Судьи. И разверзлись тогда облака, и сошел на облака… Кто? Помнишь, старче?
– Сын Человеческий, – ответил почтенный раввин, который вот уже в течение нескольких поколений жил этой мечтой, а теперь вот пришли ночи, когда и он стал видеть ее во сне.
– И кто же этот Сын Человеческий, старче?
Колени почтенного раввина дрогнули. Он испуганно взглянул на юношу.
– Кто? – прошептал раввин, прильнув взглядом к губам Иисуса. – Кто?
– Я, – тихо сказал тот, опустив руку на голову старцу, словно благословляя его.
Почтенный раввин попытался было заговорить, но уста не повиновались ему.
– Прощай, старче! – сказал Иисус, протянув ему руку. – Ты счастлив, ибо удостоился зреть до смерти то, чего страстно желал всю свою жизнь. – Бог сдержал слово, старче Симеон!
Раввин стоял и смотрел на него широко раскрытыми глазами… Чем был окружавший его мир? Престолы, крылья, белые молнии, нисходящие облака, Сын Человеческий в облаках? Может быть, все это снилось ему? Или же он был пророком Даниилом, зревшим во врата грядущего, отворившегося перед ним? Не земля, но облака были вокруг, а этот юноша, который с улыбкой протягивал ему руку, был не Сын Марии, но Сын Человеческий!
В голове у него закружилось. Чтобы не упасть, старец оперся на посох и смотрел. Смотрел, как Иисус с пастушьим посохом в руках ступает под осенними деревьями. Солнце опустилось. Не в силах больше удержаться на небе, дождь пал на землю. Одежда почтенного раввина промокла насквозь, прилипла к телу, дождь струями стекал с волос. Старец дрожал от холода, но продолжал неподвижно стоять посреди дороги, несмотря на то, что Иисус и следовавшие за ним ученики уже скрылись за деревьями. Видел ли почтенный раввин сквозь дождь и ветер, как босые оборванцы идут вперед, совершая свое восхождение? Куда идут они? К чему стремятся? Раздуют ли эта оборванные, босые и необразованные мировой пожар? Бездна есть воля Господня…
– Адонаи, – прошептал старец. – Адонаи…
И слезы потекли из глаз его.
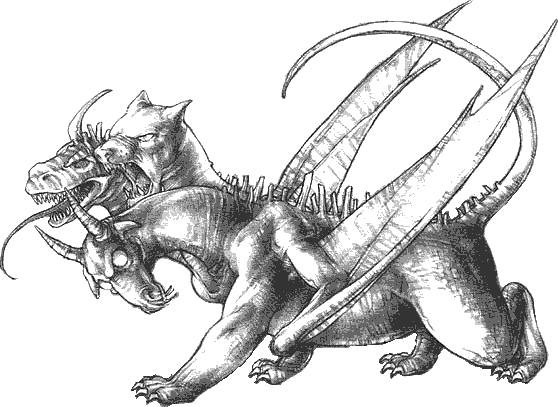
Глава 22
Рома возвышается над народами, раскрыв свои всесильные ненасытные объятия и захватывая в них корабли, караваны, богов и творения всех земель и морей. Она не верит ни в какого бога и потому смело, с иронической снисходительностью принимает у себя при дворе всех богов: из далекой огнепоклоннической Персии – солнцеликого сына Ахурамазды Митру, сидящего верхом на предназначенном для заклания священном быке; из многогрудой страны над Нилом – Исиду, которая разыскивает весной по цветущим полям своего мужа и брата Осириса, разорванного Тифоном на четырнадцать частей; из Сирии, страны душераздирающих рыданий, – прекрасного Адониса; из Фригии – Аттиса, лежащего в могиле, покрытой увядшими фиалками; из бесстыжей Финикии – тысячемужнюю Астарту; из Азии и Африки – всех их богов и демонов, а из Эллады – сияющий вышний Олимп и мрачный аид.
Рома принимает всех богов, она проложила дороги, очистила море от пиратов, сушу – от разбойников, установила мир и навела порядок в мире. И нет над ней никого, даже Бога, а под ней – все: боги и люди, граждане и рабы римские. Густоузорчатым свитком свернулось Время во длани ее. И пространство тоже. «Я вечна», – тщеславно заявляет она, лаская двуглавого орла, отдыхающего у ног своей госпожи, сложив окровавленные крылья. «Быть всемогущей и бессмертной – сколько в этом блеска, сколько непоколебимого ликования!» – думает Рома, и высокомерная сытая усмешка широко расползается по ее упитанному размалеванному лицу.
Рома довольно усмехается, даже не подозревая, для кого проложила она дороги на суше и на море, для кого тяжко трудилась столько веков, устанавливая мир и наводя порядок в мире. Она одерживала победы, создавала законы, богатела, распространяясь по всей вселенной. Для кого все это? Для того, кто шел в этот час босым вверх по пустынной дороге из Назарета в Кану, ведя за собой ватагу оборванцев. У него не было ни крыши над головой на ночь, ни одежды, ни еды: все его закрома, кони да богатые шелковые одеяния еще пребывали на небесах, но и они уже двинулись с места и начали спускаться вниз.
В пути его окружают пыль да камни, ноги его в крови, в руках у него скромный пастуший посох, на который он опирается, когда время от времени останавливается, молча обводя взглядом возвышающиеся вокруг горы и свет поверх гор, который есть Бог, восседающий в высях и наблюдающий оттуда за людьми. Иисус поднимает посох, приветствуя Его, и снова пускается в путь.
Они уже добрались до Каны. На околице селения бледная и счастливая беременная молодая женщина наполняла кувшин водой из колодца. Путники узнали ее: это была та самая девушка, на свадьбе которой они побывали летом, благословив ее на рождение сына.
– Наша молитва услышана, – с улыбкой сказал ей Иисус.
Женщина зарделась, спросила, не желают ли путники утолить жажду, те отказались, и тогда она поставила кувшин на голову, дошла до крайних домов селения и исчезла из виду.
Петр отправился вперед и принялся стучаться во все двери подряд. Дивное опьянение овладело им: приплясывая, спешил он от порога к порогу и кричал:
– Откройте! Откройте!
Двери открывались, из домов выходили женщины. Уже вечерело, возвращающиеся с полей крестьяне удивленно спрашивали:
– Что случилось, ребята? Чего это вы стучитесь во все двери?
– Настал День Господень, – отвечал Петр. – Грядет потоп, ребята, а мы тащим новый Ковчег: кто верует, входите внутрь! Видите, в руках у Учителя ключ? Поторапливайтесь!
Женщины перепугались, мужчины, подошли к Иисусу, который сидел на камне и пастушьим посохом чертил на земле кресты и звезды.
Больные и калеки со всего селения собрались вокруг.
– Исцели нас своим прикосновением, Учитель. Молви нам доброе слово, и мы забудем про слепоту, проказу, увечья.
Высокая, стройная пожилая женщина благородной наружности, в черных одеждах, крикнула:
– Я имела единственного сына, а его распяли. Воскреси его!
Кто была эта благородная женщина почтенного возраста? Поселяне с удивлением повернулись к ней. Никто из селения не был распят: они смотрели туда, откуда прозвучал голос, но женщина исчезла в сумерках.
Наклонившись к земле, Иисус чертил кресты и звезды. До слуха его донеслись звуки боевой трубы, – они катились с возвышавшегося напротив холма. Послышался тяжелый, размеренный конский топот, и в лучах заходя щего солнца блеснули вдруг бронзовые щиты и шлемы. Крестьяне обернулись на эти звуки, и лица их помрачнели.
– Окаянный извращается с охоты: снова отправился ловить повстанцев.
– Он привез в наше селение разбитую параличом дочь, чтобы исцелить ее здесь, на свежем воздухе, но в руках у Бога Израиля счетная книга, в которую он все записывает и ничего не прощает. Земля Каны поглотит ее!
– Тише, злополучные! Вот он!
Впереди ехали три всадника – средним из них был Руф, центурион Назарета. Он пришпорил коня, приблизился к толпе крестьян, поднял плеть и крикнул:
– Чего собрались? Расходитесь!
Лицо его было печально. За несколько месяцев он постарел, волосы его поседели. Страдания единственной дочери, которую как-то утром нашли на ее ложе разбитую параличом, совсем сломили его. Поворачивая из стороны в сторону коня и разгоняя так толпу, он вдруг заметил сидевшего несколько поодаль на камне Иисуса, и лицо его на миг просветлело. Руф пришпорил коня, подъехал к Иисусу и сказал:
– С возвращением из Иудеи, Сыне Плотника! Я искал тебя.
Он повернулся к крестьянам.
– Мне нужно поговорить с ним. Уходите!
Тут Руф заметил учеников и оборванцев, следовавших за ними из Назарета, узнал некоторых из них и нахмурился.
– Ты распинал, Сыне Плотника, так смотри же, как бы тебя самого не распяли. Не путайся с народом, не будоражь ему мысли, – тяжела моя рука, а Рим вечен.
Иисус усмехнулся: он хорошо знал, что Рим не вечен, но промолчал.
Крестьяне с ропотом разошлись и, став поодаль, разглядывали трех повстанцев, которых легионеры схватили и вели, заковав в цепи, – высокого старика с раздвоенной бородой, двух его сыновей. Подняв головы, эти трое смотрели поверх римских шлемов на мир, не видя в нем ничего, кроме гневно стоящего в небесах Бога Израиля.
Иуда узнал их – это были его старые соратники – и кивнул, но те, ослепленные сиянием Божьим, не видели его.
– Сыне Плотника, – сказал центурион, наклонившись с коня. – Есть боги, ненавидящие и убивающие нас, есть боги, не соизволяющие даже опустить взгляд, дабы узреть нас, но есть также благосклонные, премного милосердные боги, исцеляющие несчастных смертных от недугов. Из каких богов твой бог, Сыне Плотника?
– Бог един, – ответил Иисус. – Не богохульствуй, центурион!
– Я не желаю вступать с тобой в богословские споры, – сказал Руф, покачав головой. – Презираю евреев: вам бы все о боге разглагольствовать, прости на слове. Об одном только хочу спросить тебя: может ли твой бог…
Руф умолк. Ему было стыдно просить о милости еврея. Но тут перед его мысленным взором возникло вдруг небольшое девичье ложе и неподвижно лежащее на нем тело бледной девочки с зелеными глазами, которые смотрели на него – смотрели и умоляли…
Он преодолел стыд и нагнулся еще ниже, свесившись с седла.
– Может ли твой бог, Сыне Плотника, может ли он исцелять немощных?
Центурион смотрел на Иисуса страждущим взглядом.
– Может ли? – повторил Руф, потому как Иисус не отвечал. Иисус медленно поднялся с камня и подошел к всаднику.
– Дети платят за прегрешения отцов своих – таков Закон моего Бога.
– Это несправедливо! – в отчаянии воскликнул центурион.
– Это справедливо! – возразил Иисус. – Отец и дитя одного корня: вместе возносятся они на небо, вместе спускаются в ад. Одного разишь – оба получают ранения, один совершает проступок – оба несут наказание. Ты, центурион, подвергаешь нас гонениям и смерти, и Бог Израиля наносит удар, разбивающий параличом дочь твою.
– Тяжелы твои слова, Сыне Плотника. Однажды мне довелось слышать твою речь в Назарете, и слова твои показались мне слишком мягкими, чтобы подобать римлянину, а теперь…
– Тогда речь шла о Царстве Небесном, а теперь – о конце света. С того дня, как ты услышал меня, центурион, Судья Праведный восседает на престоле своем, раскрыв счета, а Правосудие явилось на зов Его и стоит подле Него с мечом во длани.
– Стало быть, твоему богу тоже недоступно нечто большее, чем Правосудие?! – в сердцах воскликнул центурион. – И он тоже не в силах преступить этот предел? А как же та весть, которую ты провозглашал летом в Галилее? Любовь?! Любовь! Дочь моя нуждается не в Правосудии бога, а в любви его. Я ищу бога, который выше правосудия и способен исцелить мое дитя. Потому я сделал все, что только было в моих силах, чтобы разыскать тебя. Любви – слышишь? – Любви, а не Правосудия!
– Чуждый жалости и любви центурион римский, кто вложил эти слова в суровые уста твои?
– Любовь к моему ребенку и страдание. Мне нужен бог, который исцелит мое дитя. Тогда я уверую в него.
– Блаженны верующие в Бога без свершения чудес.
– Блаженны. Но я человек суровый и недоверчивый. Многих богов видел я в Риме, целые тысячи их держим мы в клетках, ими я уже сыт по горло.
– Где твоя дочь?
– Здесь, в верхней части селения, в саду.
– Пошли!
Центурион стремительно соскочил с коня и пошел впереди с Иисусом, чуть поодаль за ними следовали ученики, еще далее – толпа крестьян, а в хвосте отряда оказался теперь и Фома, радости которого не было предела: он шел с солдатами и распродавал нарасхват свой товар.
– Эй, Фома! – окликнули его ученики. – Ты все еще не хочешь пойти с нами? Сейчас ты увидишь чудо и уверуешь.
– Сначала увижу, – ответил Фома. – Увижу и потрогаю.
– Что ж ты потрогаешь, премудрый торгаш?
– Правду.
– Да разве у правды есть тело? Что еще за чушь ты несешь, баламут?
– Если у нее нет тела, зачем мне она? – посмеиваясь, сказал Фома. – Я должен потрогать ее. Не верю ни глазам, ни ушам, одним только рукам верю.
Они поднялись в верхнюю часть селения и вошли в приветливый, выбеленный известью домик.
Девочка лет двенадцати лежала на белом ложе, широко раскрыв большие зеленые глаза. При виде отца лицо ее просияло. Душа ее стремительно рванулась, пытаясь поднять парализованное тело, но это оказалось ей не по силам и радость на лице угасла. Иисус склонился над девочкой, взял ее за руку. Вся его сила собралась в ладонь. Вся его сила, любовь и милосердие. Он молчал, устремив взгляд в зеленые глаза, и чувствовал, как его душа порывисто устремляется через кончики пальцев в тело девочки. А та жадно смотрела на него, чуть приоткрыв рот, и улыбалась.
В комнату, ступая на цыпочках, вошли ученики, и среди них тут как тут и Фома с коробом товара за спиной и трубой за поясом. Крестьяне собрались вокруг домика в саду и на узкой улочке и ждали, затаив дыхание. Прислонившись к стене, центурион смотрел на дочь, стараясь скрыть охватившее его волнение.
Мало-помалу на щеках девочки стал проступать румянец, грудь ее поднялась, приятное щекочущее ощущение прошло от руки к сердцу и от сердца к стопам. Все внутри нее трепетало и вздрагивало, словно листва тополя над дуновением легкого ветерка. Иисус чувствовал, как рука девочки трепещет, словно сердце, и оживает в его ладони. И тогда он открыл уста и ласково велел:
– Встань, девочка!
Девочка слабо задвигалась, как если бы тело ее возвращалось из состояния оцепенения, потянулась, словно пробуждаясь ото сна, уперлась руками о ложе, подняла тело и одним прыжком очутилась в объятиях отца. Фома выпучил раскосые глаза, протянул руку и прикоснулся к девочке, словно и вправду желая убедиться, что она настоящая. Ученики перепугались от неожиданности, а среди собравшегося вокруг народа прошел неясный гул и тут же все испуганно умолкли. Было слышно только свежий смех девочки, обнимавшей и целовавшей отца.
Иуда подошел к Учителю. На лице его были раздражение и злость.
– Тратишь свою силу на неверных? Творишь добро врагам нашим? Может быть, это и есть конец света, который ты несешь нам? Это и есть огонь?
Но Иисус пребывал очень далеко, витал в непроглядных облаках, и не слышал его. Увидав, как девочка вскочила с ложа, он сам испугался больше, чем кто-либо другой. Ученики пустились в пляс вокруг него, не в силах сдержать нахлынувшую на них радость. Как хорошо сделали они, бросив все и последовав за ним, – он истинный пророк, творящий чудеса! А Фома мысленно взвешивал, положив на одну чашу весов свой товар, на другую – Царство Небесное. Некоторое время чаши покачивались, затем остановились: перевесила чаша с Царством Небесным. Это занятие сулило выгоду: здесь на пятаке можно заработать тысячу, – стало быть, вперед, во имя Бога! Фома подошел к Учителю и сказал:
– Учитель, ради твоего драгоценного расположения я раздам свой товар бедноте: не забудь про то, пожалуйста, в день, когда наступит Царство Небесное. Я жертвую всем и иду за тобой. Сегодня я увидел правду и потрогал ее.
Но Иисус все еще пребывал очень далеко: он слышал, но не отвечал.
– Оставлю только трубу, – продолжал старый коробейник. – Буду трубить, созывая народ; итак, займемся торговлей нового, вечного товара – благодати!
Центурион подошел к Иисусу, держа дочь в объятиях, и сказал:
– Ты воскресил мою дочь, человече Божий. Как отблагодарить тебя?
– Я освободил твою дочь от оков Сатаны, освободи же и ты, центурион, трех повстанцев от оков Рима, – сказал Иисус.
Руф покачал головой и вздохнул:
– Не могу, – с сожалением сказал он. – Правда не могу. Я дал присягу римскому императору, как и ты дал присягу Богу, которого ты почитаешь, – разве мы можем нарушить ее? Требуй другой награды. Послезавтра я отправляюсь в Иерусалим и желаю отблагодарить тебя до отъезда.
– Наступит день, когда мы еще встретимся в трудный час в святом Иерусалиме, центурион. Тогда я и потребую награды. Потерпи дотоле, – ответил Иисус.
Он положил руку на белокурые волосы девочки и долго держал ее так. Закрыв глаза, он ощущал, как тепла головка, как мягки волосы, какое наслаждение есть женщина.
– Дитя мое, – сказал он наконец, открыв глаза. – Скажу тебе нечто, о чем ты никогда не должна забывать: возьми отца своего за руку и выведи его на путь истинный.
– А что есть путь истинный, человече Божий? – спросила девочка.
– Любовь.
Центурион велел принести еду и питье, накрыть столы.
– Приглашаю вас, – сказал Руф Иисусу и ученикам. – Сегодня ешьте и пейте в этом доме: я праздную воскрешение моего ребенка. Уже много лет не знал я радости, а нынче она переполняет мое сердце. Добро пожаловать!
И, наклонившись к Иисусу, добавил:
– Я обязан премного возблагодарить бога, которого ты почитаешь. Дай мне его, и я отправлю его в Рим вместе с – другими богами.
– Он сам придет туда, – ответил Иисус и вышел во двор подышать воздухом.
Наступила ночь. Высоко в небе стали зажигаться звезды, а внизу, в небольшой деревеньке, зажглись светильники У и заблистали человеческие глаза. Нынче повседневные разговоры стали более возвышенными, – люди чувствовали, как Бог, словно добрый лев, вошел к ним в селение. Накрыли столы. Иисус уселся между своими учениками и разделил хлеб. Он молчал: душа его все еще беспокойно трепетала, словно спасшись от великой опасности, или свершив великое непредвиденное деяние. Ученики вокруг тоже молчали, но сердца их радостно бились. Ведь все эти светопреставления да Царства Небесные и вправду оказались не пустыми мечтаниями да душевными треволнениями, но истиной, а чернявый юноша, который сидит рядом, ест, говорит, смеется и спит, как и все люди, и вправду был посланником Божьим! Когда ужин окончился и все отправились на покой, Матфей опустился на колени перед светильником, вытащил из-за пазухи непочатый свиток, вынул из-за уха тростинку, склонился над чистым листом и на долгое время погрузился в раздумья. Как и с чего начать? Бог определил ему место рядом с этим святым человеком, (чтобы верно описать изреченные им слова и сотворенные им чудеса, дабы те не исчезли бесследно, дабы грядущие поколения узнали про них и тоже обрели путь к спасению. Воистину это и есть его долг, вверенный ему Богом. Он обучен письму, стало быть, перед ним поставлена угрудная задача – удержать тростинкой то, что готово исчезнуть, занести это на лист и сделать бессмертным.
Рома принимает всех богов, она проложила дороги, очистила море от пиратов, сушу – от разбойников, установила мир и навела порядок в мире. И нет над ней никого, даже Бога, а под ней – все: боги и люди, граждане и рабы римские. Густоузорчатым свитком свернулось Время во длани ее. И пространство тоже. «Я вечна», – тщеславно заявляет она, лаская двуглавого орла, отдыхающего у ног своей госпожи, сложив окровавленные крылья. «Быть всемогущей и бессмертной – сколько в этом блеска, сколько непоколебимого ликования!» – думает Рома, и высокомерная сытая усмешка широко расползается по ее упитанному размалеванному лицу.
Рома довольно усмехается, даже не подозревая, для кого проложила она дороги на суше и на море, для кого тяжко трудилась столько веков, устанавливая мир и наводя порядок в мире. Она одерживала победы, создавала законы, богатела, распространяясь по всей вселенной. Для кого все это? Для того, кто шел в этот час босым вверх по пустынной дороге из Назарета в Кану, ведя за собой ватагу оборванцев. У него не было ни крыши над головой на ночь, ни одежды, ни еды: все его закрома, кони да богатые шелковые одеяния еще пребывали на небесах, но и они уже двинулись с места и начали спускаться вниз.
В пути его окружают пыль да камни, ноги его в крови, в руках у него скромный пастуший посох, на который он опирается, когда время от времени останавливается, молча обводя взглядом возвышающиеся вокруг горы и свет поверх гор, который есть Бог, восседающий в высях и наблюдающий оттуда за людьми. Иисус поднимает посох, приветствуя Его, и снова пускается в путь.
Они уже добрались до Каны. На околице селения бледная и счастливая беременная молодая женщина наполняла кувшин водой из колодца. Путники узнали ее: это была та самая девушка, на свадьбе которой они побывали летом, благословив ее на рождение сына.
– Наша молитва услышана, – с улыбкой сказал ей Иисус.
Женщина зарделась, спросила, не желают ли путники утолить жажду, те отказались, и тогда она поставила кувшин на голову, дошла до крайних домов селения и исчезла из виду.
Петр отправился вперед и принялся стучаться во все двери подряд. Дивное опьянение овладело им: приплясывая, спешил он от порога к порогу и кричал:
– Откройте! Откройте!
Двери открывались, из домов выходили женщины. Уже вечерело, возвращающиеся с полей крестьяне удивленно спрашивали:
– Что случилось, ребята? Чего это вы стучитесь во все двери?
– Настал День Господень, – отвечал Петр. – Грядет потоп, ребята, а мы тащим новый Ковчег: кто верует, входите внутрь! Видите, в руках у Учителя ключ? Поторапливайтесь!
Женщины перепугались, мужчины, подошли к Иисусу, который сидел на камне и пастушьим посохом чертил на земле кресты и звезды.
Больные и калеки со всего селения собрались вокруг.
– Исцели нас своим прикосновением, Учитель. Молви нам доброе слово, и мы забудем про слепоту, проказу, увечья.
Высокая, стройная пожилая женщина благородной наружности, в черных одеждах, крикнула:
– Я имела единственного сына, а его распяли. Воскреси его!
Кто была эта благородная женщина почтенного возраста? Поселяне с удивлением повернулись к ней. Никто из селения не был распят: они смотрели туда, откуда прозвучал голос, но женщина исчезла в сумерках.
Наклонившись к земле, Иисус чертил кресты и звезды. До слуха его донеслись звуки боевой трубы, – они катились с возвышавшегося напротив холма. Послышался тяжелый, размеренный конский топот, и в лучах заходя щего солнца блеснули вдруг бронзовые щиты и шлемы. Крестьяне обернулись на эти звуки, и лица их помрачнели.
– Окаянный извращается с охоты: снова отправился ловить повстанцев.
– Он привез в наше селение разбитую параличом дочь, чтобы исцелить ее здесь, на свежем воздухе, но в руках у Бога Израиля счетная книга, в которую он все записывает и ничего не прощает. Земля Каны поглотит ее!
– Тише, злополучные! Вот он!
Впереди ехали три всадника – средним из них был Руф, центурион Назарета. Он пришпорил коня, приблизился к толпе крестьян, поднял плеть и крикнул:
– Чего собрались? Расходитесь!
Лицо его было печально. За несколько месяцев он постарел, волосы его поседели. Страдания единственной дочери, которую как-то утром нашли на ее ложе разбитую параличом, совсем сломили его. Поворачивая из стороны в сторону коня и разгоняя так толпу, он вдруг заметил сидевшего несколько поодаль на камне Иисуса, и лицо его на миг просветлело. Руф пришпорил коня, подъехал к Иисусу и сказал:
– С возвращением из Иудеи, Сыне Плотника! Я искал тебя.
Он повернулся к крестьянам.
– Мне нужно поговорить с ним. Уходите!
Тут Руф заметил учеников и оборванцев, следовавших за ними из Назарета, узнал некоторых из них и нахмурился.
– Ты распинал, Сыне Плотника, так смотри же, как бы тебя самого не распяли. Не путайся с народом, не будоражь ему мысли, – тяжела моя рука, а Рим вечен.
Иисус усмехнулся: он хорошо знал, что Рим не вечен, но промолчал.
Крестьяне с ропотом разошлись и, став поодаль, разглядывали трех повстанцев, которых легионеры схватили и вели, заковав в цепи, – высокого старика с раздвоенной бородой, двух его сыновей. Подняв головы, эти трое смотрели поверх римских шлемов на мир, не видя в нем ничего, кроме гневно стоящего в небесах Бога Израиля.
Иуда узнал их – это были его старые соратники – и кивнул, но те, ослепленные сиянием Божьим, не видели его.
– Сыне Плотника, – сказал центурион, наклонившись с коня. – Есть боги, ненавидящие и убивающие нас, есть боги, не соизволяющие даже опустить взгляд, дабы узреть нас, но есть также благосклонные, премного милосердные боги, исцеляющие несчастных смертных от недугов. Из каких богов твой бог, Сыне Плотника?
– Бог един, – ответил Иисус. – Не богохульствуй, центурион!
– Я не желаю вступать с тобой в богословские споры, – сказал Руф, покачав головой. – Презираю евреев: вам бы все о боге разглагольствовать, прости на слове. Об одном только хочу спросить тебя: может ли твой бог…
Руф умолк. Ему было стыдно просить о милости еврея. Но тут перед его мысленным взором возникло вдруг небольшое девичье ложе и неподвижно лежащее на нем тело бледной девочки с зелеными глазами, которые смотрели на него – смотрели и умоляли…
Он преодолел стыд и нагнулся еще ниже, свесившись с седла.
– Может ли твой бог, Сыне Плотника, может ли он исцелять немощных?
Центурион смотрел на Иисуса страждущим взглядом.
– Может ли? – повторил Руф, потому как Иисус не отвечал. Иисус медленно поднялся с камня и подошел к всаднику.
– Дети платят за прегрешения отцов своих – таков Закон моего Бога.
– Это несправедливо! – в отчаянии воскликнул центурион.
– Это справедливо! – возразил Иисус. – Отец и дитя одного корня: вместе возносятся они на небо, вместе спускаются в ад. Одного разишь – оба получают ранения, один совершает проступок – оба несут наказание. Ты, центурион, подвергаешь нас гонениям и смерти, и Бог Израиля наносит удар, разбивающий параличом дочь твою.
– Тяжелы твои слова, Сыне Плотника. Однажды мне довелось слышать твою речь в Назарете, и слова твои показались мне слишком мягкими, чтобы подобать римлянину, а теперь…
– Тогда речь шла о Царстве Небесном, а теперь – о конце света. С того дня, как ты услышал меня, центурион, Судья Праведный восседает на престоле своем, раскрыв счета, а Правосудие явилось на зов Его и стоит подле Него с мечом во длани.
– Стало быть, твоему богу тоже недоступно нечто большее, чем Правосудие?! – в сердцах воскликнул центурион. – И он тоже не в силах преступить этот предел? А как же та весть, которую ты провозглашал летом в Галилее? Любовь?! Любовь! Дочь моя нуждается не в Правосудии бога, а в любви его. Я ищу бога, который выше правосудия и способен исцелить мое дитя. Потому я сделал все, что только было в моих силах, чтобы разыскать тебя. Любви – слышишь? – Любви, а не Правосудия!
– Чуждый жалости и любви центурион римский, кто вложил эти слова в суровые уста твои?
– Любовь к моему ребенку и страдание. Мне нужен бог, который исцелит мое дитя. Тогда я уверую в него.
– Блаженны верующие в Бога без свершения чудес.
– Блаженны. Но я человек суровый и недоверчивый. Многих богов видел я в Риме, целые тысячи их держим мы в клетках, ими я уже сыт по горло.
– Где твоя дочь?
– Здесь, в верхней части селения, в саду.
– Пошли!
Центурион стремительно соскочил с коня и пошел впереди с Иисусом, чуть поодаль за ними следовали ученики, еще далее – толпа крестьян, а в хвосте отряда оказался теперь и Фома, радости которого не было предела: он шел с солдатами и распродавал нарасхват свой товар.
– Эй, Фома! – окликнули его ученики. – Ты все еще не хочешь пойти с нами? Сейчас ты увидишь чудо и уверуешь.
– Сначала увижу, – ответил Фома. – Увижу и потрогаю.
– Что ж ты потрогаешь, премудрый торгаш?
– Правду.
– Да разве у правды есть тело? Что еще за чушь ты несешь, баламут?
– Если у нее нет тела, зачем мне она? – посмеиваясь, сказал Фома. – Я должен потрогать ее. Не верю ни глазам, ни ушам, одним только рукам верю.
Они поднялись в верхнюю часть селения и вошли в приветливый, выбеленный известью домик.
Девочка лет двенадцати лежала на белом ложе, широко раскрыв большие зеленые глаза. При виде отца лицо ее просияло. Душа ее стремительно рванулась, пытаясь поднять парализованное тело, но это оказалось ей не по силам и радость на лице угасла. Иисус склонился над девочкой, взял ее за руку. Вся его сила собралась в ладонь. Вся его сила, любовь и милосердие. Он молчал, устремив взгляд в зеленые глаза, и чувствовал, как его душа порывисто устремляется через кончики пальцев в тело девочки. А та жадно смотрела на него, чуть приоткрыв рот, и улыбалась.
В комнату, ступая на цыпочках, вошли ученики, и среди них тут как тут и Фома с коробом товара за спиной и трубой за поясом. Крестьяне собрались вокруг домика в саду и на узкой улочке и ждали, затаив дыхание. Прислонившись к стене, центурион смотрел на дочь, стараясь скрыть охватившее его волнение.
Мало-помалу на щеках девочки стал проступать румянец, грудь ее поднялась, приятное щекочущее ощущение прошло от руки к сердцу и от сердца к стопам. Все внутри нее трепетало и вздрагивало, словно листва тополя над дуновением легкого ветерка. Иисус чувствовал, как рука девочки трепещет, словно сердце, и оживает в его ладони. И тогда он открыл уста и ласково велел:
– Встань, девочка!
Девочка слабо задвигалась, как если бы тело ее возвращалось из состояния оцепенения, потянулась, словно пробуждаясь ото сна, уперлась руками о ложе, подняла тело и одним прыжком очутилась в объятиях отца. Фома выпучил раскосые глаза, протянул руку и прикоснулся к девочке, словно и вправду желая убедиться, что она настоящая. Ученики перепугались от неожиданности, а среди собравшегося вокруг народа прошел неясный гул и тут же все испуганно умолкли. Было слышно только свежий смех девочки, обнимавшей и целовавшей отца.
Иуда подошел к Учителю. На лице его были раздражение и злость.
– Тратишь свою силу на неверных? Творишь добро врагам нашим? Может быть, это и есть конец света, который ты несешь нам? Это и есть огонь?
Но Иисус пребывал очень далеко, витал в непроглядных облаках, и не слышал его. Увидав, как девочка вскочила с ложа, он сам испугался больше, чем кто-либо другой. Ученики пустились в пляс вокруг него, не в силах сдержать нахлынувшую на них радость. Как хорошо сделали они, бросив все и последовав за ним, – он истинный пророк, творящий чудеса! А Фома мысленно взвешивал, положив на одну чашу весов свой товар, на другую – Царство Небесное. Некоторое время чаши покачивались, затем остановились: перевесила чаша с Царством Небесным. Это занятие сулило выгоду: здесь на пятаке можно заработать тысячу, – стало быть, вперед, во имя Бога! Фома подошел к Учителю и сказал:
– Учитель, ради твоего драгоценного расположения я раздам свой товар бедноте: не забудь про то, пожалуйста, в день, когда наступит Царство Небесное. Я жертвую всем и иду за тобой. Сегодня я увидел правду и потрогал ее.
Но Иисус все еще пребывал очень далеко: он слышал, но не отвечал.
– Оставлю только трубу, – продолжал старый коробейник. – Буду трубить, созывая народ; итак, займемся торговлей нового, вечного товара – благодати!
Центурион подошел к Иисусу, держа дочь в объятиях, и сказал:
– Ты воскресил мою дочь, человече Божий. Как отблагодарить тебя?
– Я освободил твою дочь от оков Сатаны, освободи же и ты, центурион, трех повстанцев от оков Рима, – сказал Иисус.
Руф покачал головой и вздохнул:
– Не могу, – с сожалением сказал он. – Правда не могу. Я дал присягу римскому императору, как и ты дал присягу Богу, которого ты почитаешь, – разве мы можем нарушить ее? Требуй другой награды. Послезавтра я отправляюсь в Иерусалим и желаю отблагодарить тебя до отъезда.
– Наступит день, когда мы еще встретимся в трудный час в святом Иерусалиме, центурион. Тогда я и потребую награды. Потерпи дотоле, – ответил Иисус.
Он положил руку на белокурые волосы девочки и долго держал ее так. Закрыв глаза, он ощущал, как тепла головка, как мягки волосы, какое наслаждение есть женщина.
– Дитя мое, – сказал он наконец, открыв глаза. – Скажу тебе нечто, о чем ты никогда не должна забывать: возьми отца своего за руку и выведи его на путь истинный.
– А что есть путь истинный, человече Божий? – спросила девочка.
– Любовь.
Центурион велел принести еду и питье, накрыть столы.
– Приглашаю вас, – сказал Руф Иисусу и ученикам. – Сегодня ешьте и пейте в этом доме: я праздную воскрешение моего ребенка. Уже много лет не знал я радости, а нынче она переполняет мое сердце. Добро пожаловать!
И, наклонившись к Иисусу, добавил:
– Я обязан премного возблагодарить бога, которого ты почитаешь. Дай мне его, и я отправлю его в Рим вместе с – другими богами.
– Он сам придет туда, – ответил Иисус и вышел во двор подышать воздухом.
Наступила ночь. Высоко в небе стали зажигаться звезды, а внизу, в небольшой деревеньке, зажглись светильники У и заблистали человеческие глаза. Нынче повседневные разговоры стали более возвышенными, – люди чувствовали, как Бог, словно добрый лев, вошел к ним в селение. Накрыли столы. Иисус уселся между своими учениками и разделил хлеб. Он молчал: душа его все еще беспокойно трепетала, словно спасшись от великой опасности, или свершив великое непредвиденное деяние. Ученики вокруг тоже молчали, но сердца их радостно бились. Ведь все эти светопреставления да Царства Небесные и вправду оказались не пустыми мечтаниями да душевными треволнениями, но истиной, а чернявый юноша, который сидит рядом, ест, говорит, смеется и спит, как и все люди, и вправду был посланником Божьим! Когда ужин окончился и все отправились на покой, Матфей опустился на колени перед светильником, вытащил из-за пазухи непочатый свиток, вынул из-за уха тростинку, склонился над чистым листом и на долгое время погрузился в раздумья. Как и с чего начать? Бог определил ему место рядом с этим святым человеком, (чтобы верно описать изреченные им слова и сотворенные им чудеса, дабы те не исчезли бесследно, дабы грядущие поколения узнали про них и тоже обрели путь к спасению. Воистину это и есть его долг, вверенный ему Богом. Он обучен письму, стало быть, перед ним поставлена угрудная задача – удержать тростинкой то, что готово исчезнуть, занести это на лист и сделать бессмертным.
