Страница:
В этом эксперименте Футс намеревался не только собрать данные по продуктивному использованию амслена, но и показать, что они дают для понимания способов, с помощью которых шимпанзе применяют амслен при классификации новых объектов. Ученый хотел понять, как сами шимпанзе анализируют эти объекты. Если обезьяна использует некоторое новое обозначение для нового объекта и оно имеет нечто общее с уже существующим для знакомого ей объекта, то, возможно, это отражает функциональное или физическое сходство самих объектов. Например, Люси может показать знак «веревка» (вкладывая мизинец одной руки между большим и указательным пальцем другой) около шеи, чтобы изобразить поводок; при этом используется символическая возможность применения веревки в качестве поводка. Или же она может скомбинировать элементы «веревка» и «наружу», используя таким образом ассоциацию между вероятной ролью веревки как поводка (которого обезьяна терпеть не может) и конечной целью надевания поводка – прогулками «снаружи» (которые она обожает). Правильное представление о том, как именно шимпанзе конструируют новые обозначения, может прояснить кое-что в их способностях к анализу и даст возможность понять, насколько продуктивно они используют кенематическую и плерематическую структуры амслена.
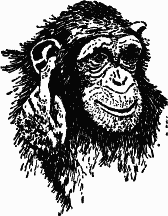
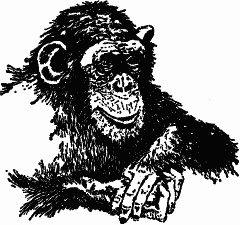
Если для обозначения нового объекта шимпанзе склонны комбинировать существующие обозначения в целом, а не отдельные их элементы, то появляется возможность уяснить, каким образом шимпанзе анализируют свойства объекта. Например, обезьяны, обученные слову «слушать» на примере тиканья наручных часов, очень быстро обобщали смысл этого слова и использовали его по отношению к другим звукам. Футс собирается продемонстрировать обезьянам некоторые объекты, где комбинируются черты различных предметов, обозначения для которых были усвоены ими раньше в другом контексте. Как, например, поведет себя шимпанзе, если ей дать мячик с жужжащим электромоторчиком внутри? Придумает ли она новое обозначение, или воспользуется двойным знаком «слушать мяч», или просто скажет «мяч» либо «слушать»? Возможно также, что реакция шимпанзе будет определяться не столько наиболее заметными свойствами предмета, сколько тем, какой интерес или какую пользу представляет он с ее точки зрения.
Не менее интересен также вопрос, будут ли шимпанзе переходить с одного уровня анализа на другой по мере углубления в мир понятий, описываемых амсленом. Будут ли они переходить от комбинирования целых слов к формированию новых обозначений из того, что они рассматривают как осмысленные части старых обозначений? И придут ли они к символической решетке, с помощью которой знаки амслена могут быть лапидарно упорядочены?
В настоящее время Футс не обладает нужной информацией, чтобы определить глубину анализа в восприятии обезьянами амслена. Остается надеяться, что в дальнейшем ученый соберет достаточно материала, чтобы приступить к уяснению правил, которыми руководствуются шимпанзе, вводя новые обозначения (если такие правила вообще существуют), и, возможно, мы – хотя бы мельком – увидим работу чуждого нам интеллекта.
Перемещаемость
11. ПЕРЕМЕЩАЕМОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТА
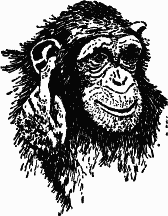
Уошо: «слушать»
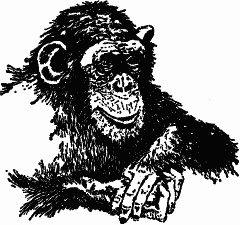
Уошо: «мяч»
Если для обозначения нового объекта шимпанзе склонны комбинировать существующие обозначения в целом, а не отдельные их элементы, то появляется возможность уяснить, каким образом шимпанзе анализируют свойства объекта. Например, обезьяны, обученные слову «слушать» на примере тиканья наручных часов, очень быстро обобщали смысл этого слова и использовали его по отношению к другим звукам. Футс собирается продемонстрировать обезьянам некоторые объекты, где комбинируются черты различных предметов, обозначения для которых были усвоены ими раньше в другом контексте. Как, например, поведет себя шимпанзе, если ей дать мячик с жужжащим электромоторчиком внутри? Придумает ли она новое обозначение, или воспользуется двойным знаком «слушать мяч», или просто скажет «мяч» либо «слушать»? Возможно также, что реакция шимпанзе будет определяться не столько наиболее заметными свойствами предмета, сколько тем, какой интерес или какую пользу представляет он с ее точки зрения.
Не менее интересен также вопрос, будут ли шимпанзе переходить с одного уровня анализа на другой по мере углубления в мир понятий, описываемых амсленом. Будут ли они переходить от комбинирования целых слов к формированию новых обозначений из того, что они рассматривают как осмысленные части старых обозначений? И придут ли они к символической решетке, с помощью которой знаки амслена могут быть лапидарно упорядочены?
В настоящее время Футс не обладает нужной информацией, чтобы определить глубину анализа в восприятии обезьянами амслена. Остается надеяться, что в дальнейшем ученый соберет достаточно материала, чтобы приступить к уяснению правил, которыми руководствуются шимпанзе, вводя новые обозначения (если такие правила вообще существуют), и, возможно, мы – хотя бы мельком – увидим работу чуждого нам интеллекта.
Перемещаемость
Тест на перемещаемость начинался с того, что одной из обезьян показывали некоторый объект, либо считавшийся в колонии крайне привлекательным, например фрукт, игрушку или ключ от какого-нибудь соблазнительного ящика, либо, наоборот, воспринимаемый группой как ужасный и отвратительный – скажем, змею. Затем этого шимпанзе возвращали в колонию, с тем чтобы он привел собратьев к показанному ему предмету или отвел их подальше. (Поскольку шимпанзе обладают элементами жадности и мстительности, нельзя исключить и того, что он будет отводить других от желанного предмета или направит их навстречу опасности.) Как только шимпанзе привыкли к такому рекогносцировочному патрулированию, экспериментатор стал на некоторое время задерживать возвращение обезьяны-разведчика в колонию. Предшествующий опыт приучил шимпанзе к тому, что временное отсутствие их товарища означает, что ему что-то показывают. Футс надеялся, что и шимпанзе в группе будут стремиться увидеть своими глазами предмет, показанный их товарищу, и осведомленная обезьяна также захочет поведать собратьям о находке. Но, чтобы рассказать о виденном, шимпанзе должен будет передать сообщение о событиях, отделенных в пространстве и времени от того, что происходит в данный момент. С целью выяснить, сколь большой разрыв во времени возможен между стимулом и реакцией, Футс намерен варьировать время между демонстрацией спрятанного объекта и освобождением шимпанзе-разведчика.
Ответ на этот вопрос – в силу важнейшей роли перемещаемости – должен быть наиболее интересен. Мне кажется, что свойством перемещаемости объясняются наиболее яркие различия между человеком и шимпанзе.
Ответ на этот вопрос – в силу важнейшей роли перемещаемости – должен быть наиболее интересен. Мне кажется, что свойством перемещаемости объясняются наиболее яркие различия между человеком и шимпанзе.
11. ПЕРЕМЕЩАЕМОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТА
Перемещаемость предполагает существование чувства времени. Наше восприятие времени отлично от его восприятия существами, неспособными к перемещаемости. Для нас время – это одна из размерностей. А для существ, которые не в состоянии мысленно вычленить себя из непрерывного потока чередующихся во времени событий? Такое гипотетическое существо жило бы исключительно текущим моментом, непрерывно реагируя на внутренние и внешние стимулы, причем характер его реакции определялся бы естественным отбором. Мы знаем теперь, что таких животных не бывает, и все же давайте представим себе, что поведение животных именно таково (по крайней мере таким его обычно считают), чтобы сконцентрировать внимание на понятии перемещаемости.
Мы видели, что перемещаемость описывают с самых разных позиций. Роджер Браун, например, в общих терминах подчеркивает ее эволюционное значение; Урсула Беллуджи и Якоб Броновский пытаются описать четыре поведенческих свойства перемещаемости в той последовательности, в которой они проявляются по мере развития языка; Чарлз Хоккет, давая характеристику речи, включает перемещаемость в схему ее основополагающих признаков. Подобная разноголосица может вызвать у читателя естественный вопрос: «Ну, хорошо, у каждого есть что сказать по поводу перемещаемости, но что же это все-таки такое?» Этим вопросом стоит заняться, поскольку поведенческие свойства перемещаемости могут быть использованы для решения или по меньшей мере для прояснения некоторых хорошо известных философских проблем, которые относятся к природе человека. Понятие перемещаемости стоит в начале длинного пути к объяснению того, в чем, собственно, заключаются основные отличия человека от шимпанзе.
В строении мозга млекопитающих, пресмыкающихся и рыб есть некоторые общие основополагающие черты. И у тех и у других можно выделить задний мозг, средний мозг и по крайней мере зачатки переднего мозга. Каждое качественное продвижение вверх по эволюционной лестнице сопровождается, по-видимому, постепенным перемещением вперед того командного пункта, который управляет поведением животных, так что у высших млекопитающих он, скорее всего, располагается в переднем мозге. Передний мозг человека сильно увеличен. Он представлен корой больших полушарий (или «новым» мозгом, как мы гордо ее называем), состоящей из серого вещества, в котором, в частности, реализуется наша способность к перемещаемости. Структуры среднего и заднего мозга объединяются общим термином «старый», или «первичный», мозг. Он несет ответственность за те стороны поведения, которые генетически унаследованы нами от предков-животных, то есть за «животную» часть нашего поведения. Первичный мозг отвечает за такие явления, как рефлексы, координация движений и эмоции – будь то душевный подъем или проявления агрессивности.
Если традиционная модель поведения животных рассматривает животное как «узника тирании момента», то «старый мозг» человека следует тогда рассматривать как тюремную стражу, поскольку в рамках такой модели каждый стимул влечет за собой непосредственную реакцию, основанную на генетически заложенных в мозгу животного, передающихся из поколения в поколение инструкциях. По словам Беллуджи и Броновского, любая информация, получаемая животным об окружающем мире, является «руководством к действию». Животные в своих поступках жестко привязаны к текущему моменту и месту, в котором они находятся; они не могут оглядываться назад и сравнивать. В подобном контексте свойство перемещаемости – это средство высвобождения из-под тирании эмоциональных реакций. В своем перечне пяти последовательных этапов формирования перемещаемости Беллуджи и Броновский отмечают этот аспект как «отделение действий или изменений эмоционального состояния от смысла сообщения или содержащейся в нем инструкции».
Вспомним, что Элли мог устанавливать связь между жестом на амслене и соответствующим английским словом. Чтобы такая связь сформировалась, шимпанзе должен был преобразовывать информацию, получаемую посредством слуха, в информацию, передаваемую жестами и воспринимаемую зрением, то есть в совершенно другой, визуально-тактильный, канал связи – иными словами, обезьяна должна была осуществлять кросс-модальный перенос. Такие ассоциации обязательно предполагают восприятие и использование языка в целом. Именно поэтому принято было считать, что шимпанзе не способны к установлению подобных ассоциаций; они слишком эмоциональны для такой деятельности.
Один из основных отделов первичного мозга у человека называется лимбической системой. Он включает участок мозга, называемый лимбической областью, и его всевозможные связи с другими отделами мозга. Эта область расположена между передним и задним мозгом и связана с ними обоими. По словам нейролингвиста Гарри Уиттекера, она «совершенно одинакова у человека и у животных». Словами «лимбическая система» обозначаются основные структуры, управляющие эмоциями человека. Центральная система, ответственная за пользование языком, включает несколько взаимосвязанных участков в коре головного мозга, а также проводящие пути между ними, лимбической системой и другими подкорковыми структурами. Существование непосредственных связей между различными участками коры головного мозга дает возможность человеку устанавливать ассоциации между информацией, полученной по различным каналам и имеющей различную природу. Такие ассоциации создают основу для формирования символических единиц устной речи. До тех пор пока не существовало данных о способностях Элли переводить полученную «на слух» информацию из аудиовокального канала связи в визуально-тактильный – то есть в информацию, передаваемую жестами и воспринимаемую зрительно, – считалось, что у других приматов, кроме человека, прямых связей в коре головного мозга не существует и в силу этого они не способны к формированию такого рода ассоциаций. Полагали, что различные сенсорные каналы этих приматов связаны лишь через лимбическую систему. Одно из свидетельств в пользу данной точки зрения – это неспособность шимпанзе к новым для них вокальным упражнениям.
Гордон Хьюз, хотя и восхвалял достижения Уошо в языке жестов, все же был склонен считать, что обезьяны скованы жесткими ограничениями в возможности кросс-модальной передачи сенсорных данных из аудиовокального в визуально-тактильный канал связи. В статье «Однозначное формулирование взаимосвязи между использованием орудий труда, их изготовлением и возникновением языка» Хьюз описал аудиовокальную систему человекообразных обезьян как «аварийную систему готовности», полностью связанную с лимбической областью. «Неспособность человекообразных обезьян, – писал он, – использовать хотя бы несколько квазичленораздельных звуков речи указывает на то, что их слуховые центры в коре головного мозга каким-то образом изолированы от центров, в которых поступающая зрительная информация сравнительно легко используется для организации произвольных и хорошо упорядоченных ответных действий… Звуковые сигналы, по-видимому, способны лишь „запускать“ различные целостные эмоциональные ответные реакции, как, например, тревогу, внимание, страх… сопровождаемые более или менее стереотипными поведенческими реакциями, такими, как бегство, нападение, защита детеныша, изъявление подчиненного положения и т.п.»
Читатель должен все время помнить о том, что неврологические основы языка – область крайне сложная. Многое здесь не более чем гипотезы, не позволяющие строить на их базе какие-либо широкие заключения. Однако о человеческом мозге тоже известно очень мало, даже еще меньше, чем о мозге шимпанзе. Понятие лимбической области используется в этой главе лишь постольку, поскольку на нем основывается общепринятое объяснение, почему шимпанзе не могут разговаривать, и поскольку на метафорическом уровне оно может быть полезно для понимания важности явления перемещаемости.
Итак, если считать, что вся поступающая извне (из окружающего мира) информация проходит через лимбическую систему и вызывает у животного генетически обусловленные поведенческие реакции, то животное действительно будет узником текущего момента. Такое животное было бы слишком эмоциональным, слишком живо на все реагировало бы и у него не оставалось бы времени осознать происходящее. Прежде чем оно могло бы задуматься над некоторой поступившей информацией, срочное сообщение из лимбической системы, требующее немедленных действий, фактически «шунтировало» бы, замкнуло бы накоротко этот процесс. Аналогичным образом если бы информация, накопленная в какой-то части серого вещества мозга шимпанзе, должна была проходить через беспокойный, страстный мир лимбической области, прежде чем появилась бы возможность ее ассоциации с информацией другой природы, хранящейся в другом участке коры головного мозга, то нетрудно представить себе, сколь ограничены были бы такие ассоциации.
Картина мира, выстроенная в соответствии с этой концепцией, выглядит очень косно. В ее рамках животные представляются чем-то вроде автоматов, механически исполняющих заранее запрограммированные роли, которые отражают историю их вида. Но мы знаем, что большинство млекопитающих в действительности обладают гораздо более гибким поведением: виды эволюционируют, а особи на протяжении жизни накапливают индивидуальный опыт. И если бы животное было жестко сковано предопределенными рамками поведения, то как могли бы возникать ассоциации, необходимые для изменений видового поведения? Подобные представления о поведении животных были непосредственным следствием идеи, что лишь человек является мыслящим существом. Если считать, что жизнь животных состоит лишь в том, что они просто реагируют на внешние и внутренние импульсы, то нетрудно констатировать отсутствие у них сознания.
Постепенно становится ясным, что решение проблемы, обладают животные сознанием или нет, основывалось скорее на определениях, несущих сопутствующую им символическую окраску, чем на экспериментальных данных. Как заметили Гарднеры в своем отчете о первых тридцати шести месяцах жизни Уошо, проблема сознания у животных будет «решена», лишь когда исследователи сочтут, что мы вправе говорить о сознательном поведении животного, если оно запоминает стимулы, смещенные в пространстве и времени. Таким образом, любое животное, обладающее памятью, обладает в какой-то степени и сознанием; более того, если животное способно обучаться на собственном опыте, то оно должно обладать некоторой памятью. В соответствии с этой точкой зрения почти обо всех животных можно сказать, что они обладают сознанием, поскольку большинство животных способно к обучению. В свете сказанного понятие перемещаемости теряет свою несколько загадочную окраску, поскольку обладание памятью предполагает лишь доступ к событиям, смещенным во времени и пространстве относительно момента и места запоминания. С такой точки зрения модель поведения животных более соответствует реплике Оскара Хейнрота, который говорил, что животные – это «очень эмоциональный народец, вовсе не способный к рассуждениям».
Однако я все же полагаю, что понятие перемещаемости имеет четкий смысл, отличный от возможности обратиться к памяти о событиях, смещенных во времени. Это специфическое содержание понятия перемещаемости может быть полезно для понимания некоторых характерных различий в поведении животных и человека, хотя, на мой взгляд, сами эти различия носят скорее количественный, чем качественный характер. При повышении температуры металл превращается сначала в жидкость, а затем в газ, но при этом по-прежнему остается металлом. Сходным образом в процессе эволюции человека постоянно возрастающие требования в отношении доступа к данным, смещенным во времени и пространстве, привели к постепенному возникновению в мозгу суррогатного смещенного мира – конкурирующего мозга, который поначалу посягал на функций первичного мозга в управлении поведением, а потом разделил с ним эти функции. Дело обстоит так, словно мы все время участвуем в непрекращающейся гонке, а мозг подсказывает: не торопись, подумай. При своем возникновении свойство перемещаемости позволило человеку усовершенствовать механизм памяти и в какой-то степени приспособить использование памяти к реальности окружающего мира. В дальнейшем свойство перемещаемости так сильно развилось у человека, что возник своего рода конкурент первичного мозга, претенциозный и беспардонный, как любой непрошеный конкурент.
Поскольку совершенно ясно, что в промежутках между апелляциями к памяти животное не бездействует, можно допустить, что оно обладает сознанием. Но в соответствии с замечанием Хейнрота оно слишком поглощено текущими событиями, чтобы обратить их в свою пользу. Мелкий чиновник, изо дня в день поглощенный неотложными текущими делами, может прервать эти занятия и призадуматься над общей системой своих основных жизненных ценностей лишь с риском лишиться места, поскольку немало других высококвалифицированных людей жаждут получить его работу. Аналогично этому и в давно сложившихся экосистемах особи, выполняющие одни и те же функции, взаимозаменяемы. Любая праздность или медлительность в реагировании на внешние стимулы часто стоит животному жизни: газели, наделенные склонностью сначала подумать, а уже потом обращаться в бегство, долго не просуществуют. Отдавая себе отчет в реальности некоторых издержек, связанных со свойством перемещаемости, которое «искажает» тщательно и мучительно разработанную природой схему поведения, обеспечивающего выживание, мы можем тем не менее предположить, что и необыкновенное развитие этого свойства у человека, и его способность мыслить возникли не случайно; скорее, они оказались жизненной необходимостью, и их преимущества с лихвой компенсировали сопряженные с ними первоначальные опасности.
Для человека важность перемещаемости коренится в постепенном узурпировании новым мозгом власти над нашим поведением. Такая узурпация позволяет ему выполнять замечательный трюк – умирать, фактически оставаясь живым. Мир первичного мозга хранит в себе историю вида; мир же узурпатора, нового мозга, – суррогатный мир, это абстрактная модель, возникающая в результате переработки массы сенсорной информации. Возможность быстрого конструирования таких моделей обеспечивается присутствием важных анатомических связей, позволяющих сводить воедино различного рода сенсорную информацию и осуществлять обмен ею между различными частями мозга. Это и есть уже упоминавшийся при описании поведения Элли кросс-модальный перенос. После того как подобный обмен информацией может быть осуществлен, возникает реальная возможность свести всю сенсорную информацию в коре больших полушарий воедино и «реконституировать» ее, то есть создать на ее основе абстрактный портрет реальности. Когда неврологи провели картирование связей между различными областями нового мозга, оказалось, что нервные импульсы действительно проходят из одного участка коры в другой, что подтверждает как существование прямых связей в коре головного мозга, так и идею, что в процессе эволюции узурпация новым мозгом контроля над поведением была совершенно необходима.
В нашей дискуссии с учеными, критиковавшими способности Уошо, мы строили различные предположения на тему о том, какие события могли вызвать необходимость в перемещаемости. Можно думать, что в доисторический период развития человека в результате открытия возможности пользоваться орудиями труда, вроде палочек для извлечения термитов, возникла селективная обратная связь, постепенно побуждавшая человека к изготовлению подобных орудий. Этот ход событий и вывел предков человека несколько миллионов лет назад на тот уровень, на котором, как можно предполагать, находятся в настоящее время обитающие на воле шимпанзе. Давление отбора должно было приводить к разработке все более совершенных орудий труда. Отсюда ясно, что при этом требования к новой способности – планировать и организовывать свои действия, – способности, необходимой для изготовления даже простейших орудий труда и разработки охотничьих приемов, оказались бы невыполнимыми, если бы у приматов не было достаточного количества свободного времени, специального участка мозга и потенциальных возможностей к отчуждению. Все эти факторы необходимы для организации последовательностей движений и жестов. По мере того как постепенное совершенствование орудий труда и способов охоты требовало, чтобы человек все более отрешался от сиюминутных забот, развивалось и его умение управлять собственными движениями. Кроме того, свойства предметов, с которыми люди манипулировали, постепенно начали оцениваться иначе, чем непрерывный поток поступающей в мозг сенсорной информации. Человеческий мозг, отстраненный от текущего момента, нуждался в суррогате, с которым он мог бы работать, и таким образом постепенно возникли элементы органической системы символов и логики, способствующие развитию свойства перемещаемости и в свою очередь поощряемые им. Развитие этой системы привело к постепенному усилению наших возможностей оказывать желаемое влияние на окружающий мир. По мере того как совершенствовались орудия охоты, человек стал достигать все большего в процессе самой охоты. Таким образом, поощрение к совершенствованию орудий охоты было смещено во времени и пространстве относительно самого акта охоты. Аналогичным образом развитие этой системы позволило мысленно опробовать различные стратегии поведения, не затрачивая при этом колоссальной энергии и не подвергаясь риску, неизбежно сопряженному с испытанием новых стратегий поведения в реальном мире. Таковы краткосрочные преимущества этого трюка – способности быть мертвым, оставаясь живым.
Я сознательно описал перемещаемость подобным образом (хотя в действительности предпочитаю говорить не о «перемещаемости», а об «абстрагировании», поскольку именно последний термин предполагает выход вовне, за некоторые рамки), чтобы противопоставить мою трактовку перемещаемости той, где перемещаемость сопоставляется с памятью. То, что возникло в качестве суррогата реальности, в качестве грифельной доски, на которой человек мог разрабатывать и испытывать стратегии выживания, постепенно стало все больше занимать наше внимание по сравнению с реальным миром. У первобытного человека и даже еще у доисторического человека существовали непосредственные связи между предметами и символами, обозначавшими эти предметы; однако по мере развития цивилизации связи эти постепенно ослабевали. Современный рациональный человек их полностью утратил. Мы еще можем усмотреть связь между символами и первичным мозгом в высказываниях о религии и магии. В прочих же областях деятельности нашего общества овеществленный мир символов и логики считается миром реальности, тогда как покинутый нами мир рефлексов и эмоций рассматривается уничижительно, как хаотический и чуждый цивилизованному человеку.
Именно в силу такого извращения наших представлений мы столь изумлены достижениями Уошо. Когда мир овеществленных представлений современной цивилизации создает у нас впечатление упорядоченности, то это происходит за счет утраты представления о сложности реальной жизни. В рамках этого мира возможно воссоздание уроков жизненного опыта, но в силу самой его природы оно может осуществляться лишь посредством ухода, перемещения в сторону от жизненного опыта. Такое воссоздание является уже порождением таксидермии, а не самой природы. Эта культурная шизофрения западной цивилизации обязана чрезвычайно высокой степени смещения характера мышления и поведения от их эволюционных корней, тех корней, которые, с точки зрения невролога, лежат в первичном мозге, а с точки зрения физиолога – в подсознании. Такая крайняя степень смещенности самоубийственна – это крайнее абстрагирование от окружающей реальности, окончательная победа мира мозга над миром реальности. При достижении этой крайности мы начинаем мучительно ощущать напряженность, заложенную в нашей способности к перемещаемости.
Мы видели, что перемещаемость описывают с самых разных позиций. Роджер Браун, например, в общих терминах подчеркивает ее эволюционное значение; Урсула Беллуджи и Якоб Броновский пытаются описать четыре поведенческих свойства перемещаемости в той последовательности, в которой они проявляются по мере развития языка; Чарлз Хоккет, давая характеристику речи, включает перемещаемость в схему ее основополагающих признаков. Подобная разноголосица может вызвать у читателя естественный вопрос: «Ну, хорошо, у каждого есть что сказать по поводу перемещаемости, но что же это все-таки такое?» Этим вопросом стоит заняться, поскольку поведенческие свойства перемещаемости могут быть использованы для решения или по меньшей мере для прояснения некоторых хорошо известных философских проблем, которые относятся к природе человека. Понятие перемещаемости стоит в начале длинного пути к объяснению того, в чем, собственно, заключаются основные отличия человека от шимпанзе.
В строении мозга млекопитающих, пресмыкающихся и рыб есть некоторые общие основополагающие черты. И у тех и у других можно выделить задний мозг, средний мозг и по крайней мере зачатки переднего мозга. Каждое качественное продвижение вверх по эволюционной лестнице сопровождается, по-видимому, постепенным перемещением вперед того командного пункта, который управляет поведением животных, так что у высших млекопитающих он, скорее всего, располагается в переднем мозге. Передний мозг человека сильно увеличен. Он представлен корой больших полушарий (или «новым» мозгом, как мы гордо ее называем), состоящей из серого вещества, в котором, в частности, реализуется наша способность к перемещаемости. Структуры среднего и заднего мозга объединяются общим термином «старый», или «первичный», мозг. Он несет ответственность за те стороны поведения, которые генетически унаследованы нами от предков-животных, то есть за «животную» часть нашего поведения. Первичный мозг отвечает за такие явления, как рефлексы, координация движений и эмоции – будь то душевный подъем или проявления агрессивности.
Если традиционная модель поведения животных рассматривает животное как «узника тирании момента», то «старый мозг» человека следует тогда рассматривать как тюремную стражу, поскольку в рамках такой модели каждый стимул влечет за собой непосредственную реакцию, основанную на генетически заложенных в мозгу животного, передающихся из поколения в поколение инструкциях. По словам Беллуджи и Броновского, любая информация, получаемая животным об окружающем мире, является «руководством к действию». Животные в своих поступках жестко привязаны к текущему моменту и месту, в котором они находятся; они не могут оглядываться назад и сравнивать. В подобном контексте свойство перемещаемости – это средство высвобождения из-под тирании эмоциональных реакций. В своем перечне пяти последовательных этапов формирования перемещаемости Беллуджи и Броновский отмечают этот аспект как «отделение действий или изменений эмоционального состояния от смысла сообщения или содержащейся в нем инструкции».
Вспомним, что Элли мог устанавливать связь между жестом на амслене и соответствующим английским словом. Чтобы такая связь сформировалась, шимпанзе должен был преобразовывать информацию, получаемую посредством слуха, в информацию, передаваемую жестами и воспринимаемую зрением, то есть в совершенно другой, визуально-тактильный, канал связи – иными словами, обезьяна должна была осуществлять кросс-модальный перенос. Такие ассоциации обязательно предполагают восприятие и использование языка в целом. Именно поэтому принято было считать, что шимпанзе не способны к установлению подобных ассоциаций; они слишком эмоциональны для такой деятельности.
Один из основных отделов первичного мозга у человека называется лимбической системой. Он включает участок мозга, называемый лимбической областью, и его всевозможные связи с другими отделами мозга. Эта область расположена между передним и задним мозгом и связана с ними обоими. По словам нейролингвиста Гарри Уиттекера, она «совершенно одинакова у человека и у животных». Словами «лимбическая система» обозначаются основные структуры, управляющие эмоциями человека. Центральная система, ответственная за пользование языком, включает несколько взаимосвязанных участков в коре головного мозга, а также проводящие пути между ними, лимбической системой и другими подкорковыми структурами. Существование непосредственных связей между различными участками коры головного мозга дает возможность человеку устанавливать ассоциации между информацией, полученной по различным каналам и имеющей различную природу. Такие ассоциации создают основу для формирования символических единиц устной речи. До тех пор пока не существовало данных о способностях Элли переводить полученную «на слух» информацию из аудиовокального канала связи в визуально-тактильный – то есть в информацию, передаваемую жестами и воспринимаемую зрительно, – считалось, что у других приматов, кроме человека, прямых связей в коре головного мозга не существует и в силу этого они не способны к формированию такого рода ассоциаций. Полагали, что различные сенсорные каналы этих приматов связаны лишь через лимбическую систему. Одно из свидетельств в пользу данной точки зрения – это неспособность шимпанзе к новым для них вокальным упражнениям.
Гордон Хьюз, хотя и восхвалял достижения Уошо в языке жестов, все же был склонен считать, что обезьяны скованы жесткими ограничениями в возможности кросс-модальной передачи сенсорных данных из аудиовокального в визуально-тактильный канал связи. В статье «Однозначное формулирование взаимосвязи между использованием орудий труда, их изготовлением и возникновением языка» Хьюз описал аудиовокальную систему человекообразных обезьян как «аварийную систему готовности», полностью связанную с лимбической областью. «Неспособность человекообразных обезьян, – писал он, – использовать хотя бы несколько квазичленораздельных звуков речи указывает на то, что их слуховые центры в коре головного мозга каким-то образом изолированы от центров, в которых поступающая зрительная информация сравнительно легко используется для организации произвольных и хорошо упорядоченных ответных действий… Звуковые сигналы, по-видимому, способны лишь „запускать“ различные целостные эмоциональные ответные реакции, как, например, тревогу, внимание, страх… сопровождаемые более или менее стереотипными поведенческими реакциями, такими, как бегство, нападение, защита детеныша, изъявление подчиненного положения и т.п.»
Читатель должен все время помнить о том, что неврологические основы языка – область крайне сложная. Многое здесь не более чем гипотезы, не позволяющие строить на их базе какие-либо широкие заключения. Однако о человеческом мозге тоже известно очень мало, даже еще меньше, чем о мозге шимпанзе. Понятие лимбической области используется в этой главе лишь постольку, поскольку на нем основывается общепринятое объяснение, почему шимпанзе не могут разговаривать, и поскольку на метафорическом уровне оно может быть полезно для понимания важности явления перемещаемости.
Итак, если считать, что вся поступающая извне (из окружающего мира) информация проходит через лимбическую систему и вызывает у животного генетически обусловленные поведенческие реакции, то животное действительно будет узником текущего момента. Такое животное было бы слишком эмоциональным, слишком живо на все реагировало бы и у него не оставалось бы времени осознать происходящее. Прежде чем оно могло бы задуматься над некоторой поступившей информацией, срочное сообщение из лимбической системы, требующее немедленных действий, фактически «шунтировало» бы, замкнуло бы накоротко этот процесс. Аналогичным образом если бы информация, накопленная в какой-то части серого вещества мозга шимпанзе, должна была проходить через беспокойный, страстный мир лимбической области, прежде чем появилась бы возможность ее ассоциации с информацией другой природы, хранящейся в другом участке коры головного мозга, то нетрудно представить себе, сколь ограничены были бы такие ассоциации.
Картина мира, выстроенная в соответствии с этой концепцией, выглядит очень косно. В ее рамках животные представляются чем-то вроде автоматов, механически исполняющих заранее запрограммированные роли, которые отражают историю их вида. Но мы знаем, что большинство млекопитающих в действительности обладают гораздо более гибким поведением: виды эволюционируют, а особи на протяжении жизни накапливают индивидуальный опыт. И если бы животное было жестко сковано предопределенными рамками поведения, то как могли бы возникать ассоциации, необходимые для изменений видового поведения? Подобные представления о поведении животных были непосредственным следствием идеи, что лишь человек является мыслящим существом. Если считать, что жизнь животных состоит лишь в том, что они просто реагируют на внешние и внутренние импульсы, то нетрудно констатировать отсутствие у них сознания.
Постепенно становится ясным, что решение проблемы, обладают животные сознанием или нет, основывалось скорее на определениях, несущих сопутствующую им символическую окраску, чем на экспериментальных данных. Как заметили Гарднеры в своем отчете о первых тридцати шести месяцах жизни Уошо, проблема сознания у животных будет «решена», лишь когда исследователи сочтут, что мы вправе говорить о сознательном поведении животного, если оно запоминает стимулы, смещенные в пространстве и времени. Таким образом, любое животное, обладающее памятью, обладает в какой-то степени и сознанием; более того, если животное способно обучаться на собственном опыте, то оно должно обладать некоторой памятью. В соответствии с этой точкой зрения почти обо всех животных можно сказать, что они обладают сознанием, поскольку большинство животных способно к обучению. В свете сказанного понятие перемещаемости теряет свою несколько загадочную окраску, поскольку обладание памятью предполагает лишь доступ к событиям, смещенным во времени и пространстве относительно момента и места запоминания. С такой точки зрения модель поведения животных более соответствует реплике Оскара Хейнрота, который говорил, что животные – это «очень эмоциональный народец, вовсе не способный к рассуждениям».
Однако я все же полагаю, что понятие перемещаемости имеет четкий смысл, отличный от возможности обратиться к памяти о событиях, смещенных во времени. Это специфическое содержание понятия перемещаемости может быть полезно для понимания некоторых характерных различий в поведении животных и человека, хотя, на мой взгляд, сами эти различия носят скорее количественный, чем качественный характер. При повышении температуры металл превращается сначала в жидкость, а затем в газ, но при этом по-прежнему остается металлом. Сходным образом в процессе эволюции человека постоянно возрастающие требования в отношении доступа к данным, смещенным во времени и пространстве, привели к постепенному возникновению в мозгу суррогатного смещенного мира – конкурирующего мозга, который поначалу посягал на функций первичного мозга в управлении поведением, а потом разделил с ним эти функции. Дело обстоит так, словно мы все время участвуем в непрекращающейся гонке, а мозг подсказывает: не торопись, подумай. При своем возникновении свойство перемещаемости позволило человеку усовершенствовать механизм памяти и в какой-то степени приспособить использование памяти к реальности окружающего мира. В дальнейшем свойство перемещаемости так сильно развилось у человека, что возник своего рода конкурент первичного мозга, претенциозный и беспардонный, как любой непрошеный конкурент.
Поскольку совершенно ясно, что в промежутках между апелляциями к памяти животное не бездействует, можно допустить, что оно обладает сознанием. Но в соответствии с замечанием Хейнрота оно слишком поглощено текущими событиями, чтобы обратить их в свою пользу. Мелкий чиновник, изо дня в день поглощенный неотложными текущими делами, может прервать эти занятия и призадуматься над общей системой своих основных жизненных ценностей лишь с риском лишиться места, поскольку немало других высококвалифицированных людей жаждут получить его работу. Аналогично этому и в давно сложившихся экосистемах особи, выполняющие одни и те же функции, взаимозаменяемы. Любая праздность или медлительность в реагировании на внешние стимулы часто стоит животному жизни: газели, наделенные склонностью сначала подумать, а уже потом обращаться в бегство, долго не просуществуют. Отдавая себе отчет в реальности некоторых издержек, связанных со свойством перемещаемости, которое «искажает» тщательно и мучительно разработанную природой схему поведения, обеспечивающего выживание, мы можем тем не менее предположить, что и необыкновенное развитие этого свойства у человека, и его способность мыслить возникли не случайно; скорее, они оказались жизненной необходимостью, и их преимущества с лихвой компенсировали сопряженные с ними первоначальные опасности.
Для человека важность перемещаемости коренится в постепенном узурпировании новым мозгом власти над нашим поведением. Такая узурпация позволяет ему выполнять замечательный трюк – умирать, фактически оставаясь живым. Мир первичного мозга хранит в себе историю вида; мир же узурпатора, нового мозга, – суррогатный мир, это абстрактная модель, возникающая в результате переработки массы сенсорной информации. Возможность быстрого конструирования таких моделей обеспечивается присутствием важных анатомических связей, позволяющих сводить воедино различного рода сенсорную информацию и осуществлять обмен ею между различными частями мозга. Это и есть уже упоминавшийся при описании поведения Элли кросс-модальный перенос. После того как подобный обмен информацией может быть осуществлен, возникает реальная возможность свести всю сенсорную информацию в коре больших полушарий воедино и «реконституировать» ее, то есть создать на ее основе абстрактный портрет реальности. Когда неврологи провели картирование связей между различными областями нового мозга, оказалось, что нервные импульсы действительно проходят из одного участка коры в другой, что подтверждает как существование прямых связей в коре головного мозга, так и идею, что в процессе эволюции узурпация новым мозгом контроля над поведением была совершенно необходима.
В нашей дискуссии с учеными, критиковавшими способности Уошо, мы строили различные предположения на тему о том, какие события могли вызвать необходимость в перемещаемости. Можно думать, что в доисторический период развития человека в результате открытия возможности пользоваться орудиями труда, вроде палочек для извлечения термитов, возникла селективная обратная связь, постепенно побуждавшая человека к изготовлению подобных орудий. Этот ход событий и вывел предков человека несколько миллионов лет назад на тот уровень, на котором, как можно предполагать, находятся в настоящее время обитающие на воле шимпанзе. Давление отбора должно было приводить к разработке все более совершенных орудий труда. Отсюда ясно, что при этом требования к новой способности – планировать и организовывать свои действия, – способности, необходимой для изготовления даже простейших орудий труда и разработки охотничьих приемов, оказались бы невыполнимыми, если бы у приматов не было достаточного количества свободного времени, специального участка мозга и потенциальных возможностей к отчуждению. Все эти факторы необходимы для организации последовательностей движений и жестов. По мере того как постепенное совершенствование орудий труда и способов охоты требовало, чтобы человек все более отрешался от сиюминутных забот, развивалось и его умение управлять собственными движениями. Кроме того, свойства предметов, с которыми люди манипулировали, постепенно начали оцениваться иначе, чем непрерывный поток поступающей в мозг сенсорной информации. Человеческий мозг, отстраненный от текущего момента, нуждался в суррогате, с которым он мог бы работать, и таким образом постепенно возникли элементы органической системы символов и логики, способствующие развитию свойства перемещаемости и в свою очередь поощряемые им. Развитие этой системы привело к постепенному усилению наших возможностей оказывать желаемое влияние на окружающий мир. По мере того как совершенствовались орудия охоты, человек стал достигать все большего в процессе самой охоты. Таким образом, поощрение к совершенствованию орудий охоты было смещено во времени и пространстве относительно самого акта охоты. Аналогичным образом развитие этой системы позволило мысленно опробовать различные стратегии поведения, не затрачивая при этом колоссальной энергии и не подвергаясь риску, неизбежно сопряженному с испытанием новых стратегий поведения в реальном мире. Таковы краткосрочные преимущества этого трюка – способности быть мертвым, оставаясь живым.
Я сознательно описал перемещаемость подобным образом (хотя в действительности предпочитаю говорить не о «перемещаемости», а об «абстрагировании», поскольку именно последний термин предполагает выход вовне, за некоторые рамки), чтобы противопоставить мою трактовку перемещаемости той, где перемещаемость сопоставляется с памятью. То, что возникло в качестве суррогата реальности, в качестве грифельной доски, на которой человек мог разрабатывать и испытывать стратегии выживания, постепенно стало все больше занимать наше внимание по сравнению с реальным миром. У первобытного человека и даже еще у доисторического человека существовали непосредственные связи между предметами и символами, обозначавшими эти предметы; однако по мере развития цивилизации связи эти постепенно ослабевали. Современный рациональный человек их полностью утратил. Мы еще можем усмотреть связь между символами и первичным мозгом в высказываниях о религии и магии. В прочих же областях деятельности нашего общества овеществленный мир символов и логики считается миром реальности, тогда как покинутый нами мир рефлексов и эмоций рассматривается уничижительно, как хаотический и чуждый цивилизованному человеку.
Именно в силу такого извращения наших представлений мы столь изумлены достижениями Уошо. Когда мир овеществленных представлений современной цивилизации создает у нас впечатление упорядоченности, то это происходит за счет утраты представления о сложности реальной жизни. В рамках этого мира возможно воссоздание уроков жизненного опыта, но в силу самой его природы оно может осуществляться лишь посредством ухода, перемещения в сторону от жизненного опыта. Такое воссоздание является уже порождением таксидермии, а не самой природы. Эта культурная шизофрения западной цивилизации обязана чрезвычайно высокой степени смещения характера мышления и поведения от их эволюционных корней, тех корней, которые, с точки зрения невролога, лежат в первичном мозге, а с точки зрения физиолога – в подсознании. Такая крайняя степень смещенности самоубийственна – это крайнее абстрагирование от окружающей реальности, окончательная победа мира мозга над миром реальности. При достижении этой крайности мы начинаем мучительно ощущать напряженность, заложенную в нашей способности к перемещаемости.
