Страница:
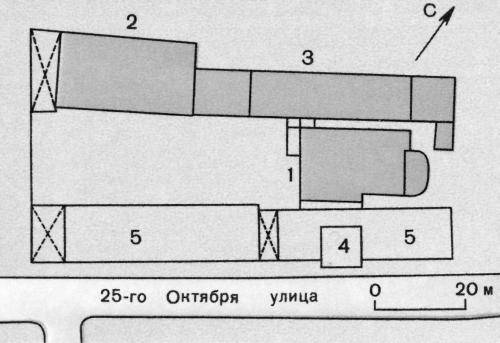
К западу, по линии Братского корпуса, располагается здание Заиконоспасского духовного училища, выстроенное в 1821–1822 годах по проекту знаменитого московского зодчего О. И. Бове, причем на фундаменте Учительского корпуса, но с значительным расширением общего плана в сторону Китайгородской стены.
Заиконоспасское духовное училище предназначалось главным образом для детей духовенства Москвы. Оно имело четырехклассную программу, по окончании которой ученики могли поступать в духовные семинарии. Общежития в последнее время его существования в нем не имелось. «Властьми» его, как и Ставропигиального Заиконоспасского мужского монастыря, были перед Октябрем управляющий – архиепископ Владимир, благочинный – архимандрит Алексий, смотритель Владимирской церкви – иеромонах Рафаил. В монастырском штате числилось три иеромонаха, три иеродьякона и один послушник.
И любопытная подробность. Деятельный соратник царевны Софьи, талантливый ученик Симеона Полоцкого, монах местного монастыря, поэт и богослов Сильвестр Медведев поднес царю Федору Алексеевичу на утверждение «Академическую Привилегию», являвшуюся уставом образовывавшейся академии.
«Привилегия» состояла из предисловия и восемнадцати пунктов, согласно смыслу которых академия представлялась как бы высшим трибуналом по делам веры во всех событиях, угрожавших чистоте православия. Академия мыслилась как автономная корпорация, на содержание которой следовало выделить ряд монастырей.
По словам историка С. М. Соловьева, «Московская академия по этому проекту – цитадель, которую хотела устроить для себя православная церковь при неизбежном столкновении своем с неверным Западом. Это не училище только – это страшный инквизиционный трибунал: произнесет блюститель с учителями слова: „виновен в неправославнии“, и костер запылает для преступника».
Однако «Привилегия» осталась неутвержденной. А высшим расцветом Московской академии стало начало XIX века, когда число ее студентов достигало полутора тысяч.
Часть 3
Белый город
Ивановский монастырь
Салтычиха, Балтычиха,
И Высоцкая дьячиха;
Власьевна, Герасимовна,
Дмитриевна, Васильевна,
Саввишна – давишня барышня!
А у нас пироги
Горячи, горячи,
С рыбкой, с вязичкой,
С говядиной, с яичком.
Пожалуйте, у нас для вас
В самый раз!
В нашей лавке
Атлас, канифас,
Ситцы, полуситцы,
Шпильки, булавки,
Чирьи, бородавки…
Песенка, которую москвичи распевали у окна тюрьмы Салтычихи. 1770-е гг.
Из двадцати существовавших в предреволюционной Москве монастырей справка во всех справочниках об Ивановском девичьем была едва ли не самой краткой. Настоятельница – игуменья Епифания, казначея – монахиня Артемия, протоиерей отец Василий Дмитриевич Лебедев, один священник, два дьякона, один псаломщик. И никаких исторических сведений. Впрочем, писать даже о возрасте обители действительно было нечего.
«А когда оный монастырь построен, при котором государе, и по какой государственной грамоте, и в котором году, о том в означенном монастыре точного известия нет», – сообщала монастырская опись 1763 года. Сегодняшние архитекторы склонны считать временем основания обители XV век. Легенда относит его ко времени правления Василия III, когда великая княгиня Елена Васильевна Глинская захотела таким образом отметить рождение своего первенца – будущего Ивана Грозного.
Существует и еще одно соображение, что Ивановский монастырь появился даже на рубеже XIV–XV веков как один из форпостов, защищавших густонаселенный Великий посад вместе с Иоанно-Златоустинским монастырем, полностью уничтоженным в 1930-х годах и оставившим память о себе только в названиях Большого и Малого Златоустинских переулков в начале Маросейки. Во всяком случае, само по себе положение Ивановского монастыря на достаточно крутой Ивановской горке позволяло «сторожить» чрезвычайно важную для Москвы дорогу на Владимир и Коломну.
Но в действительности уже со времен Ивана Грозного обитель стала выполнять свою главную роль – места заключения опальных женщин высокого происхождения. Сюда привезут из Владимира насильно постриженную на Белоозере вторую жену царевича Ивана Ивановича Прасковью Михайловну Соловых. Здесь же кончит свои дни другая невестка Грозного – первая супруга царевича, Евдокия Богдановна Сабурова, в иночестве Александра. В 1610 году в Ивановском монастыре была насильно пострижена разлученная с супругом, низвергнутым царем Василием Шуйским, Мария Петровна.
В XVII веке рядом с Ивановским монастырем возник Соляной двор, в амбарах которого хранилась составлявшая государственную монополию соль. Все добытчики соли обязаны были сдавать ее в казну, а мелкие продавцы приобретать у государства из амбаров Соляного двора и продавать по установленной цене. Отсюда улица, на которой стоял монастырь (ныне – Большой Ивановский переулок), стала называться Солянкой, тогда как нынешняя Солянка еще в XVIII столетии была Яузской улицей. Государственная монополия отменена лишь в 1733 году, что лишило Соляной двор его былого значения.
Страшные московские пожары 1737 и 1748 годов, опустошив монастырь, казалось, навсегда прервали его историю. Но императрица Елизавета Петровна возобновляет его непосредственно перед своей смертью в 1761 году. Здесь учреждается приют для вдов и сирот «заслуженных людей», который предвосхищал институт будущего Вдовьего дома. Снова появляется настоятельница с грошовым жалованьем в три рубля сорок пять копеек годовых и сорок три монахини с половинным содержанием – в один рубль семьдесят две копейки на год.
Но так же быстро восстанавливается и былая роль монастыря как страшной «потаенной» тюрьмы. По-прежнему присылались сюда узницы из Тайной канцелярии и Сыскного приказа, Раскольничьей конторы, лица, замешанные в политических и особо важных уголовных делах, «очистившиеся» перед тем во время следствия «кровью», иначе – прошедшие через все самые изощренные пытки. Монахиням оставалось быть тюремщицами. Только крамола свивала гнезда и среди них.
Еще в первой четверти XVIII века были похоронены в монастырских стенах казненные «лжеучители» так называемых людей божьих – лжехристы Иван Тимофеевич Суслов и Прокопий Лупкин. Суслов был одним из самых деятельных помощников Данилы Филиппова в распространении хлыстовской секты. Уроженец Муромского уезда, он в тридцать три года «по благословению» Филиппова пошел на проповедь по Оке и Волге, повсюду приобретая фанатичных последователей. С 1672 года Суслов жил в Москве под именем «темного богатины», имел собственный дом, называвшийся «домом Божиим», «сионским» и «новым Иерусалимом», где происходили хлыстовские моления.
В 1716 году Суслова не стало. Его погребли в Ивановском монастыре, где над могилой поставили памятник с надписью: «Погребен святой угодник Божий». Могила и памятник открыто чествовались хлыстами до 1739 года, когда по повелению императрицы Анны Иоанновны труп Суслова, как и Прокопия Лупонина, был выкопан из земли палачами, вывезен в поле, сожжен, а прах развеян по ветру. Тайный приказ открыл, что в келье одной из стариц продолжали собираться по праздникам для молитв последователи Суслова. Старица вместе с четырьмя другими монахинями была казнена, все остальные после наказания кнутом сосланы навечно в Сибирь.
Во второй половине XVIII века печальную славу монастыря умножают две заключенные – Дарья Николаевна Салтыкова, иначе Салтычиха, и таинственная узница, признанная народной молвой княжной Таракановой.
Вдова в двадцать пять лет, Салтычиха к тридцати двум годам буквально вогнала в гроб 139 из 600 принадлежавших ей крепостных. Деревни Д. Н. Салтыковой были и в Вологодской, и в Костромской губерниях, но всем своим владениям она предпочитала «вотчинников двор» в подмосковном селе Троицком. Главными ее жертвами стали крестьяне Верхнего Теплого Стана. Это их безымянные могилы, наспех выкопанные, еще поспешнее зарытые, окружили старую Троицкую церковь.
Среди жертв Салтычихи оказался и Николай Андреевич Тютчев, предок поэта. В самом начале 1750-х годов Салтычиха обращает свое благосклонное внимание на соседа по поместью – секунд-майора. Воспылав к нему «любовною страстию», как писал в жалобе на имя властей незадачливый майор, Дарья Салтыкова решила сначала избавиться от его молодой жены Пелагеи Денисовны, в девичестве Панютиной. Но, не встретив взаимности со стороны Тютчева, перенесла и на него свою ненависть. Над молодоженами нависла смертельная опасность. Не доверяя вмешательству властей, Тютчевы бежали из родных мест ночью, лесными тропами, обманув выставленных Салтычихой вокруг их деревни соглядатаев. Дорога беглецов лежала на Брянщину, в поместье Овстуг, где спустя полвека и родился поэт Федор Иванович Тютчев.
Возмущавшая современников и историков снисходительность властей к теплостанской помещице – семь лет была Салтычиха полновластной хозяйкой своих крепостных, шесть последующих лет находилась под следствием – имела совершенно особые причины.
Первые годы вдовства Дарьи – последние годы правления Елизаветы Петровны. Усиливающаяся болезнь императрицы пророчит скорую смену правительства. Около престола есть объявленный наследник – будущий Петр III, но ни для кого не секрет, что Елизавета Петровна не желает его видеть, всерьез подумывает о высылке его супруги – будущей Екатерины II. Ходят слухи о передаче власти малолетнему сыну незадачливой четы, Павлу Петровичу, при регентстве последнего фаворита императрицы И. И. Шувалова.
Верно и то, что по приказу императрицы в Петербург тайно привозили находившегося почти от рождения в одиночном заключении императора Иоанна Антоновича, – даже он оказался в числе возможных кандидатов на престол, а пришедшая затем к власти Екатерина Вторая допускала возможность своего брака с полупомешанным и недоразвитым человеком.
Но ветвь старшего брата Петра I, внуком которого был Иоанн Антонович, – это и ветвь Салтыковых, в семью которых вошла Дарья, в девичестве Иванова. В подобной ситуации связи ее сестер – Марфы, вышедшей замуж за полковника В. И. Измайлова, Феодоры, жены генерал-поручика А. С. Жукова, Аграфены, супруги действительного статского советника И. Н. Тютчева, или Татьяны Муравьевой бесконечно уступают значению салтыковской семьи.
Существовала у Дарьи и иная связь с потомками старшего брата и соправителя Петра I. Родная тетка Салтычихи Аграфена Автономовна Иванова и царевна Прасковья Иоанновна были золовками – женами братьев Дмитриевых-Мамоновых: Ивана Ильича-старшего и Ивана Ильича-младшего.
Именно поэтому следствие по делу Салтычихи Екатерина II начнет, только полностью перехватив власть, а разрешит довести до конца только после убийства Иоанна Антоновича, несмотря ни на что, представлявшего для нее серьезную угрозу. Со смертью императора-арестанта суровость суда над Салтычихой приобретала смысл и как угроза связанной с престолом семье, и как наглядное свидетельство человеколюбивых начинаний нового правления в духе принципов французских просветителей, с которыми так упорно заигрывала Екатерина II.
Первоначальный смертный приговор императрица заменила пожизненным одиночным заключением. Перед тем как отвезти Салтычиху в приготовленную для нее особую подземную тюрьму, под сводами подклета церкви в Ивановском монастыре, преступницу поставили на один час на эшафот с надписью на груди: «Мучительница и душегубица». Отныне Дарья Салтыкова-Иванова лишалась всего своего состояния, дворянства и самого права называться фамилией отца или мужа, даже считаться женщиной.
В 1778 году Салтычиху перевели в застенок, пристроенный к монастырской церкви и имевший закрывавшееся снаружи зеленой занавеской окошко, через которое желающие могли рассматривать преступницу. Именно тогда и родилась издевательская песенка, которую распевали москвичи.
Салтычиха умерла в 1801 году, просидев в застенке двадцать два года, и похоронена в Донском монастыре вместе с членами семьи Салтыковых. Застенок же вместе с церковью был разобран в 1860 году.
И еще одна история тоже об узнице Ивановского монастыря.
…Надежды не оставалось теперь уже никакой. Два года метаний по трактам Сибири. Дальний Восток. Даже Камчатка. Даже Сахалин. Вопросы нетерпеливые. Упрямые. Ответы недоуменные. Всегда одинаковые.
Шубин Алексей Яковлевич. Ссыльный. Не видели. Не слышали. Лейб-курьер не знал о секретной приписке Тайной канцелярии: сослать безвестно. Без имени, роду, племени, под строжайшим наказом о них забыть, ни при каких обстоятельствах не поминать. Бессилен был бы помочь даже портрет: десять с лишним лет жестокой ссылки меняли человека до неузнаваемости. Между тем Елизавета Петровна торопила, напоминала, отпускала все новые и новые деньги – курьер оставался бессильным.
И все-таки на одном из становищ дымящаяся оловянная кружка чая. Мутный свет набухшего жиром фитиля. Молчаливые серые лица. И осипший голос: «Разве правит в России Елизавета Петровна?» Только после утвердительного ответа со всеми обстоятельствами дворцового переворота: «Тогда я и есть Шубин. Был». Седой. Беззубый. С перечеркнувшими задубевшую кожу морщинами. «Прапорщик Ревельского гарнизона Алексей сын Яковлев Шубин». Последний раз названный давний чин, на котором остановилась жизнь.
Елизавета не знала предела монаршим щедротам. «За невинное претерпение» – его и свое собственное, за незабывшуюся обиду и горечь унижения, за навсегда разделившие с любимым годы всего было мало: орденских лент, чинов, деревень, денег. Ведь когда-то приходилось себе отказывать в скатертях, чтобы подарить приглянувшегося камер-пажа парой золотых запонок. Единственного родового шубинского владения – сельца Курганихи в окрестностях Александровой слободы едва хватало на пропитание да на одного верхового коня. И знакомство с тогдашней цесаревной состоялось не где-нибудь – в отъезжем поле, на охоте.
Была во всех наградах и доля неловкости. Уверившаяся в себе, торжествующая, властная, готовая подчас расчувствоваться, чаще развеселиться, императрица всероссийская ничем не напоминала цесаревны из подмосковной слободы. Иная повадка, иные люди вокруг. Угрюмая настороженность новоявленного генерал-поручика тяготила, неумение «камчадала» принять участие в придворном обиходе раздражало. С каждым днем все сильнее. Императрица безуспешно «выговаривала, чтоб был повеселее».
Кавалер ордена Александра Невского сторонился других придворных чинов, отговаривался от приглашений на праздники и балы, избегал театральной залы, где кончался чуть не каждый день императрицы. Он по-прежнему вздрагивал от скрипа двери, бледнел от мелькнувшей за спиной тени. И молчал. «Племянникам госпожи Шмитши», около которых было отведено место Шубину за царским столом, радости от соседа слишком мало. «Племянники госпожи Шмитши» – брат и сестра, подростки, судя по товарищам их игр, четырнадцати или пятнадцати лет.
Воспоминания о былой близости оказались куда лучше общения новых дней. Для Шубина срочно полученные награды не смягчали необходимости каждый день видеть торжество певчего слободских времен – «друга нелицемерного», по выражению Елизаветы Петровны, Алексея Разумовского. Пока лейб-курьер ездил по Сибири, блистательная карьера Алексея Григорьевича достигла апогея. В день восшествия Елизаветы Петровны на престол – действительный камергер, вскоре затем обер-егермейстер, 25 апреля 1742 года – кавалер ордена Андрея Первозванного и уже в присутствии Шубина – граф сначала Римской, затем и Российской империи. Даже в милостях императрицы Шубин оставался «бывшим».
Елизавета не удержалась от слез, давая Шубину «апшит» – увольнение от двора, на котором он стал настаивать. Генерал-поручик волен был ехать в свое только что полученное село Роботки Макарьевского уезда Нижегородской губернии – две тысячи душ крестьян, пашни, крутой берег Волги.
Перед отъездом оставалась одна забота – прощальный визит во дворец к «племянникам госпожи Шмитши». У Шубина дрожал голос, выпала из руки шляпа – «племянники» торопились на представление французской комедии. Другой встречи не состоялось. Брат и сестра вскоре исчезли из придворных хроник.
Подхваченные депешами дипломатов придворные слухи утверждали, что несколькими годами раньше на попечении «госпожи Шмитши» находился еще один племянник. Его еще в бытность Елизаветы Петровны цесаревной удалось «с великим поспешением» пристроить на службу. Судьбой «племянника Шмитши» занялся Александр Борисович Бутурлин. Правда, не сам. В этой любезности ему не отказал Иван Юрьевич Трубецкой. Богдана (иначе – Ивана) Васильевича Умского, значившегося по документам сыном «шляхтича польской нации», зачислили в феврале 1738 года копиистом в Сенат. От десятилетнего недоросля действительной службы никто требовать не стал – опека И. Ю. Трубецкого давала вполне ощутимые результаты.
Зато в двадцать лет Умской становится поручиком Ингерманландского пехотного полка, а всего несколькими годами позже – капитаном Эстляндского полка. Не отличавшийся служебным рвением, он имел средства для широкого образа жизни, а с основанием Московского Воспитательного дома получил удобную и почетную гражданскую должность его опекуна.
Обычная в конечном счете жизнь обычного средней руки дворянина, если бы не напряженное внимание двора. Умского не продвигали по служебной лестнице, зато поощряли монаршей лаской, деньгами и… не спускали с него глаз. Тем лучше, что он не причинял никаких дополнительных беспокойств. Одно слово – родной и старший сын Елизаветы Петровны. Так, во всяком случае, настойчиво утверждала народная молва.
А толков об императрицыных сыновьях было множество. Упорно избегали небезопасной темы только современники. Зато даже сам граф Д. Н. Блудов, министр юстиции, министр внутренних дел, главноуправляющий II Отделения Собственной его императорского величества канцелярии при Николае I, признавал, что в одном из монастырей Переславля-Залесского провел всю свою жизнь необычный узник – побочный сын императрицы, горько сетовавший на свою участь. Всякие выезды за пределы монастыря ему были запрещены, посетителей видеть не приходилось. За всю свою долгую жизнь – он умер после 1800 года – забытый узник не услышал, чтобы кто-нибудь им интересовался. Клобуки. Рясы. Мутный дурман ладана. Безысходная смена молитв, постов, покаяний и снова молитв. Без попыток изменить собственную судьбу, вырваться из заключения, хоть на шаг приблизиться к престолу. За таким потомком царствующего дома отказывались следить даже вездесущие дипломаты. Ни для кого никакого интереса он представлять не мог.
И еще был любитель естественных наук. Тоже без имени. Известный тем, что изучал горное дело и получил возможность заниматься в лаборатории профессора химии Ломана. Ядовитые испарения от взорвавшейся реторты привели к гибели учителя и ученика.
То, что Ломан действительно погиб во время опыта, общеизвестно. Кто из сотрудников разделил его участь – ни тогдашних газетчиков, ни позднейших историков не заинтересовало.
В том же списке современники уверенно называли Закревского, действительного тайного советника, президента Медицинской коллегии, видного чиновника времен Екатерины II.
Еще во времена фавора у Елизаветы-цесаревны «другу нелицемерному» – Разумовскому удалось скопить достаточно денег для пухнувших от голода малороссийских родных. Мать открыла корчму и сумела пристроить дочерей. Приданого хватило, чтобы выдать Агафью за ткача Власа Климовича, Веру – за «регистрового казака» Ефима Дарагана, Анну – за закройщика Осипа Лукьяновича Закревского. Понадобилось всего несколько месяцев правления Елизаветы-императрицы, чтобы все они оказались включенными в круг высшей придворной знати. На свадьбу наследника престола, будущего Петра III, родственникам Разумовского было предписано явиться всем.
Но особенно хлопочет Елизавета об Анне Закревской, пытавшейся избежать поездки в столицу из-за близких родов. Императрица отдает распоряжение, чтобы Анна отправилась в путь ровно через неделю после родов, чтобы ехала «без промедления денно и нощно», для чего ее будут ждать на каждой станции по десяти подставных лошадей, а в пути на всякий случай (от чего Боже избави!) станет сопровождать лекарь Киевского гарнизона.
Анна Закревская родила девочку, но и считавшийся по документам ее сыном будущий президент Медицинской коллегии Андрей Иосифович имел тот же год рождения. Ошибка? Или родственная помощь оказавшейся в затруднительном положении императрице? Не нужно ли было по возможности скорее передать под опеку Закревских другого новорожденного младенца? Задачи, сложные для цесаревны, приобретали особую сложность для царицы, и пренебрегать ими не приходилось.
Прожил А. И. Закревский сравнительно недолгую жизнь – малоприметный, исполнительный, чуждый честолюбия чиновник, допускавшийся только в самые задние ряды придворных кругов. И все же. Не случайно Г. А. Потемкин, так безошибочно умевший угадывать каждое затаенное желание или колебание Екатерины Великой, спешит женить своего любимого племянника на дочери именно Закревского. Возможных врагов следовало «замирять», тем более что Павел Сергеевич Потемкин только выигрывал от подобной партии.
Начальствующий в Казани во времена Пугачева, он с началом «потемкинского случая» оказывается руководителем секретной экспедиции в Москве, позднее – генерал-губернатором Саратовской губернии и Кавказа. Все усиленно подчеркивают его заслуги в гражданской службе – разве шутка убедить перейти в российское подданство царя Кахетинского и Карталинского! – и тем более в военной: штурм Очакова, участие в кампаниях самого Суворова.
К тому же П. С. Потемкин пользовался вполне заслуженной известностью как удачный переводчик Руссо и «Магомета» Вольтера. Он автор отмеченных печатью литературного дарования эпистол и особенно драм. Тем загадочнее и таинственнее выглядел его конец.
П. С. Потемкин умер 20 марта 1796 года после разговора с навестившим его поутру «кнутобойцей» Шешковским. Современники, теряясь в домыслах, усматривали здесь и интригу последних фаворитов Екатерины – братьев Зубовых, и тянувшиеся еще с Кавказа нити всяких неразобранных дел. Но возникал и вопрос о А. И. Закревском. Жена П. С. Потемкина унаследовала бумаги отца, которые граф старательно хранил. Именно этих бумаг после похорон П. С. Поремкина и не удалось найти.
И еще оставалась «племянница Шмитши».
После обеда были у нас племянники графские (А. Г. Разумовского. – Н. М.). Ездили до Ивана Журавки, где и ужинали с ним и с камер-юнгферами, свойственницами графа Разумовского, да с племянницею мадам Иоганны («Шмитши». – Н. М.).
Из дневника Ханенко. 1746 г.
Я помню ее, я видел ее в Зимнем дворце на выходах; ее прочили тогда за Голштинского принца, двоюродного брата тогдашнего наследника, а после перемены правительства в 1762 году все говорили, что она уехала в Пруссию.Сухощавая. Невысокая. С удлиненным лицом и тонким прямым носом. Молчаливая. Ловко, но неохотно танцевавшая. Бегло изъяснявшаяся на немецком и французском языках, но чаще задумчиво слушавшая.
Пастор Лиадей. 1775 г.
Пройти мимо свидетельства пастора Лиадея трудно. Лиадей вполне реальное лицо. Он служил офицером в русской армии, действительно был вхож во дворец. И маленькая корректива. Сначала официальное обвинение утверждало, что Лиадей якобы видел в Зимнем дворце собственно «самозванку», объявившуюся в Риме и Пизе, которую в свое время прочили за Голштинского принца. Однако противоречие оказалось слишком очевидным: «самозванке» едва исполнилось 23 года – пребывание Лиадея в России предшествовало ее рождению. Последовало уточнение: Лиадей находил «самозванку» необычайно похожей на побочную дочь Елизаветы Петровны, выданную замуж за двоюродного брата Петра III.
По-видимому, речь шла об одном из сыновей Георга Людвика Голштинского. После дворцового переворота в пользу Екатерины II Георгу Людвику удалось бежать в Пруссию. Оба его сына при той же попытке были задержаны новой императрицей. Один из них, Вильгельм, утонул при невыясненных обстоятельствах в 1774 году в Ревельской бухте, другого Екатерина срочно женила на родной сестре своей невестки, будущей императрицы Марии Федоровны. Среди многих слухов, которые вызвали эти достаточно загадочные события, ходил и такой, что старый герцог успел бежать вместе с женой Вильгельма. Овдовев, она некоторое время жила в Европе, нигде не показываясь, ничем о себе не заявляя.
Так или иначе, упоминания о «племяннице госпожи Шмитши» прекращаются в конце 40-х годов. Остается предполагать, что судьба ее была устроена вдали от двора. Никакими сантиментами Елизавета Петровна не отличалась. Все, что напоминало о неизбежном отсчете лет, старалась от себя отстранять. Дальнейшая жизнь «племянницы Шмитши» растворялась в потоке легенд.
«Под сим камнем покоится прах рабы Божией инокини Аркадии, скончавшейся 1839 года, генваря 22 дня. Инокиня Аркадия проживала в посаде Пучеже, при Пушавинской церкви, 50 лет, скрыв настоящее свое звание и род, а называлась Варварою Мироновною, по прозванию Назарьевой, жития же ей сколько было, остается неизвестно».
