Страница:
Вместе со мной в Умпырскую долину поехал и Кожевников, суровый бородатый друг.
Но уже за тридцать верст от станицы, на Уруштене, весенние приметы начисто исчезали. Тут белел нетронутый снег, свирепо ревел в ледяных закрайках поток, а наши следы замела недавняя поземка.
От местечка «Третья рота» тропа спускалась к берегу Лабенка, найти ее сейчас могли только чуткие кони; мы опустили поводья, лошади склонили морды и шли осторожно, но точно по тропе. Дважды мы с ходу пытались одолеть перевал, но не могли пробиться из-за глубокого снега. Приходилось подумать о ночлеге. Утро вечера мудреней.
Кожевников потоптался возле коней, прислушался к крику сойки. Что-то заинтересовало его. Бинокль ощупал берега Лабенка и высокий перевал.
— А ить наверху какой-то лихач бродит, — сказал он и засмеялся. — За нами, похоже, катится.
С перевала вниз, раскачивая кусты заснеженного жасмина, спускался человек. Зигзагами, от камня к камню, где на ногах, где лежа, толкая перед собой сугробы снега, смельчак делал тропу. Заметив нас, он пронзительно засвистел.
— Телеус! — закричал Кожевников. — Выручать бежит!
Через полчаса мы пожимали руку бесстрашному егерю.
— Пешком?
— Не-е… Коня пустил назад с первого перевала. Он у меня ученый, дойдет. А я пешки сюда. Знаю, как тяжко по снегу подняться с этой стороны. Так что… Ночуем, братья, здесь. Утром пойдем. По готовому следу не так трудно.
Мы расчистили в кустах площадку и зажгли костер.
— А с Лабазаном что-то стряслось, — сказал Телеусов. — Я выследил его, ночью бродил у той горы. Кровь нашел на следу. След такой, будто лошадь испугалась или споткнулась и понесла, он свалился, побился на скалах, но сумел одолеть горы возле логова. Ползком полз.
— Так ведь не один он. Помнишь?..
— Как не помнить. Второй-то, похоже, ручкой ему помахал. Уехал на юг. Добычу повез. Но это уже после Лабазанова падения. То ли лезгин сам приказал ему ехать, то ли просто бросил, посчитав, что тот готов. Завтра узнаем.
События неожиданные. Наша задача облегчается. С одним уже легче управиться. Мы еще немного поговорили об этом и, угревшись у огня, заснули.
Близко к полуночи нас разбудил испуганный храп лошадей. Они топтались у потухающего костра и косили глазом на скальную стенку, которая подымалась за густым жасминником. Там светились два зеленых глаза. И не исчезли, когда Телеусов встал, чтобы успокоить лошадей. Барс?!
— Смотри-ка, он здоровается с нами, — засмеялся Телеусов. — Точно, наш знакомец. Кто же другой осмелится вот так-то оповещать о себе? Я спробую сейчас…
Он вынул из сумы кусок вяленого мяса, накинул на себя плащ и пошел к зеленым огонькам на скале.
— Винтовку… — тихонько напомнил Кожевников.
— Пужать не хочу, — отозвался егерь.
Чернеющая ночь висела над горами, даже снег не светился. Телеусов как растворился в ней. Мы следили за глазами барса. Они пропали. Потом возникли, но уже выше. Зверь мяукнул, однако без угрозы. Услышали, как Алексей Власович что-то выговаривал зверю, как говорят со знакомым. И все смолкло. Я взял винтовку и пошел через кусты к скалам. Мало ли что…
Захрустел снег. Телеусов возвращался. Поравнявшись, улыбчиво сказал:
— Мясо забрал. Я, правда, не видел, просто кинул ему, он спужался и побег, а потом, слышу, вернулся и заурчал. Нашел, значит.
— Думаешь, тот самый, хромой? Может, еще придет?
— А что, и придет! Скорее всего, издаля понаблюдает за нами. Вспомнил. А может, и нечаянно нашел.
— Живет поблизости. До того мостика всего саженей двести.
— Интересно, поправил ногу ай нет?
Мы потоптались немного, но барс, по-видимому, ушел или залег в потайку. Лошади успокоились. Остаток ночи мы провели без просыпу. И утром, снимаясь с ночлега, не увидели и не услышали своего приятеля. Чтобы убедиться в ночной догадке, Алексей Власович сходил на скалы. Мяса там не оказалось. Взял.
— Помнит! — убежденно сказал Телеусов.
— Почему так думаешь?
— Зверь этот самый осторожный. А мясо человеком пахнет, не больно его возьмет. Страшно: вдруг капкан? Тем более, опыт есть. А этот взял за милую душу. Все потому, что наш с тобой запах не вызвал у него беспокойства, доброту в памяти оживил.
— Если голодный, тоже не постережется, — буркнул Кожевников.
— И это правда. Но мне по-своему думать как-то сподручней. Приятно, что дружок усатый завелся.
— Слушай, повторим опыт? Я пойду на мостик и положу приваду. Если барс возьмет и от меня, значит, дело не в голоде.
— А ну… — подзадорил Телеусов.
Я нарочно повалял подольше в руках кусок бараньего бока, взятого из дому, и побрел вдоль берега. Вот и мост. Девственный снег покрывал старые следы барса, когда он перешел на эту сторону до снегопада. Семь шагов сделал я по опасной переправе, мост скрипуче зашатался, в черную воду полетели пушистые лохмотья снега с перильцев. Дальше идти побоялся, положил мясо и, пятясь задом, сошел с хрупкого сооружения.
— С перевала увидим, раньше он побоится выйти, — сказал Телеусов, уже успевший оседлать коней.
Часа полтора мы карабкались наверх и, вконец измученные, остановились на верхней площадке рядом с мокрыми лошадьми. И сразу взялись за бинокли.
Каково же было наше удивление и радость, когда мы увидели барса! Он стоял перед входом на мост, но неотрывно смотрел в нашу сторону. Видел, конечно: на фоне неба фигуры просматривались четко. Он почему-то лег на живот и все смотрел и смотрел. Потом чуть приподнялся и пополз по мосту, как кошка за мышью. Взял мясо без раздумья, капкана не боялся. Крутанувшись на месте, спрыгнул с мостика и, уже не обращая на нас внимания, тут же, на моих следах, стал жадно есть.
— Ну, убедился? — Алексей Власович смотрел геройски.
— Точно. Свой зверь. Дикий дальше некуда, а помнит добро.
Только вечером мы пришли в долину к своей хижине. Плотники уже беспокоились, хотя Телеусов предупредил их, когда уезжал.
До полудня другого дня не снимались, дали отдохнуть коням, отоспались сами и лишь тогда, проверив оружие и снаряжение, поехали через Лабенок. На войну.
Едва успели подняться на первый склон, как увидели зубров. На опушке длинной лесной поляны отдыхало три стада. Бурые обсохшие туши отлично виделись на снегу. Семьдесят три головы! Похоже, они только что спустились из лесу на горном склоне, тропы их пропахали снег по всему редколесью. Мы не вышли из густого грушняка, сторожко объехали стадо по-над ветром и подались к месту недавней драмы.
Свежий снег призакрыл следы разбойников, но Алексей Власович довольно скоро нашел тот скальный прижим, где, по его предположению, Лабазан — или тот, другой, что был с ним, — упал и расшибся, скатившись глубоко в расщелину, полную крупных камней. Истоптанная конскими копытами покатость, брошенные лыжи, поломанные кустарнички, какая-то тряпица, почерневшая кровь на камнях. Что же произошло здесь? Какая беда настигла преступников?
Кожевников бродил вокруг, наклонялся, исследуя каждый камень, каждый надлом и вмятину на снегу. Вот сюда два негодяя сбросили мешки с мокрой от крови шкурой или мясом. А вот там поймали понесшую было лошадь: ее напугал шум небольшой лавины, след которой мы увидели сбоку тропы. Возможно, что всадника сбросила не лошадь, а воздушная волна. Да, топтались две лошади и два человека. Второй не в седле, а вел груженого коня за повод. Ну, а дальше?
— Дальше, ребята, раненый стал добираться пешком, — сказал Кожевников. — Вот, смотрите, он кинжалом срубил себе осинку на костыли. Вот тут садился отдыхать, сам перевязывал рану, следов другого человека нету. По всему видать, нога сломана. Потом ему похудшело, уже не шел, а ползком полз.
— Куда же девался второй? — нетерпеливо спросил я.
— Уехал с обоими конями. След по распадку вправо, там тропа на юг, я ее знавал. Повез поклажу.
— Значит, бросил сообщника?
— Видать, бросил. Если только не по согласию.
— Вот это друг-приятель!..
— У всех мерзавцев один закон: собственную шкуру уберечь.
Теперь и под свежим снегом мы без труда находили канавку, проделанную раненым. Куда он хотел добраться? До своей пещеры? Но туда верст пятнадцать, если не больше, и первое время всё на подъем, через камни перевальчика. Здоровому и то трудно.
Мы шли гуськом, лошади в поводу, но винтовки на руке. До вечера оставалось немного, воздух налился призрачной синевой.
На перевальчике остановились, Телеусов пошел осмотреть спуск в долину, над которой стояла та самая гора с пещерами, черная от векового пихтарника. Егерь осторожно переходил от камня к камню и часто посматривал в бинокль.
Как ни осторожничал Алексей Власович, тот, кого мы искали, все-таки первым увидел его, скорее всего, потому, что перевальчик с двигающейся фигурой рисовался на синеватом фоне неба, тогда как долина и подножие горы уже закрылись сумерками. Громко и неожиданно снизу щелкнуло. Пуля ударилась о камень, из-за которого выглядывал егерь, и, срикошетив, тонко пропела, уходя в небо.
Телеусов живо присел, а повременив немного, снял шапку, повесил ее на ствол винтовки и высунул уже с другой стороны. Раздался второй выстрел, шапку сбило. Мы увидели, как Алексей Власович поднял ее и сокрушенно покачал головой: испортил хороший треух…
— Ну вот, отыскался вражина, — сказал он, вернувшись. — Живой еще, коли стреляет. Продырявил мне шапку, окаянный. И все ж таки он у нас в руках. Не убежит. Затаился где-то на опушке пихтарника, до пещер своих не долез. Там-то он поводил бы нас, поиграл! А теперь и костра не запалит: мишень хорошая. Поморозим его ночь или сразу пойдем?
Посовещавшись, решили, как стемнеет, пробраться лесом в тыл к бандиту, отрезать путь к пещерам, а там видно будет.
— Только вместях, ребята. Поодиночке он нас запросто… Будет стрелять на каждый шорох в лесу.
Оставив коней за перевалом, мы шагом рыси спустились в полной темноте к лесу, углубились в него и уселись поудобнее за пихтовыми стволами в десяти шагах друг от друга. Лабазан должен ползти в глубь леса и тем выдаст себя. Понимает, что за ним охотятся.
Ждали, пожалуй, до полуночи, глаза заболели от напряжения. Да и замерзли так, что терпения уже не хватало. Но в лесу ни шороха, ни звука. Где он? Ведь тоже без огня, не слаще, чем нам. Надо идти к опушке, маскируясь как можно ловчей. Так и пошли, останавливаясь, прислушиваясь.
Лишь когда начало светать, жадный ворон помог нам. Видимо, он с вечера заприметил неподвижного человека и чем свет прилетел проверить. Раз, другой, третий пролетел он над лесом, сужая круги, и наконец пропал. Сел. Мы пошли смелей и уверенней. Теперь знали — где. К живому человеку стервятник не сядет.
…Лабазан так и не сходил с места. Он привалился к стволу толстой пихты, выставил винтовку в ту сторону, откуда ждал нас, и замер. Голова его бессильно упала на грудь, натянув со спины туго завязанный башлык. Побелевший палец застыл на спусковом крючке. Дешево жизнь отдавать не собирался.
Ворон, топтавшийся на снегу чуть ли не в трех шагах от застывшего человека, молча взлетел и уселся на близкой сухой вершине. Он еще надеялся на поживу.
С двух сторон мы схватили браконьера за плечи. Кожевников выхватил винтовку. И тогда пленник открыл глаза. Туманно глянул на нас и обмяк. Потерял сознание.
По сухим веткам пихты застучал кинжал Телеусова. Чиркнула спичка. Снег полетел в стороны. Почти у самых ног Лабазана занялся костер. Лицо Алексея Власовича преобразилось. Сейчас оно выражало только жалость и сострадание к человеку, хотя этот человек чуть не убил его.
Пока огонь разгорался, мы усиленно растирали снегом руки, лицо, грудь пленника. Но очнулся он только в тот момент, когда я нечаянно тронул его ногу. Раздался долгий стон. Лабазан резко дернулся и опять свалился без памяти.
— Легче, Андрей! — с досадой прикрикнул на меня Телеусов.
Глоток водки привел браконьера в чувство, он уже более осмысленно глянул на каждого из нас и гортанно проговорил:
— Нога…
Мы видели его ногу. Открытый перелом бедра, почерневшая, неживая ступня. Гангрена. Сколько времени прошло с того момента, когда он вылетел из седла? Три дня? Четыре? Какую же силу воли надо иметь, чтобы уползти за десять верст от места катастрофы?!
Узкое, орлиное лицо Лабазана, грязное, темное от копоти и щетины, в короткой черной бороде, загорелось больным румянцем. Коченея на морозе, он тем самым как бы сдерживал естественное развитие гангрены. Костер, растирания и водка вернули к жизни его тело, и заражение крови ускорилось.
— Где твой приятель? — прогудел над ухом умирающего Кожевников.
— Проклятый гяур бросил меня! — неожиданно окрепшим голосом произнес Лабазан. — Аллах да проклянет неверного и потомков его!
— Кто, кто? — торопил Кожевников.
Лабазан не ответил. Он в упор смотрел на меня.
— Ты хотел моей смерти? — спросил он. — Но смерть сама была рядом с тобой…
— Ты стрелял в меня у ручья? — Теперь я допрашивал Лабазана.
— Моя пуля не проходит мимо. К ручью не ходил. За деньги не убиваю людей. — Он говорил туманно, непонятно.
— Кто же, кто стрелял?
Лабазан закрыл глаза. Не хотел говорить.
Догадка осенила меня. Схватив Лабазанову винтовку, я передернул затвор. Браконьер встрепенулся, поняв этот маневр по-своему. Он поднял голову, и в горящих глазах его я вдруг заметил гордую радость. Он жаждал смерти, достойной воина. Он думал, что я убью его. И с радостью принял бы смерть.
Выстрел раздался. Вскинутая вверх винтовка дрогнула, затвор открылся. Я поднял выпавшую гильзу и осмотрел пистон. Вмятина была точно в центре. Не из этой винтовки стреляли в меня.
— Что же ты, хранитель домбаев? — насмешливо спросил Лабазан. — Стреляй! Пошли мне пулю в сердце. Я убил за свою жизнь пятьдесят шесть… Не промахнулся бы… Я могу еще… — Речь его сделалась невнятной, глаза подернулись тоской.
— Давай его на носилки, — почему-то шепотом заторопил Алексей Власович. — Похоже, бредить зачал. Быстро, ребята!
Коней мы поставили на расстоянии сажени друг от друга. Телеусов привязал к седлам две длинные жерди. Между ними Кожевников проворно и ловко натянул бурку, потом плащ. Лабазану стало совсем плохо, он тяжело дышал, то и дело закрывал глаза, но, когда Алексей Власович наклонился к нему и спросил, как ехать к пещере, сумел объяснить. Мы подняли браконьера на импровизированные носилки. Боль в ноге он, похоже, уже не чувствовал. Кони гуськом тронулись через лес, я вел своего Алана позади, время от времени ощущая на себе горячечный, быстрый взгляд лезгина, жизнь которого кончалась без нашей на то вины. Впрочем, мысли такого рода были здесь лишними: не отомсти сама природа, то же самое сделали бы мы.
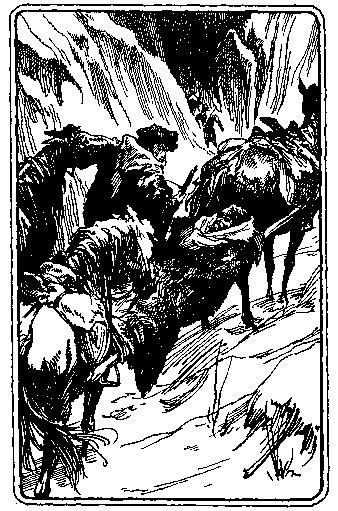
Кожевников нашел чуть видную тропу, она зигзагами шла наверх. Лабазан лежал головой вперед, умиротворенный, смирившийся с неизбежным. Он уже понял, что враги его не надругаются над ним, не бросят на съедение лисам.
Пещера открылась за густой можжевеловой зарослью — узкий, черный лаз в гору.
— Здесь? — спросил Телеусов.
— Нет, — слабо ответил Лабазан. — У старой сосны есть другая пещера, там я похоронил друга, русского. Там оставьте меня, здесь по ночам бродят тени убитых быков…
Оба егеря ушли искать пещеру Белякова. Мы с Лабазаном остались с глазу на глаз. Я подошел ближе.
— Доволен, джигит? — через силу спросил Лабазан. — Ты ведь шел убить меня?
— Я шел прогнать тебя, убивающего зубров. Мы хотели, чтобы ты ушел. Но мы могли убить тебя, ведь ты уже поднял руку…
— Зачем тебе домбаи?
— Они под защитой людей. Их очень мало на земле. Без нашей защиты они пропадут. Все до единого.
Лабазан как-то странно смотрел на меня. Не понял. Звери существуют для охоты — эту истину он знал с детства, впитал с молоком матери.
— Я тоже мог убить тебя, — тихо сказал он. — Из-за домбая… Ты не боялся смерти, такой молодой… Ты странный гяур. Ты смелый человек. У тебя смелые друзья. И сильные враги.
— Кто?..
— Я связан словом…
Вернулись егеря. Лабазан едва шевелил губами. Потом затих. Лицо его бледнело, какая-то странная синева наплывала со лба на щеки. Нос заострился.
Мы переглянулись. Кончается.
С носилок снимали уже мертвое тело.
А еще через час, оставив грешника в каменном склепе рядом с другим таким же грешником, мы вышли к сосняку у входа, посмотрели на светлое небо, на деревья, уже сбросившие с веток старый снег, и поняли, что вокруг жизнь, весна, а то, что произошло нынче, вот только что, — это печальный эпизод, горький случай, избавивший нас от тяжелой необходимости самим наказать врага Кавказа. Ведь мы охраняли жизнь в горах всей своей совестью, призванием, хотя и называлось это службой. Егерской службой.
Молча пошли к жилой пещере браконьера, осмотрели ее. Покойник довольствовался малым. Грязноватая постель, пробитая в камне печь, бурдюк с вином, много патронов, ножи, несколько выделанных ремней, запасная бурка и другая одежда. Копаясь в куче стреляных гильз, которые лезгин по-хозяйски собирал, я с удивлением увидел две блестящие, новенькие: пистоны у них были пробиты сбившимся на сторону бойком!
Вот оно, доказательство. Тот, кто жил с Лабазаном в последние дни, кто бросил его в ущелье, тот и стрелял в меня у ручья. Это его гильзы. Из его винтовки.
— Может, останемся, покараулим сообщника? — неуверенно предложил Телеусов.
— Он сюда не вернется, — сказал я. — Он убежден, что Лабазан погиб. Зачем идти на место преступления? Ведь бросить человека в таком положении — это все равно что убить самому.
— Неужто Семен? — вдруг воскликнул Телеусов.
— Семен был дома, в Псебае, — пробасил Кожевников. — Гулял у соседей с песнями-плясками. Ему можно гулять, он теперича при делах.
Винтовку Лабазана я приторочил к сумам. Особенная винтовка: на замусоленном, почерневшем ложе ее были вырезаны ножом пятьдесят шесть продолговатых зарубок.
Лес в Умпырской долине стоял тихий, напоенный прорвавшимся наконец солнцем, надежно загороженный хребтами от северных ветров. Теплый воздух съедал ноздреватый снег. Стволы кленов и дубов обсохли, понизу вокруг них вытаяли воронки. Вербы и осины на берегу Лабенка заголубели от потянувшихся сережек.
Стук плотницких топоров весело и дробно разносился по лесной поляне. Большой рубленый дом с двумя входами вырос чуть ли не до последнего венца. Свежий сарай белел сбоку. Гора желтого грунта означала будущий колодезь. Так начинался поселок егерей.
Расспросы плотников и рассказы о Лабазане оборвала лишь поздняя ночь. Наутро мы договорились сделать обход южных отрогов и посчитать, если удастся, тамошних зубров. Телеусов уверял, что, кроме уже встреченного стада, в этом районе обитает еще три.
Дальнейшее показало, что Алексей Власович не ошибся. Нам удалось увидеть три плотных, на зиму сбившихся стада. Близко мы не подходили, да в том и надобности не было: голый лес проглядывался в бинокль достаточно хорошо. Глубокие порой быков в снегу походили на свежевзрытые окопы — так зубры прорывали снег в поисках ожины и старой травы.
Стада оказались на редкость организованными. В этих трех мы насчитали сто сорок девять голов, из них почти пятьдесят голов молодняка.
— Прибавь, Андрей Михайлович, еще три десятка быков в четвертом, не найденном стаде, — сказал Телеусов. — За три десятка ручаюсь.
Я принялся было считать, но вспомнил последнюю охоту, приключения в этой долине и запоздало спросил:
— Как ты умудрился, Алексей Власович, провести всю охоту через такое плотное звериное население, да так, что никто не взял ни одного зубра? Ведь бойню могли устроить!
— Запросто могли, — согласился он. — Один вид крупного зверя вытравляет у охотника все доброе-хорошее. Такую пальбу могли учинить, никакой запрет не остановит. Убить не всех убьют, а вот изранить могли. Да еще напужать, с пастбищ согнать. В страхе зубра бегит куда попало — в ущелье, в реку, с обрыва… Ну, вот я и повел, чтобы, значит, мимо. На одно стадо, как ты помнишь, мы все-таки наскочили. Это когда осечка у твово генерала вышла. Теперь-то могу как на духу: я тому виновник. С вечеру перед охотой взялся генералов маузер смазывать, маленько сахарку в масло допустил, оно и того… заело.
Посмеялись над хитрецом. Потом я сложил в своей тетрадке все записи, и вышло у меня, что в одна тысяча девятьсот одиннадцатом году, в апреле месяце, на территории Кубанской охоты находилось всего четыреста девяносто семь диких зубров.
— Не густо, как я понимаю, — подытожил Телеусов. — А все Лабазан с Чебурновым. Ну, один-то уже покойник, земля ему прахом, а вот Семка по лесу бродит. Да и брательник евонный… Пастухи еще с юга опасные, Гузерипль у нас без охраны.
Справившись с одной опасной задачей, мы понимали, что впереди таких задач несчетно. Если бы только Семен Чебурнов бродил по территории Охоты! В бесчисленных винтовках затворы спущены с предохранителя. Люди неспособны жалеть дикого зверя.
Дела звали меня в Псебай. Предстояло доложить Ютнеру о положении с зубрами, написать рапорт о смерти самого опасного браконьера, прочесть почту, если таковая была. Конечно, была! Я ждал новостей от Дануты, которая обещала встретиться с зоологами Академии наук и узнать, что там с прошением на высочайшее имя об установлении охранной зоны. Ждал ответа из Екатеринодара, куда посылал запрос без команды свыше, по собственному разумению. Если Охота перейдет станичным юртам, то в канцелярии наказного атамана должны заранее принять меры к защите животных, всей природы Кавказа. Я уж не говорю о беспокойстве, когда вспоминаю своих старых родителей.
— Я провожу тебя, Андрей, — предложил Телеусов с таким небрежным равнодушием, которое само по себе раскрывало заговор егерей — не оставлять меня одного в лесу: знали о выстреле. Никита Щербаков сказал, конечно.
— У тебя и своих хлопот достает, — ответил я.
— Ну, до мостка хотя бы, — смутился он. — Барса проведаем, мясца ему захватим. Оттуда я возвернусь, и мы с Василь Васильичем сбегаем на Кишу, оленей в пути высмотрим.
— Разве до мостка, — согласился я, любопытствуя, что у нас получится с этой нечаянной задумкой — подружиться с барсом.
Алан резво вынес меня на первую возвышенность, ведущую к перевалу. Телеусов поотстал, потом догнал и спросил:
— Заночуем где? На Черной речке или у мостка?
Хитрец, он знал, что поведение барса занимало меня не меньше, чем его. Пусть не под крышей и не в тепле, а под открытым небом, но зато рядом с барсом. Разве это не интересно?
Словом, остановились мы на недавней своей стоянке. Мостик обсох, снега на нем не было. На перильцах по-домашнему уютно сидела и вертела головой отчаянная птица оляпка, ныряльщик, водолаз, не боящаяся даже ледяного Лабенка.
Алексей Власович отвел лошадей на поляну, где солнечный припек уже растопил снег. Тут было тихо и безопасно — ни веток, ни скал, где могли укрыться волки или тот же барс. А мы спустились ниже и разожгли костер в сотне шагов от мостика.
— Приманим? — Телеусов разрубил на три части большой кусок баранины и, подумав, бросил один близко от костра, второй дальше, а третий положил на самый край мостика.
— Побоится. Не придет, — вздохнул я.
— А он живет здеся, это я тебе точно говорю. Поди, уже смотрит на нас из-под камней.
И правда, стоило мне только отойти от костра шагов на пять да попривыкнуть к темноте, как на той стороне я нашел глаза барса. Без боязни крикнул Телеусову, барс услышать не мог — река грохотала весенним громом, начисто забивая все звуки.
— Давай ближе к мосту сядем и подождем, — предложил Алексей Власович и, не таясь, передвинулся так, что до мяса на мосту оставалось всего шагов тридцать.
Почти час зверь следил за нами из темноты скалистого берега, вставал, ходил, светящиеся глаза его раза два приближались к мосту с той стороны, он хорошо нас видел и мясо, конечно, чуял, но ведь так страшно ступить на узкую переправу, в конце которой люди! Западня?.. Впрочем, те самые люди, которые выпустили его из железных лап капкана. Он колебался.
И вот решился. Мы увидели длинное тело, прижавшееся брюхом к доскам, низко опущенную голову. Он не сводил с нас горящих глаз, а мы сидели, разговаривали, смеялись, не обращали на него никакого внимания. Он подполз ближе, еще ближе, в мерцающем свете костра мы различали пятна на его шкуре. Остановился, приподнялся на ногах, и тут Алексей Власович громко сказал:
— Э-э, лапа-то у него… Смотри, кривая!
Голос не заставил барса сдвинуться с места. Да и как? Узкий мостик. Через несколько секунд стойки зверь протянул к мясу кривоватую, видно плохо сросшуюся, лапу, когтями подтянул к себе приманку. Задом, задом переполз мост, лег там и спокойно занялся ужином.
— Теперь уверовал, — сказал довольный Телеусов. — Слопает и придет за другим куском.
— Ему мимо нас пройти надо, — усомнился я.
— Пройдет, не побоится. Свои.
И правда, барс гораздо спокойнее перешел мост, чуть помедлил на выходе и, мягко прыгнув шагов на восемь, кошкой прошмыгнул на таком расстоянии от нас, что я мог достать его длинной палкой.
2
В Псебае с крыш свисали длинные сосульки, на солнечном припеке снег шумно оседал, ручьи пробивались по улицам, леса мажорно шумели под теплым ветром, и всюду в них виделись обтаявшие следы зайцев, лис, мышей. Все в природе готовилось к весне, морозные ночи никого не пугали.Но уже за тридцать верст от станицы, на Уруштене, весенние приметы начисто исчезали. Тут белел нетронутый снег, свирепо ревел в ледяных закрайках поток, а наши следы замела недавняя поземка.
От местечка «Третья рота» тропа спускалась к берегу Лабенка, найти ее сейчас могли только чуткие кони; мы опустили поводья, лошади склонили морды и шли осторожно, но точно по тропе. Дважды мы с ходу пытались одолеть перевал, но не могли пробиться из-за глубокого снега. Приходилось подумать о ночлеге. Утро вечера мудреней.
Кожевников потоптался возле коней, прислушался к крику сойки. Что-то заинтересовало его. Бинокль ощупал берега Лабенка и высокий перевал.
— А ить наверху какой-то лихач бродит, — сказал он и засмеялся. — За нами, похоже, катится.
С перевала вниз, раскачивая кусты заснеженного жасмина, спускался человек. Зигзагами, от камня к камню, где на ногах, где лежа, толкая перед собой сугробы снега, смельчак делал тропу. Заметив нас, он пронзительно засвистел.
— Телеус! — закричал Кожевников. — Выручать бежит!
Через полчаса мы пожимали руку бесстрашному егерю.
— Пешком?
— Не-е… Коня пустил назад с первого перевала. Он у меня ученый, дойдет. А я пешки сюда. Знаю, как тяжко по снегу подняться с этой стороны. Так что… Ночуем, братья, здесь. Утром пойдем. По готовому следу не так трудно.
Мы расчистили в кустах площадку и зажгли костер.
— А с Лабазаном что-то стряслось, — сказал Телеусов. — Я выследил его, ночью бродил у той горы. Кровь нашел на следу. След такой, будто лошадь испугалась или споткнулась и понесла, он свалился, побился на скалах, но сумел одолеть горы возле логова. Ползком полз.
— Так ведь не один он. Помнишь?..
— Как не помнить. Второй-то, похоже, ручкой ему помахал. Уехал на юг. Добычу повез. Но это уже после Лабазанова падения. То ли лезгин сам приказал ему ехать, то ли просто бросил, посчитав, что тот готов. Завтра узнаем.
События неожиданные. Наша задача облегчается. С одним уже легче управиться. Мы еще немного поговорили об этом и, угревшись у огня, заснули.
Близко к полуночи нас разбудил испуганный храп лошадей. Они топтались у потухающего костра и косили глазом на скальную стенку, которая подымалась за густым жасминником. Там светились два зеленых глаза. И не исчезли, когда Телеусов встал, чтобы успокоить лошадей. Барс?!
— Смотри-ка, он здоровается с нами, — засмеялся Телеусов. — Точно, наш знакомец. Кто же другой осмелится вот так-то оповещать о себе? Я спробую сейчас…
Он вынул из сумы кусок вяленого мяса, накинул на себя плащ и пошел к зеленым огонькам на скале.
— Винтовку… — тихонько напомнил Кожевников.
— Пужать не хочу, — отозвался егерь.
Чернеющая ночь висела над горами, даже снег не светился. Телеусов как растворился в ней. Мы следили за глазами барса. Они пропали. Потом возникли, но уже выше. Зверь мяукнул, однако без угрозы. Услышали, как Алексей Власович что-то выговаривал зверю, как говорят со знакомым. И все смолкло. Я взял винтовку и пошел через кусты к скалам. Мало ли что…
Захрустел снег. Телеусов возвращался. Поравнявшись, улыбчиво сказал:
— Мясо забрал. Я, правда, не видел, просто кинул ему, он спужался и побег, а потом, слышу, вернулся и заурчал. Нашел, значит.
— Думаешь, тот самый, хромой? Может, еще придет?
— А что, и придет! Скорее всего, издаля понаблюдает за нами. Вспомнил. А может, и нечаянно нашел.
— Живет поблизости. До того мостика всего саженей двести.
— Интересно, поправил ногу ай нет?
Мы потоптались немного, но барс, по-видимому, ушел или залег в потайку. Лошади успокоились. Остаток ночи мы провели без просыпу. И утром, снимаясь с ночлега, не увидели и не услышали своего приятеля. Чтобы убедиться в ночной догадке, Алексей Власович сходил на скалы. Мяса там не оказалось. Взял.
— Помнит! — убежденно сказал Телеусов.
— Почему так думаешь?
— Зверь этот самый осторожный. А мясо человеком пахнет, не больно его возьмет. Страшно: вдруг капкан? Тем более, опыт есть. А этот взял за милую душу. Все потому, что наш с тобой запах не вызвал у него беспокойства, доброту в памяти оживил.
— Если голодный, тоже не постережется, — буркнул Кожевников.
— И это правда. Но мне по-своему думать как-то сподручней. Приятно, что дружок усатый завелся.
— Слушай, повторим опыт? Я пойду на мостик и положу приваду. Если барс возьмет и от меня, значит, дело не в голоде.
— А ну… — подзадорил Телеусов.
Я нарочно повалял подольше в руках кусок бараньего бока, взятого из дому, и побрел вдоль берега. Вот и мост. Девственный снег покрывал старые следы барса, когда он перешел на эту сторону до снегопада. Семь шагов сделал я по опасной переправе, мост скрипуче зашатался, в черную воду полетели пушистые лохмотья снега с перильцев. Дальше идти побоялся, положил мясо и, пятясь задом, сошел с хрупкого сооружения.
— С перевала увидим, раньше он побоится выйти, — сказал Телеусов, уже успевший оседлать коней.
Часа полтора мы карабкались наверх и, вконец измученные, остановились на верхней площадке рядом с мокрыми лошадьми. И сразу взялись за бинокли.
Каково же было наше удивление и радость, когда мы увидели барса! Он стоял перед входом на мост, но неотрывно смотрел в нашу сторону. Видел, конечно: на фоне неба фигуры просматривались четко. Он почему-то лег на живот и все смотрел и смотрел. Потом чуть приподнялся и пополз по мосту, как кошка за мышью. Взял мясо без раздумья, капкана не боялся. Крутанувшись на месте, спрыгнул с мостика и, уже не обращая на нас внимания, тут же, на моих следах, стал жадно есть.
— Ну, убедился? — Алексей Власович смотрел геройски.
— Точно. Свой зверь. Дикий дальше некуда, а помнит добро.
Только вечером мы пришли в долину к своей хижине. Плотники уже беспокоились, хотя Телеусов предупредил их, когда уезжал.
До полудня другого дня не снимались, дали отдохнуть коням, отоспались сами и лишь тогда, проверив оружие и снаряжение, поехали через Лабенок. На войну.
Едва успели подняться на первый склон, как увидели зубров. На опушке длинной лесной поляны отдыхало три стада. Бурые обсохшие туши отлично виделись на снегу. Семьдесят три головы! Похоже, они только что спустились из лесу на горном склоне, тропы их пропахали снег по всему редколесью. Мы не вышли из густого грушняка, сторожко объехали стадо по-над ветром и подались к месту недавней драмы.
Свежий снег призакрыл следы разбойников, но Алексей Власович довольно скоро нашел тот скальный прижим, где, по его предположению, Лабазан — или тот, другой, что был с ним, — упал и расшибся, скатившись глубоко в расщелину, полную крупных камней. Истоптанная конскими копытами покатость, брошенные лыжи, поломанные кустарнички, какая-то тряпица, почерневшая кровь на камнях. Что же произошло здесь? Какая беда настигла преступников?
Кожевников бродил вокруг, наклонялся, исследуя каждый камень, каждый надлом и вмятину на снегу. Вот сюда два негодяя сбросили мешки с мокрой от крови шкурой или мясом. А вот там поймали понесшую было лошадь: ее напугал шум небольшой лавины, след которой мы увидели сбоку тропы. Возможно, что всадника сбросила не лошадь, а воздушная волна. Да, топтались две лошади и два человека. Второй не в седле, а вел груженого коня за повод. Ну, а дальше?
— Дальше, ребята, раненый стал добираться пешком, — сказал Кожевников. — Вот, смотрите, он кинжалом срубил себе осинку на костыли. Вот тут садился отдыхать, сам перевязывал рану, следов другого человека нету. По всему видать, нога сломана. Потом ему похудшело, уже не шел, а ползком полз.
— Куда же девался второй? — нетерпеливо спросил я.
— Уехал с обоими конями. След по распадку вправо, там тропа на юг, я ее знавал. Повез поклажу.
— Значит, бросил сообщника?
— Видать, бросил. Если только не по согласию.
— Вот это друг-приятель!..
— У всех мерзавцев один закон: собственную шкуру уберечь.
Теперь и под свежим снегом мы без труда находили канавку, проделанную раненым. Куда он хотел добраться? До своей пещеры? Но туда верст пятнадцать, если не больше, и первое время всё на подъем, через камни перевальчика. Здоровому и то трудно.
Мы шли гуськом, лошади в поводу, но винтовки на руке. До вечера оставалось немного, воздух налился призрачной синевой.
На перевальчике остановились, Телеусов пошел осмотреть спуск в долину, над которой стояла та самая гора с пещерами, черная от векового пихтарника. Егерь осторожно переходил от камня к камню и часто посматривал в бинокль.
Как ни осторожничал Алексей Власович, тот, кого мы искали, все-таки первым увидел его, скорее всего, потому, что перевальчик с двигающейся фигурой рисовался на синеватом фоне неба, тогда как долина и подножие горы уже закрылись сумерками. Громко и неожиданно снизу щелкнуло. Пуля ударилась о камень, из-за которого выглядывал егерь, и, срикошетив, тонко пропела, уходя в небо.
Телеусов живо присел, а повременив немного, снял шапку, повесил ее на ствол винтовки и высунул уже с другой стороны. Раздался второй выстрел, шапку сбило. Мы увидели, как Алексей Власович поднял ее и сокрушенно покачал головой: испортил хороший треух…
— Ну вот, отыскался вражина, — сказал он, вернувшись. — Живой еще, коли стреляет. Продырявил мне шапку, окаянный. И все ж таки он у нас в руках. Не убежит. Затаился где-то на опушке пихтарника, до пещер своих не долез. Там-то он поводил бы нас, поиграл! А теперь и костра не запалит: мишень хорошая. Поморозим его ночь или сразу пойдем?
Посовещавшись, решили, как стемнеет, пробраться лесом в тыл к бандиту, отрезать путь к пещерам, а там видно будет.
— Только вместях, ребята. Поодиночке он нас запросто… Будет стрелять на каждый шорох в лесу.
Оставив коней за перевалом, мы шагом рыси спустились в полной темноте к лесу, углубились в него и уселись поудобнее за пихтовыми стволами в десяти шагах друг от друга. Лабазан должен ползти в глубь леса и тем выдаст себя. Понимает, что за ним охотятся.
Ждали, пожалуй, до полуночи, глаза заболели от напряжения. Да и замерзли так, что терпения уже не хватало. Но в лесу ни шороха, ни звука. Где он? Ведь тоже без огня, не слаще, чем нам. Надо идти к опушке, маскируясь как можно ловчей. Так и пошли, останавливаясь, прислушиваясь.
Лишь когда начало светать, жадный ворон помог нам. Видимо, он с вечера заприметил неподвижного человека и чем свет прилетел проверить. Раз, другой, третий пролетел он над лесом, сужая круги, и наконец пропал. Сел. Мы пошли смелей и уверенней. Теперь знали — где. К живому человеку стервятник не сядет.
…Лабазан так и не сходил с места. Он привалился к стволу толстой пихты, выставил винтовку в ту сторону, откуда ждал нас, и замер. Голова его бессильно упала на грудь, натянув со спины туго завязанный башлык. Побелевший палец застыл на спусковом крючке. Дешево жизнь отдавать не собирался.
Ворон, топтавшийся на снегу чуть ли не в трех шагах от застывшего человека, молча взлетел и уселся на близкой сухой вершине. Он еще надеялся на поживу.
С двух сторон мы схватили браконьера за плечи. Кожевников выхватил винтовку. И тогда пленник открыл глаза. Туманно глянул на нас и обмяк. Потерял сознание.
По сухим веткам пихты застучал кинжал Телеусова. Чиркнула спичка. Снег полетел в стороны. Почти у самых ног Лабазана занялся костер. Лицо Алексея Власовича преобразилось. Сейчас оно выражало только жалость и сострадание к человеку, хотя этот человек чуть не убил его.
Пока огонь разгорался, мы усиленно растирали снегом руки, лицо, грудь пленника. Но очнулся он только в тот момент, когда я нечаянно тронул его ногу. Раздался долгий стон. Лабазан резко дернулся и опять свалился без памяти.
— Легче, Андрей! — с досадой прикрикнул на меня Телеусов.
Глоток водки привел браконьера в чувство, он уже более осмысленно глянул на каждого из нас и гортанно проговорил:
— Нога…
Мы видели его ногу. Открытый перелом бедра, почерневшая, неживая ступня. Гангрена. Сколько времени прошло с того момента, когда он вылетел из седла? Три дня? Четыре? Какую же силу воли надо иметь, чтобы уползти за десять верст от места катастрофы?!
Узкое, орлиное лицо Лабазана, грязное, темное от копоти и щетины, в короткой черной бороде, загорелось больным румянцем. Коченея на морозе, он тем самым как бы сдерживал естественное развитие гангрены. Костер, растирания и водка вернули к жизни его тело, и заражение крови ускорилось.
— Где твой приятель? — прогудел над ухом умирающего Кожевников.
— Проклятый гяур бросил меня! — неожиданно окрепшим голосом произнес Лабазан. — Аллах да проклянет неверного и потомков его!
— Кто, кто? — торопил Кожевников.
Лабазан не ответил. Он в упор смотрел на меня.
— Ты хотел моей смерти? — спросил он. — Но смерть сама была рядом с тобой…
— Ты стрелял в меня у ручья? — Теперь я допрашивал Лабазана.
— Моя пуля не проходит мимо. К ручью не ходил. За деньги не убиваю людей. — Он говорил туманно, непонятно.
— Кто же, кто стрелял?
Лабазан закрыл глаза. Не хотел говорить.
Догадка осенила меня. Схватив Лабазанову винтовку, я передернул затвор. Браконьер встрепенулся, поняв этот маневр по-своему. Он поднял голову, и в горящих глазах его я вдруг заметил гордую радость. Он жаждал смерти, достойной воина. Он думал, что я убью его. И с радостью принял бы смерть.
Выстрел раздался. Вскинутая вверх винтовка дрогнула, затвор открылся. Я поднял выпавшую гильзу и осмотрел пистон. Вмятина была точно в центре. Не из этой винтовки стреляли в меня.
— Что же ты, хранитель домбаев? — насмешливо спросил Лабазан. — Стреляй! Пошли мне пулю в сердце. Я убил за свою жизнь пятьдесят шесть… Не промахнулся бы… Я могу еще… — Речь его сделалась невнятной, глаза подернулись тоской.
— Давай его на носилки, — почему-то шепотом заторопил Алексей Власович. — Похоже, бредить зачал. Быстро, ребята!
Коней мы поставили на расстоянии сажени друг от друга. Телеусов привязал к седлам две длинные жерди. Между ними Кожевников проворно и ловко натянул бурку, потом плащ. Лабазану стало совсем плохо, он тяжело дышал, то и дело закрывал глаза, но, когда Алексей Власович наклонился к нему и спросил, как ехать к пещере, сумел объяснить. Мы подняли браконьера на импровизированные носилки. Боль в ноге он, похоже, уже не чувствовал. Кони гуськом тронулись через лес, я вел своего Алана позади, время от времени ощущая на себе горячечный, быстрый взгляд лезгина, жизнь которого кончалась без нашей на то вины. Впрочем, мысли такого рода были здесь лишними: не отомсти сама природа, то же самое сделали бы мы.
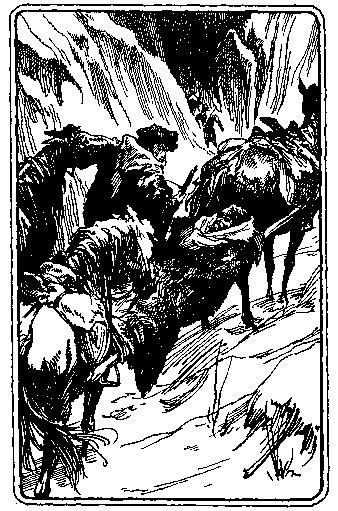
Кожевников нашел чуть видную тропу, она зигзагами шла наверх. Лабазан лежал головой вперед, умиротворенный, смирившийся с неизбежным. Он уже понял, что враги его не надругаются над ним, не бросят на съедение лисам.
Пещера открылась за густой можжевеловой зарослью — узкий, черный лаз в гору.
— Здесь? — спросил Телеусов.
— Нет, — слабо ответил Лабазан. — У старой сосны есть другая пещера, там я похоронил друга, русского. Там оставьте меня, здесь по ночам бродят тени убитых быков…
Оба егеря ушли искать пещеру Белякова. Мы с Лабазаном остались с глазу на глаз. Я подошел ближе.
— Доволен, джигит? — через силу спросил Лабазан. — Ты ведь шел убить меня?
— Я шел прогнать тебя, убивающего зубров. Мы хотели, чтобы ты ушел. Но мы могли убить тебя, ведь ты уже поднял руку…
— Зачем тебе домбаи?
— Они под защитой людей. Их очень мало на земле. Без нашей защиты они пропадут. Все до единого.
Лабазан как-то странно смотрел на меня. Не понял. Звери существуют для охоты — эту истину он знал с детства, впитал с молоком матери.
— Я тоже мог убить тебя, — тихо сказал он. — Из-за домбая… Ты не боялся смерти, такой молодой… Ты странный гяур. Ты смелый человек. У тебя смелые друзья. И сильные враги.
— Кто?..
— Я связан словом…
Вернулись егеря. Лабазан едва шевелил губами. Потом затих. Лицо его бледнело, какая-то странная синева наплывала со лба на щеки. Нос заострился.
Мы переглянулись. Кончается.
С носилок снимали уже мертвое тело.
А еще через час, оставив грешника в каменном склепе рядом с другим таким же грешником, мы вышли к сосняку у входа, посмотрели на светлое небо, на деревья, уже сбросившие с веток старый снег, и поняли, что вокруг жизнь, весна, а то, что произошло нынче, вот только что, — это печальный эпизод, горький случай, избавивший нас от тяжелой необходимости самим наказать врага Кавказа. Ведь мы охраняли жизнь в горах всей своей совестью, призванием, хотя и называлось это службой. Егерской службой.
Молча пошли к жилой пещере браконьера, осмотрели ее. Покойник довольствовался малым. Грязноватая постель, пробитая в камне печь, бурдюк с вином, много патронов, ножи, несколько выделанных ремней, запасная бурка и другая одежда. Копаясь в куче стреляных гильз, которые лезгин по-хозяйски собирал, я с удивлением увидел две блестящие, новенькие: пистоны у них были пробиты сбившимся на сторону бойком!
Вот оно, доказательство. Тот, кто жил с Лабазаном в последние дни, кто бросил его в ущелье, тот и стрелял в меня у ручья. Это его гильзы. Из его винтовки.
— Может, останемся, покараулим сообщника? — неуверенно предложил Телеусов.
— Он сюда не вернется, — сказал я. — Он убежден, что Лабазан погиб. Зачем идти на место преступления? Ведь бросить человека в таком положении — это все равно что убить самому.
— Неужто Семен? — вдруг воскликнул Телеусов.
— Семен был дома, в Псебае, — пробасил Кожевников. — Гулял у соседей с песнями-плясками. Ему можно гулять, он теперича при делах.
Винтовку Лабазана я приторочил к сумам. Особенная винтовка: на замусоленном, почерневшем ложе ее были вырезаны ножом пятьдесят шесть продолговатых зарубок.
3
Весна поднялась в горы.Лес в Умпырской долине стоял тихий, напоенный прорвавшимся наконец солнцем, надежно загороженный хребтами от северных ветров. Теплый воздух съедал ноздреватый снег. Стволы кленов и дубов обсохли, понизу вокруг них вытаяли воронки. Вербы и осины на берегу Лабенка заголубели от потянувшихся сережек.
Стук плотницких топоров весело и дробно разносился по лесной поляне. Большой рубленый дом с двумя входами вырос чуть ли не до последнего венца. Свежий сарай белел сбоку. Гора желтого грунта означала будущий колодезь. Так начинался поселок егерей.
Расспросы плотников и рассказы о Лабазане оборвала лишь поздняя ночь. Наутро мы договорились сделать обход южных отрогов и посчитать, если удастся, тамошних зубров. Телеусов уверял, что, кроме уже встреченного стада, в этом районе обитает еще три.
Дальнейшее показало, что Алексей Власович не ошибся. Нам удалось увидеть три плотных, на зиму сбившихся стада. Близко мы не подходили, да в том и надобности не было: голый лес проглядывался в бинокль достаточно хорошо. Глубокие порой быков в снегу походили на свежевзрытые окопы — так зубры прорывали снег в поисках ожины и старой травы.
Стада оказались на редкость организованными. В этих трех мы насчитали сто сорок девять голов, из них почти пятьдесят голов молодняка.
— Прибавь, Андрей Михайлович, еще три десятка быков в четвертом, не найденном стаде, — сказал Телеусов. — За три десятка ручаюсь.
Я принялся было считать, но вспомнил последнюю охоту, приключения в этой долине и запоздало спросил:
— Как ты умудрился, Алексей Власович, провести всю охоту через такое плотное звериное население, да так, что никто не взял ни одного зубра? Ведь бойню могли устроить!
— Запросто могли, — согласился он. — Один вид крупного зверя вытравляет у охотника все доброе-хорошее. Такую пальбу могли учинить, никакой запрет не остановит. Убить не всех убьют, а вот изранить могли. Да еще напужать, с пастбищ согнать. В страхе зубра бегит куда попало — в ущелье, в реку, с обрыва… Ну, вот я и повел, чтобы, значит, мимо. На одно стадо, как ты помнишь, мы все-таки наскочили. Это когда осечка у твово генерала вышла. Теперь-то могу как на духу: я тому виновник. С вечеру перед охотой взялся генералов маузер смазывать, маленько сахарку в масло допустил, оно и того… заело.
Посмеялись над хитрецом. Потом я сложил в своей тетрадке все записи, и вышло у меня, что в одна тысяча девятьсот одиннадцатом году, в апреле месяце, на территории Кубанской охоты находилось всего четыреста девяносто семь диких зубров.
— Не густо, как я понимаю, — подытожил Телеусов. — А все Лабазан с Чебурновым. Ну, один-то уже покойник, земля ему прахом, а вот Семка по лесу бродит. Да и брательник евонный… Пастухи еще с юга опасные, Гузерипль у нас без охраны.
Справившись с одной опасной задачей, мы понимали, что впереди таких задач несчетно. Если бы только Семен Чебурнов бродил по территории Охоты! В бесчисленных винтовках затворы спущены с предохранителя. Люди неспособны жалеть дикого зверя.
Дела звали меня в Псебай. Предстояло доложить Ютнеру о положении с зубрами, написать рапорт о смерти самого опасного браконьера, прочесть почту, если таковая была. Конечно, была! Я ждал новостей от Дануты, которая обещала встретиться с зоологами Академии наук и узнать, что там с прошением на высочайшее имя об установлении охранной зоны. Ждал ответа из Екатеринодара, куда посылал запрос без команды свыше, по собственному разумению. Если Охота перейдет станичным юртам, то в канцелярии наказного атамана должны заранее принять меры к защите животных, всей природы Кавказа. Я уж не говорю о беспокойстве, когда вспоминаю своих старых родителей.
— Я провожу тебя, Андрей, — предложил Телеусов с таким небрежным равнодушием, которое само по себе раскрывало заговор егерей — не оставлять меня одного в лесу: знали о выстреле. Никита Щербаков сказал, конечно.
— У тебя и своих хлопот достает, — ответил я.
— Ну, до мостка хотя бы, — смутился он. — Барса проведаем, мясца ему захватим. Оттуда я возвернусь, и мы с Василь Васильичем сбегаем на Кишу, оленей в пути высмотрим.
— Разве до мостка, — согласился я, любопытствуя, что у нас получится с этой нечаянной задумкой — подружиться с барсом.
Алан резво вынес меня на первую возвышенность, ведущую к перевалу. Телеусов поотстал, потом догнал и спросил:
— Заночуем где? На Черной речке или у мостка?
Хитрец, он знал, что поведение барса занимало меня не меньше, чем его. Пусть не под крышей и не в тепле, а под открытым небом, но зато рядом с барсом. Разве это не интересно?
Словом, остановились мы на недавней своей стоянке. Мостик обсох, снега на нем не было. На перильцах по-домашнему уютно сидела и вертела головой отчаянная птица оляпка, ныряльщик, водолаз, не боящаяся даже ледяного Лабенка.
Алексей Власович отвел лошадей на поляну, где солнечный припек уже растопил снег. Тут было тихо и безопасно — ни веток, ни скал, где могли укрыться волки или тот же барс. А мы спустились ниже и разожгли костер в сотне шагов от мостика.
— Приманим? — Телеусов разрубил на три части большой кусок баранины и, подумав, бросил один близко от костра, второй дальше, а третий положил на самый край мостика.
— Побоится. Не придет, — вздохнул я.
— А он живет здеся, это я тебе точно говорю. Поди, уже смотрит на нас из-под камней.
И правда, стоило мне только отойти от костра шагов на пять да попривыкнуть к темноте, как на той стороне я нашел глаза барса. Без боязни крикнул Телеусову, барс услышать не мог — река грохотала весенним громом, начисто забивая все звуки.
— Давай ближе к мосту сядем и подождем, — предложил Алексей Власович и, не таясь, передвинулся так, что до мяса на мосту оставалось всего шагов тридцать.
Почти час зверь следил за нами из темноты скалистого берега, вставал, ходил, светящиеся глаза его раза два приближались к мосту с той стороны, он хорошо нас видел и мясо, конечно, чуял, но ведь так страшно ступить на узкую переправу, в конце которой люди! Западня?.. Впрочем, те самые люди, которые выпустили его из железных лап капкана. Он колебался.
И вот решился. Мы увидели длинное тело, прижавшееся брюхом к доскам, низко опущенную голову. Он не сводил с нас горящих глаз, а мы сидели, разговаривали, смеялись, не обращали на него никакого внимания. Он подполз ближе, еще ближе, в мерцающем свете костра мы различали пятна на его шкуре. Остановился, приподнялся на ногах, и тут Алексей Власович громко сказал:
— Э-э, лапа-то у него… Смотри, кривая!
Голос не заставил барса сдвинуться с места. Да и как? Узкий мостик. Через несколько секунд стойки зверь протянул к мясу кривоватую, видно плохо сросшуюся, лапу, когтями подтянул к себе приманку. Задом, задом переполз мост, лег там и спокойно занялся ужином.
— Теперь уверовал, — сказал довольный Телеусов. — Слопает и придет за другим куском.
— Ему мимо нас пройти надо, — усомнился я.
— Пройдет, не побоится. Свои.
И правда, барс гораздо спокойнее перешел мост, чуть помедлил на выходе и, мягко прыгнув шагов на восемь, кошкой прошмыгнул на таком расстоянии от нас, что я мог достать его длинной палкой.
