Страница:
Слова эти, а может, и смысл, в них заключенный, немного охладили разъяренного полковника, но на меня он все еще смотрел строго-презрительными глазами: почему не выстрелил, не подстраховал? Я и сам не знал — почему.
Между тем Алексей Власович вынул из магазина патроны, осмотрел их, разобрал затвор и показал Шильдеру:
— Масла много, ваше превосходительство, извольте глянуть: полный ободок. Застарело. Ружьецо у вас отменное, только оно чистоту и сухость любит. А тут масло, да и воздух в горах дюже мокрый; бывает, что механизма не срабатывает. Вот на привале позвольте я отлажу вашу машинку, как часы будет. А пока протру хорошенько тряпицей, да и пойдем дальше, за добычей.
Шильдер молчал. Полное лицо его с двойным подбородком словно бы потемнело. Как он переживал неудачу! Без слова благодарности схватил маузер и пошел дальше.
Телеусов подмигнул мне, догнал полковника, потом опередил. Мы пошли гуськом, поднялись к березняку, и тут я понял, что зубров нам больше не видать. На границе лугов днем они не остаются. Телеусов наметил какой-то другой план. Какой?..
Минут через сорок Алексей Власович раздвинул орешник и глянул с уступа вниз. Мы тихо подкрались, вытянули шеи.
— Уж не знаю, как и назвать это, не иначе подарок… Вон туда смотрите, где два куста шиповника. — Он шептал в самое ухо Шильдеру.
Сбоку густого, как зеленый шар, куста выглядывала голова крупного оленя. А над головой ветвились чудесные, огромные рога матерого самца с многочисленными отростками, острые концы которых чуть-чуть светились.
У Шильдера, видать, зашлось сердце. Он вдруг сел и приложил руку к груди. Даже глаза закрыл. Представил себе эту величественную голову над столом в кабинете…
— Будете стрелить? Рогач спит, прогулял ночку, сердешный, намаялся. Во сне и примет смерть нестрашную… Отпустило, ваше превосходительство? Да вы не торопитесь, переведите дух, чтобы без суеты. Только тогда уж никакой надежды насчет зубра. На пять верст кругом зверя подымем.
Теперь Шильдер уже не обращался ко мне. Он лег поудобнее. Телеусов раздвинул ветки орешника, подсунул под ствол плоский камень, чтоб точнее, с упора.
Олень спал, свесив голову.
Раздался выстрел, резкий и сухой. Рогача подбросило едва ли не на три аршина над землей, он еще сумел сделать два прыжка через луг, но все это сгоряча. Ноги у него подкосились, он рухнул головой вперед, взрыл рогами землю и затих.
В дальнем конце луга мелькнули тенями несколько ланок. Тревожно закаркали вороны в пихтовом лесу. Сердито прокричала желна, отлетая подальше от опасного места.
Шильдер встал и перекрестился. Благодарил бога за удачное убийство? Или вымаливал себе прощение? Широким платком вытер он лоб, шею и в первый раз за весь день улыбнулся.
План Алексея Власовича удался. Где-то в этой долине остался жить обреченный зубр.
Мы спустились на луг, подошли к поверженному оленю. Он лежал, откинув голову.
Несколько минут Шильдер молча рассматривал жертву. Сказал, указывая пальцем на аккуратную дырочку в двух четвертях от передней лопатки:
— В сердце. И все-таки сделал два прыжка. Вот сила!
— Жить хотел, ваше превосходительство. Кто же не хочет? Всякая тварь бегит от смерти, да не всякая убегает.
— Разделывайте, — сухо приказал Шильдер. — Хоть не с пустыми руками вернемся. Найдут нас казаки?
— Непременно. Они на выстрел уже поспешают.
День перешагнул за обеденное время. Напротив высилась пологая гора с пикообразной скальной вершиной. Ее называли «Сергеев гай», там когда-то удачно охотился великий князь. По нашему берегу вдоль реки шла охотничья тропа с мостками и отсыпкой. Вероятно, назад мы поедем по этой тропе. Хоть дальше, но безопасней.
Когда подошли казаки, мы с Телеусовым почти уже сняли шкуру, отделили голову. Полковник лежал в стороне навзничь, подстелив под себя плащ и кафтан. Его глаза были устремлены в небо. Отдыхал, предвкушая триумф, когда заявится в лагерь с таким оленем.
Рога поверженного зверя просто удивляли. Между их концами было точно полтора аршина, двенадцать концов ветвились в короне. Как он носил их, бедняга, не запутываясь в лесу? Они-то и погубили его.
Уже горел костер, наскоро жарилось свежее мясо, чтобы подкрепиться перед дорогой. И вот тогда Шильдер сказал:
— Переночуем здесь, ребята. Что-то я очень устал.
Он все еще лежал. Казаки проворно натирали шкуру солью, обделывали голову. Вечерняя заря расцветила каменные вершины Цахвоа с ледником в глубоком цирке, белый хребет Больших Балкан и доверху зеленый Алоус. В природе опять разлился покой. Словно и не грохотал выстрел, и не пятналась трава сгустками крови.
Алексей Власович попросил разрешения отлучиться со мной, чтобы подняться повыше и осмотреть дальние увалы. Шильдер, не открывая глаз, сказал «да», и мы пошли в гору.
— Ты разумный человек, Алексей Власович, — начал я, желая как-то выразить ему благодарность за все происшедшее.
— Ну уж и разумный, — отозвался он. — Тут особого ума не надо. Зубров-то на белом свете все меньше и меньше. Каждый зверь на счету. По их следу смерть так и ходит. Принц положил одного — и будя! Мы с тобой сохранили другого, оленем расплатились — и то на душе теплей. Как гости уедут, думаешь, тихо сделается? Как бы не так! Ты здеся, а какой-нибудь Лабазан уже на Бомбаке с винтовочкой шарит. Ты бегом туда, а вот тута уже абхазцы с мушкетами зубров стерегут. Ведь что, гады, проделывают? Свалят зверя, из шкуры ремней нарежут, мяса того возьмут пуд-другой, рога отобьют, а остальное шакалам. Находил я такие клады.
— Зачем ремни-то?
— Пояса, понимаешь, делают и продают. Поверье у них старое: с таким поясом роженица-баба будто бы проще, легшее дитё рожает. Большие деньги за такой пояс берут! Ну, и рога, кубки, значит. В серебро отделают, полировку там аль еще как — князю своему с поклоном, тот рублей за такой подарок не жалеет. Нагайкой надо, а он одаривает, темный. Зубров все менее, им уж и дыхнуть негде, Умпырь-долина да Киша остались, ну, Молчепа еще, Абаго. Зажаты со всех концов.
— А что за Лабазан, я давно слышу…
— Этого черта так просто не словишь. Сам тебя норовит словить. Уж сколько годов по Охоте лазит. Хитер и ловок, как рысь. Не знаю, куда определит тебя Ютнер, но если б нам вдвоем супротив него, можно бы и отвадить. Не добром, так боем.
— Чебурнов не поможет?
Телеусов даже остановился и вдруг пальцем мне погрозил:
— Ты с ним осторожно, Андрей. Мозги у него крысиные. Продаст и перепродаст. Летось я предлагал: «Пойдем, Семен, словим Лабазана и накажем». Юлил, юлил и вывернулся, не захотел. У Семена сердце жестокое, деньгу страсть как любит. Ванька у него, брательник, такой же. И вот, на должности…
Мы вскарабкались на останец; высоты в нем было саженей сто, не менее. И огляделись.
Солнце уже не заглядывало в долину, лучи скользили только по верхушкам гор. Далеко на востоке горели красным две шапки Эльбруса. Еще дальше смутно рисовался в небе Казбек. Глаз ухватывал горы на много верст. Дух захватывало от широкого, многоцветного вида. Позади горбился близкий и высокий хребет Псеашхо. На его зубчатых скалах перебегали видимые отсюда туры.
Телеусов очень осторожно вынул из своего вещевого мешка аккуратно завернутый бинокль, сдул с него пыль, протер стекла мягкой тряпочкой и только тогда приставил к глазам. Бинокль был старый, потертая медь на нем блестела, егерь относился к «инструменту», как называл он его, с величайшим уважением.
Он долго разглядывал хребты и долины по сторонам Сергеева гая, потом опустил бинокль и вздохнул:
— Душа у меня неспокойна, парень. Мы тут ходим с их высочествами, а на Белой и Кише никакой охраны. То-то взыграли теперь охочие до разной дичины казаки из предгорных станиц! Уж они-то попользуются моментом, это точно. Вот и сейчас дымок в той стороне нащупал. Кто такой? Зачем костер в лесу? Уж скорее бы охота съехала, чтоб своим делом заняться! Ты с принцем ходил, ничего такого он не говорил — когда собираются до дому?
— И намека не было.
— А тут погода, понимаешь, как нарочно. Хоть бы хмару на горы накинуло. Живо побежали бы отселева.
Он опять вздохнул, затем принялся вытирать бинокль, завернул, завязал его и уложил в мешок.
Быстро темнело. Мы стали спускаться.
— Эх, зря фонарь не взяли! Хоть ощупкой лезь! — И юзом, не жалея штанов, спустился по осыпи, в конце которой лежала вывернутая с корнем сосна.
Я поехал следом.
Возле сосны Телеусов присмотрелся, топориком нарубил обсохших корней, расщепил их, связал пучок толщиной в руку и с аршин длиной, запалил конец и победно поднял яркий факел повыше. Тьма расступилась, под ногами стало видней.
Пошли скорее, а когда вошли в редкий лес, то в недвижном воздухе факел засветился еще ярче.
Впереди на корявом грабе в этом свете блеснули два круглых зеленых глаза.
— Кто там? — я снял с плеча винтовку.
— Поди хозяин здешний, барс. Не бойся, Андрей, на огонь он не бросится. Он редко когда человека задевает. Ну, если уж на дороге встренет или обижен чем. А так у него к сернам да к волкам все больше аппетит.
— К волкам?..
— Первое для барса пищевое удовольствие. Думаешь, кто прореживает в горах этих хищников? Наш брат егеря? Как бы не так! Барсы. Это по их части. Вот и посуди, враг он природе али друг. Только их в Охоте, барсов-то, раз, два — и обчелся. Вот здеся да еще на Балканах, там на перевале след попадается. Более нигде. Шкура, понимаешь, больно красивая. И не силой перевели, а хитростью. Капканами разными, а то и просто петлей.
Факел еще не догорел, а мы уже приблизились к своему временному лагерю.
Для полковника казаки поставили шалаш из пихтовых веток. Кони паслись расседланные, но не спутанные. Зачем их путать, если они и без того не отходили от костра. Из лесу на них то и дело накатывались страшные запахи медведя, барса, волков. Только и есть защита — человек с огнем.
Шильдер сидел у костра на корточках и ужинал, ножом счищая с самодельного шампура зажаренные с луком куски оленьего мяса. Перед ним стояла бутылка с французской наклейкой и серебряный бокал. Он часто прикладывался к нему и, может быть, потому встретил нас приветливо:
— Садитесь, лесники, шашлыков много и вот попробуйте — бургундское. Эй!..
Денщик подскочил, в руках у него появились две медные кружки, непривычно высокие и узкие, и еще одна бутылка. Кружки тотчас наполнились.
— За удачу, ребята! — Полковник поднял свой бокал. — И чтобы не последний!..
Мы выпили, я — до дна, с удовольствием, а Телеусов только пригубил и равнодушно поставил вино.
— Ты что это? — сурово спросил Шильдер. — Такое вино!..
— Не потребляю, ваше превосходительство.
— Старообрядец, что ли?
— Никак нет.
— Тогда какому же ты богу молишься, лесник? Если православный, то не запрещается. «Веселие Руси в питие есть…» — так пишется в старинных книгах. Сам святой Владимир, первый на Руси христианский князь, на своих пирах пример показывал.
— Я тоже, ваше превосходительство, крещен и в христианской семье родился, а вот раз уж вы спросили, какому богу верю, то, по правде сказать, вот этому, самому великому… — и широким жестом обвел вокруг себя.
— Черт знает что! — пробормотал Шильдер. — Это как же тебя понимать, казак? Кто великий-то? Весь мир? Природа?
— Угадали, ваше превосходительство, она самая. Уж верней ее, красивше и правдивей ничего на свете не сыщешь. Поклоняюсь с тех самых пор, как познал. Верую, гляжу не нагляжусь, сберечь стараюсь.
Шильдер вдруг захохотал:
— Пантеист[1]. Японец на Кавказе! Последователь Спинозы! Вот уж не ожидал! Русский человек в княжеской Охоте — и с такой религией! Ну, братец, не смеши. И никому больше не говори, если ты всерьез. Природа — природой, а вера — верой. Ты хоть иконы-то признаешь?
— А как же! И в церкву хожу. И дитё у меня крещеное, и супруга. А вот душа ищет — ищет главное и находит токмо в природе. Я с детства в лесах, ваше превосходительство, может, потому и врос в свое теперешнее понятие.
— Ладно, пантеист или еще там как, но в какой-то мере я понимаю тебя. Иной раз сам готов перед такой красотой на колени стать. Сижу вот один, пью и за погубленного красавца оленя переживаю. Понимаю, что плохо, кровавая охота, а пересилить себя не могу, руки к маузеру так и тянутся. Христианин! — Это слово он произнес с некоторой издевкой, тут же глянул на бутылку, резко перевернул ее над своим бокалом, так что вино плеснулось через край, и, бороду запрокинув, выпил до дна. На меня посмотрел: — Что не пьешь, студент?..
Я послушно выпил.
— Ну, а песню ты можешь, лесник? Должен уметь, раз красоте поклоняешься. — Он смотрел на Телеусова как-то иначе, чем до этого разговора. Уважительнее, что ли.
Алексей Власович не ответил, уселся поудобнее, подумал и тихо, словно для одного себя, запел. Чем дальше, тем проникновенней, от души:
Я рад тому, что сердце ясно
Во мраке светом расцвело,
Что весть о радости живую
Я всем живым с улыбкой шлю.
Я рад тому, что здесь живу я,
Что землю и тебя люблю…
Казаки подошли к егерю. И хотя мелодия была им знакома, слов они не знали, ждали, когда начнет другую, чтобы подхватить. Это была импровизация на стихи Семена Астрова, известные в Петербурге. Телеусов умолк, извинительно улыбнулся казакам и приятным тенорком запел казацкую песню о разлуке с невестой. Мы все подхватили, полковник тоже, песня вышла хорошая, за сердце берущая.
Ближе подтянулись кони. Их милые морды с влажными глазами, в которых плясало отраженное пламя, свесились, уши стояли торчком.
Кончили песню. Шильдер встал, и мы все встали. Хмельной, он подошел к Алексею Власовичу, молча похлопал его по плечу, словно отпуская грехи, молча отошел, снял кафтан и полез в свой шалаш.
Мы завернулись в бурки и мгновенно уснули.
Справа гремел Лабёнок, но мы его не видели. Было часов пять, не больше. Позади осталась прекрасная долина. Впереди стояли высокие Балканы. Тропа стала отходить от реки, шум воды стихал. Подъем делался все круче. По лошадиным бокам хлестали ветки густого и мокрого жасмина. Трудно в такую погоду понять, какой начинается день — ветреный или дождливый.
Лишь когда поднялись достаточно высоко, воздух стал очищаться. Туман пошел хвостами, впереди в небе проглянула белокаменная, почти доверху одетая в зелень гора. Она уходила по левую руку в далекую бескрайность, тогда как в правой стороне твердь вдруг обрывалась отвесной стеной. А в сотне саженей от обрыва, уже на другом берегу реки, почти так же отвесно в небо подымалась другая гора. Весь ее бок редкими пятнами покрывали сосенки и густолистый боярышник. Знаменитое ущелье на Малой Лабе, зеленая вода которой клокотала в бездне, скрытой ползучим туманом.
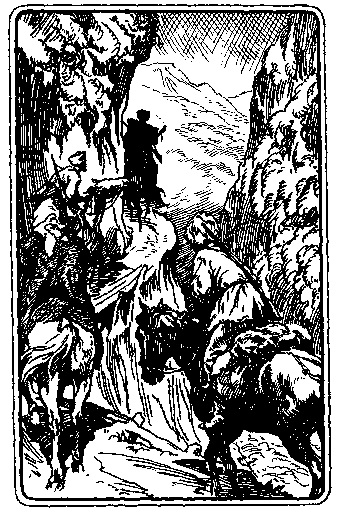
На самом верху спешились, дали коням отдышаться после затяжного подъема. Шильдер смотрел по сторонам, лицо у него было задумчивое. Потом уставился на Телеусова. Хотел понять, что ли…
Алексей Власович тем временем осмотрел подковы у лошадей, покачал головой. Стерлись не только шипы. От толстой ободины остались лишь блестящие тонюсенькие полосочки.
Спускались, ведя лошадей в поводу, скользили по мокрому камню, хватались за кусты. Кони похрапывали, боялись. Наконец тропа подвела к самой реке и стала мягче.
Впереди послышались голоса, из-за поворота резво выскочили два всадника на легких, озорных лошадях.
— Вот они! — радостно закричал передний.
Это были казаки из лагеря, посланные искать нашу группу. Перебросившись десятком слов и убедившись, что в помощи мы не нуждаемся, разведчики развернулись на узкой тропе и поскакали назад.
Шильдер приосанился в седле: представил себе, как его встретят на княжеском бивуаке. Караван пошел быстрей.
Через какое-то время сделали привал, чтобы наскоро поесть и дать передышку коням.
Ополаскивая лицо у Лабенка, я обратил внимание на тонкую полосу вдали над рекой.
— Что там? — спросил я у Телеусова.
— Висячий мостик для перехода. Мы через него на Белую ходим. Одна такая переправа, считай, на полсотни верст. Счас мы с тобой сходим до этого мостика.
Он попросил разрешения у полковника.
— Зачем? — поинтересовался тот и вынул из кармана часы, чтобы напомнить о времени. Он хотел успеть до вечера.
— Барса надо глянуть, ваше превосходительство.
— Глянуть? Может, стрельнуть собираешься?
Он спрашивал с затаенной надеждой. Еще бы! К оленю — да красивую шкуру дикой кошки…
— Ни в коем разе! — как-то даже испуганно ответил Телеусов. — Мы их сберегаем, барсов-то. Полезный хичник, волков убивает. На этом мостике ихний переход, переправа, значит. Они плавать не охочи, как и все кошки, да еще в такой реке. А на другой берег нужда есть переправиться, вот по этому мостику и ходят, даже следа человеческого не боятся. Тут злодеи ухитряются на барса ловушки ставить. Я не один раз капканы сбрасывал. Не токмо барс — наш брат егерь попасть может. Думаю, и теперь что-нибудь есть, давно не проверял.
— Изволь. Но скорей!
Когда мы вдвоем подошли к мостику, в кустах на той стороне кто-то шибко завозился. Телеусов остро глянул на меня:
— Попался зверь…
Мостик был из тех, какие заставляют подумать, прежде чем ступить на него. Да еще если опасный зверь на самом сходе. Тонкие поперечные доски в шесть четвертей длины неплотно были привязаны к двум железным канатам, покрытым густой черной ржавью. Выше настила — в пояс человеку — тянулись два более тонких каната, редко сплетенных смоляными веревками с самим мостом, нечто вроде перильцев. А внизу, на расстоянии семи или восьми саженей, под шатким переходом бесилась пенная вода, плевалась на береговые камни. Попасть в нее — все равно что сигануть в могилу.
Похожий на длинную люльку мост тихонько покачивался.
— Вот что, браток, — сказал Телеусов. — Вставай к тому камню и бери на мушку самой куст, а я буду переходить. Ежели что — сам понимаешь…
— А кто там может быть?
— Не видать отсюдова, на земле лежит. Какой-то зверь. Ладно, если волк или лиса. А ну как барс? Да пусть кто хошь. Выручать надо.
Повесив винтовку под руку, плотнее нахлобучив картуз, он ступил на шаткое сооружение.
Куст снова задергался. Я взял его на прицел.
Телеусов двигался осторожно, все время сбивал шаг чтобы не очень раскачивать мост, и обеими руками держался за поручни. Куст шевелился непрестанно. Я увидел, как Телеусов остановился, снял винтовку, положил ее, ненужную помеху в ближней схватке, на доски моста, вынул кинжал и одним прыжком очутился на том берегу немного правее куста. Никто не выскочил, не напал на него. Егерь медленно выпрямился, так же медленно сделал два шага назад и за ствол потянул к себе винтовку.
Махнул мне: иди сюда.
Не без страха переходил я реку. Кружилась голова, мостик раскачивался и, казалось, вот сейчас рухнет в пропасть. Последние две или три сажени я шел зажмурившись, до боли сжимая в ладонях холодное железо гибких перильцев.
Телеусов взял меня за рукав. Я открыл глаза. Вот тогда и раздался низкий басовитый рев, закончившийся жалобно-грозным высоким мяуканьем.
В поломанном кусту боярышника, странно изогнувшись, лежал барс.
Зверь, которого я видел впервые.
— Капкан, — сказал Телеусов. — И сколько он здеся мучается, бедолага, никто того не ведает. Однако силенка еще есть, вишь, как голос подает. Вовремя мы с тобой заявились!
Он говорил, а сам уже готовился к действиям. Кинжалом срубил тесину в руку толщиной и аршина на два по длине. Потом свалил сосенку чуть тоньше, обрезал ветки, и получился шест еще более длинный.
Я стоял и смотрел на поверженного барса.
Железные зубья капкана, привязанного к пеньку прямо на сходе с моста, захватили левую переднюю лапу барса. Пытаясь вырваться, зверь кружился вокруг капкана, изломал и изгрыз все ветки, бесконечно падал, вставал и сейчас лежал свернутым комом, не спуская с нас круглых желтых, беспощадно ярких глаз, готовый достойно принять смерть, которая была, как он понимал, уже рядом.

Светло-желтая на брюхе и по горлу шерсть его, мягкая даже на вид, коричневела по бокам, на спине, на длинном и сильном хвосте, который резко ходил из стороны в сторону. И всюду по телу — где рядками, где безо всякого порядка — чернели кружочки, напоминая две толстенькие, сведенные вместе запятые. Мелкие и крупные пятна эти на коричневом фоне так удачно сливались с землей, покрытой листом, хвоей, мелкозёмом, что, лежи барс тихо, упрячь глаза, — и можно было пройти мимо, даже переступить.
Мускулистое, крепкое тело ощущалось под пятнистой шкурой. Короткие ноги казались толстыми и щетинились отполированными вершковыми когтями. Круглая, сверху приплюснутая голова с ощеренной пастью, в которой скалились два ряда разновеликих клыков, олицетворяла собой ярость, зло, готовность к бою, беспощадность. Звериное выражали и глаза и прижатые уши. Барс тяжело дышал, тело его напряженно подрагивало. Не дешево отдаст свою жизнь!
— Значит, так, — сказал Телеусов, передавая мне длинную сосновую жердь. — Заходи отселева, становись за кустом. Видишь ту железяку? Там сбоку в ней замок, во-он планочка долгонькая. Я буду отвлекать его, чтоб тебе не помешал, а ты упрись шестом в эту планочку и со всей силы нажми. Зубья разойдутся на момент, и зверь вытащит ногу.
— На тебя бросится…
— Ну и ладно. У меня тоже дрын. Закроюсь, не достанет. Ежели что, ты на подмогу ко мне с шестом. А там видно будет. Он все-таки ослабел, нога-то занемела, не больно прыток.
Телеусов крепче запахнул на себе кафтан, поплевал на ладошки, как перед работой, и далеко обошел зверя с другой стороны. Барс косил глазом на меня, полускрытого кустом, и в то же время пристально наблюдал за Телеусовым, щерил усатый рот и шипел по-змеиному.
Алексей Власович подошел ближе, протянул шест прямо к пасти. Барс цапнул по дереву свободной лапой и, вцепившись зубами, с остервенением начал грызть, брызгая слюной и давясь.
Я нащупывал планку замка. Шест скользил по ней. Пришлось подвинуться ближе. Барс вскинулся, ударил лапой по шесту, и я едва удержался.
— Спокойно, Андрей. — Телеусов опять отвлек барса, ширнув его по шее.
Острые зубы впились в дерево, полетели щепки.
Изо всей силы я нажал наконец на шест; почувствовал, как планка подалась, затем палка опять скользнула. Но в это мгновение зубья капкана все-таки ослабли, лапа барса выскочила. Зверь, привыкший тянуть ее, от неожиданности упал на спину, перевернулся и, ловко оттолкнувшись от земли, подскочил к Телеусову. Тот успел выставить палку перед лицом. Правая лапа зверя лишь слегка коснулась уха и щеки егеря. В следующую секунду барс и сам повалился на землю — больная лапа подвела его. И снова, уже лежа, он обратился к нам оскаленной пастью. Добивайте…
Прошло несколько безмолвных секунд. Мы не спускали взгляда с готового к броску зверя. Желтыми глазами он гипнотизировал нас.
— Царапнул все же, глупый, — тихонько сказал Телеусов и ладонью вытер кровь, закапавшую из разодранного уха. — Ну, беги, ловкач, никто тебя не держит. Беги куда хошь и помолись своему богу, что первыми сюда пришли не хозяева капкана.
Барс не трогался с места. И шипеть перестал. Телеусов сел на камень, достал из кармана платок и приложил к уху. Барс сообразил, что эта поза менее угрожающая, и лег поудобнее, скосив глаза на левую лапу, все еще чужую, непослушную.
— Ты глянь, уже догадался, что мы плохого ему не сделаем, — зашептал Телеусов. — Не торопится, бродяга.
Освобожденный зверь вдруг закрыл глаза. Морда его упала на лапы. Мгновение темноты, слабость. Он сейчас же очнулся, лизнул больную лапу, глянул на нас другими, не бешеными, а просто настороженными глазами и стал пятиться.
— Иди, гуляй шибче, милок. Не тронем, — спокойно промолвил Алексей Власович и засмеялся. — Вставай на лапы, не страшись. Чего брюхом землю скоблишь? Топай смелей!
Барс словно понял эти слова, осторожно встал, но левую переднюю тут же поджал. Болит. Или вывихнута. Посмотрел на нас выжидательно. Еще попятился, теперь только на трех ногах, ушел сажени на четыре, постоял, оценивая обстановку, и пошел на гору так, чтобы все время держать нас в поле зрения.
Мы смотрели на него и — ей-богу! — нам обоим показалось, что барс все понимает. Он несколько раз останавливался, как-то раздумчиво глядел в нашу сторону. Уж не собирался ли вернуться и лизнуть руку Алексея Власовича, поблагодарив за освобождение, а заодно и выразив сочувствие по поводу оцарапанных щеки и уха?.. Нет, не вернулся. Но ушел без боязни.
Телеусов хмыкнул:
— Теперь ляжет недалече зализывать рану. А заодно и нас высматривать, пока не уйдем за реку да с глаз долой. Но и тогда не перестанет следить.
— А как он смотрел, Алексей Власович!
— Понятие у зверя есть. Сперва решил, что убивать пришли, а оно вишь как обернулось.
— Только вот лапа у него…
— Да-а… Так и на трех могёт остаться. Ну, я думаю, и на трех не пропадет. Ловок в охоте. Он ведь не очень бегает за другим зверем. Все больше скрадывает, подкарауливает, чтоб наверняка. Заберется на дерево, вытянется над тропочкой, где косули ходят или волки бегают, и будет ждать хоть бы всю ночь. Молнией упадет сверху — и все. Конечно же, на трех-то хужее, но прожить проживет. Семью он не признает, сам себя кормит. Проще ему жить.
Между тем Алексей Власович вынул из магазина патроны, осмотрел их, разобрал затвор и показал Шильдеру:
— Масла много, ваше превосходительство, извольте глянуть: полный ободок. Застарело. Ружьецо у вас отменное, только оно чистоту и сухость любит. А тут масло, да и воздух в горах дюже мокрый; бывает, что механизма не срабатывает. Вот на привале позвольте я отлажу вашу машинку, как часы будет. А пока протру хорошенько тряпицей, да и пойдем дальше, за добычей.
Шильдер молчал. Полное лицо его с двойным подбородком словно бы потемнело. Как он переживал неудачу! Без слова благодарности схватил маузер и пошел дальше.
Телеусов подмигнул мне, догнал полковника, потом опередил. Мы пошли гуськом, поднялись к березняку, и тут я понял, что зубров нам больше не видать. На границе лугов днем они не остаются. Телеусов наметил какой-то другой план. Какой?..
Минут через сорок Алексей Власович раздвинул орешник и глянул с уступа вниз. Мы тихо подкрались, вытянули шеи.
— Уж не знаю, как и назвать это, не иначе подарок… Вон туда смотрите, где два куста шиповника. — Он шептал в самое ухо Шильдеру.
Сбоку густого, как зеленый шар, куста выглядывала голова крупного оленя. А над головой ветвились чудесные, огромные рога матерого самца с многочисленными отростками, острые концы которых чуть-чуть светились.
У Шильдера, видать, зашлось сердце. Он вдруг сел и приложил руку к груди. Даже глаза закрыл. Представил себе эту величественную голову над столом в кабинете…
— Будете стрелить? Рогач спит, прогулял ночку, сердешный, намаялся. Во сне и примет смерть нестрашную… Отпустило, ваше превосходительство? Да вы не торопитесь, переведите дух, чтобы без суеты. Только тогда уж никакой надежды насчет зубра. На пять верст кругом зверя подымем.
Теперь Шильдер уже не обращался ко мне. Он лег поудобнее. Телеусов раздвинул ветки орешника, подсунул под ствол плоский камень, чтоб точнее, с упора.
Олень спал, свесив голову.
Раздался выстрел, резкий и сухой. Рогача подбросило едва ли не на три аршина над землей, он еще сумел сделать два прыжка через луг, но все это сгоряча. Ноги у него подкосились, он рухнул головой вперед, взрыл рогами землю и затих.
В дальнем конце луга мелькнули тенями несколько ланок. Тревожно закаркали вороны в пихтовом лесу. Сердито прокричала желна, отлетая подальше от опасного места.
Шильдер встал и перекрестился. Благодарил бога за удачное убийство? Или вымаливал себе прощение? Широким платком вытер он лоб, шею и в первый раз за весь день улыбнулся.
План Алексея Власовича удался. Где-то в этой долине остался жить обреченный зубр.
Мы спустились на луг, подошли к поверженному оленю. Он лежал, откинув голову.
Несколько минут Шильдер молча рассматривал жертву. Сказал, указывая пальцем на аккуратную дырочку в двух четвертях от передней лопатки:
— В сердце. И все-таки сделал два прыжка. Вот сила!
— Жить хотел, ваше превосходительство. Кто же не хочет? Всякая тварь бегит от смерти, да не всякая убегает.
— Разделывайте, — сухо приказал Шильдер. — Хоть не с пустыми руками вернемся. Найдут нас казаки?
— Непременно. Они на выстрел уже поспешают.
День перешагнул за обеденное время. Напротив высилась пологая гора с пикообразной скальной вершиной. Ее называли «Сергеев гай», там когда-то удачно охотился великий князь. По нашему берегу вдоль реки шла охотничья тропа с мостками и отсыпкой. Вероятно, назад мы поедем по этой тропе. Хоть дальше, но безопасней.
Когда подошли казаки, мы с Телеусовым почти уже сняли шкуру, отделили голову. Полковник лежал в стороне навзничь, подстелив под себя плащ и кафтан. Его глаза были устремлены в небо. Отдыхал, предвкушая триумф, когда заявится в лагерь с таким оленем.
Рога поверженного зверя просто удивляли. Между их концами было точно полтора аршина, двенадцать концов ветвились в короне. Как он носил их, бедняга, не запутываясь в лесу? Они-то и погубили его.
Уже горел костер, наскоро жарилось свежее мясо, чтобы подкрепиться перед дорогой. И вот тогда Шильдер сказал:
— Переночуем здесь, ребята. Что-то я очень устал.
Он все еще лежал. Казаки проворно натирали шкуру солью, обделывали голову. Вечерняя заря расцветила каменные вершины Цахвоа с ледником в глубоком цирке, белый хребет Больших Балкан и доверху зеленый Алоус. В природе опять разлился покой. Словно и не грохотал выстрел, и не пятналась трава сгустками крови.
Алексей Власович попросил разрешения отлучиться со мной, чтобы подняться повыше и осмотреть дальние увалы. Шильдер, не открывая глаз, сказал «да», и мы пошли в гору.
— Ты разумный человек, Алексей Власович, — начал я, желая как-то выразить ему благодарность за все происшедшее.
— Ну уж и разумный, — отозвался он. — Тут особого ума не надо. Зубров-то на белом свете все меньше и меньше. Каждый зверь на счету. По их следу смерть так и ходит. Принц положил одного — и будя! Мы с тобой сохранили другого, оленем расплатились — и то на душе теплей. Как гости уедут, думаешь, тихо сделается? Как бы не так! Ты здеся, а какой-нибудь Лабазан уже на Бомбаке с винтовочкой шарит. Ты бегом туда, а вот тута уже абхазцы с мушкетами зубров стерегут. Ведь что, гады, проделывают? Свалят зверя, из шкуры ремней нарежут, мяса того возьмут пуд-другой, рога отобьют, а остальное шакалам. Находил я такие клады.
— Зачем ремни-то?
— Пояса, понимаешь, делают и продают. Поверье у них старое: с таким поясом роженица-баба будто бы проще, легшее дитё рожает. Большие деньги за такой пояс берут! Ну, и рога, кубки, значит. В серебро отделают, полировку там аль еще как — князю своему с поклоном, тот рублей за такой подарок не жалеет. Нагайкой надо, а он одаривает, темный. Зубров все менее, им уж и дыхнуть негде, Умпырь-долина да Киша остались, ну, Молчепа еще, Абаго. Зажаты со всех концов.
— А что за Лабазан, я давно слышу…
— Этого черта так просто не словишь. Сам тебя норовит словить. Уж сколько годов по Охоте лазит. Хитер и ловок, как рысь. Не знаю, куда определит тебя Ютнер, но если б нам вдвоем супротив него, можно бы и отвадить. Не добром, так боем.
— Чебурнов не поможет?
Телеусов даже остановился и вдруг пальцем мне погрозил:
— Ты с ним осторожно, Андрей. Мозги у него крысиные. Продаст и перепродаст. Летось я предлагал: «Пойдем, Семен, словим Лабазана и накажем». Юлил, юлил и вывернулся, не захотел. У Семена сердце жестокое, деньгу страсть как любит. Ванька у него, брательник, такой же. И вот, на должности…
Мы вскарабкались на останец; высоты в нем было саженей сто, не менее. И огляделись.
Солнце уже не заглядывало в долину, лучи скользили только по верхушкам гор. Далеко на востоке горели красным две шапки Эльбруса. Еще дальше смутно рисовался в небе Казбек. Глаз ухватывал горы на много верст. Дух захватывало от широкого, многоцветного вида. Позади горбился близкий и высокий хребет Псеашхо. На его зубчатых скалах перебегали видимые отсюда туры.
Телеусов очень осторожно вынул из своего вещевого мешка аккуратно завернутый бинокль, сдул с него пыль, протер стекла мягкой тряпочкой и только тогда приставил к глазам. Бинокль был старый, потертая медь на нем блестела, егерь относился к «инструменту», как называл он его, с величайшим уважением.
Он долго разглядывал хребты и долины по сторонам Сергеева гая, потом опустил бинокль и вздохнул:
— Душа у меня неспокойна, парень. Мы тут ходим с их высочествами, а на Белой и Кише никакой охраны. То-то взыграли теперь охочие до разной дичины казаки из предгорных станиц! Уж они-то попользуются моментом, это точно. Вот и сейчас дымок в той стороне нащупал. Кто такой? Зачем костер в лесу? Уж скорее бы охота съехала, чтоб своим делом заняться! Ты с принцем ходил, ничего такого он не говорил — когда собираются до дому?
— И намека не было.
— А тут погода, понимаешь, как нарочно. Хоть бы хмару на горы накинуло. Живо побежали бы отселева.
Он опять вздохнул, затем принялся вытирать бинокль, завернул, завязал его и уложил в мешок.
Быстро темнело. Мы стали спускаться.
— Эх, зря фонарь не взяли! Хоть ощупкой лезь! — И юзом, не жалея штанов, спустился по осыпи, в конце которой лежала вывернутая с корнем сосна.
Я поехал следом.
Возле сосны Телеусов присмотрелся, топориком нарубил обсохших корней, расщепил их, связал пучок толщиной в руку и с аршин длиной, запалил конец и победно поднял яркий факел повыше. Тьма расступилась, под ногами стало видней.
Пошли скорее, а когда вошли в редкий лес, то в недвижном воздухе факел засветился еще ярче.
Впереди на корявом грабе в этом свете блеснули два круглых зеленых глаза.
— Кто там? — я снял с плеча винтовку.
— Поди хозяин здешний, барс. Не бойся, Андрей, на огонь он не бросится. Он редко когда человека задевает. Ну, если уж на дороге встренет или обижен чем. А так у него к сернам да к волкам все больше аппетит.
— К волкам?..
— Первое для барса пищевое удовольствие. Думаешь, кто прореживает в горах этих хищников? Наш брат егеря? Как бы не так! Барсы. Это по их части. Вот и посуди, враг он природе али друг. Только их в Охоте, барсов-то, раз, два — и обчелся. Вот здеся да еще на Балканах, там на перевале след попадается. Более нигде. Шкура, понимаешь, больно красивая. И не силой перевели, а хитростью. Капканами разными, а то и просто петлей.
Факел еще не догорел, а мы уже приблизились к своему временному лагерю.
Для полковника казаки поставили шалаш из пихтовых веток. Кони паслись расседланные, но не спутанные. Зачем их путать, если они и без того не отходили от костра. Из лесу на них то и дело накатывались страшные запахи медведя, барса, волков. Только и есть защита — человек с огнем.
Шильдер сидел у костра на корточках и ужинал, ножом счищая с самодельного шампура зажаренные с луком куски оленьего мяса. Перед ним стояла бутылка с французской наклейкой и серебряный бокал. Он часто прикладывался к нему и, может быть, потому встретил нас приветливо:
— Садитесь, лесники, шашлыков много и вот попробуйте — бургундское. Эй!..
Денщик подскочил, в руках у него появились две медные кружки, непривычно высокие и узкие, и еще одна бутылка. Кружки тотчас наполнились.
— За удачу, ребята! — Полковник поднял свой бокал. — И чтобы не последний!..
Мы выпили, я — до дна, с удовольствием, а Телеусов только пригубил и равнодушно поставил вино.
— Ты что это? — сурово спросил Шильдер. — Такое вино!..
— Не потребляю, ваше превосходительство.
— Старообрядец, что ли?
— Никак нет.
— Тогда какому же ты богу молишься, лесник? Если православный, то не запрещается. «Веселие Руси в питие есть…» — так пишется в старинных книгах. Сам святой Владимир, первый на Руси христианский князь, на своих пирах пример показывал.
— Я тоже, ваше превосходительство, крещен и в христианской семье родился, а вот раз уж вы спросили, какому богу верю, то, по правде сказать, вот этому, самому великому… — и широким жестом обвел вокруг себя.
— Черт знает что! — пробормотал Шильдер. — Это как же тебя понимать, казак? Кто великий-то? Весь мир? Природа?
— Угадали, ваше превосходительство, она самая. Уж верней ее, красивше и правдивей ничего на свете не сыщешь. Поклоняюсь с тех самых пор, как познал. Верую, гляжу не нагляжусь, сберечь стараюсь.
Шильдер вдруг захохотал:
— Пантеист[1]. Японец на Кавказе! Последователь Спинозы! Вот уж не ожидал! Русский человек в княжеской Охоте — и с такой религией! Ну, братец, не смеши. И никому больше не говори, если ты всерьез. Природа — природой, а вера — верой. Ты хоть иконы-то признаешь?
— А как же! И в церкву хожу. И дитё у меня крещеное, и супруга. А вот душа ищет — ищет главное и находит токмо в природе. Я с детства в лесах, ваше превосходительство, может, потому и врос в свое теперешнее понятие.
— Ладно, пантеист или еще там как, но в какой-то мере я понимаю тебя. Иной раз сам готов перед такой красотой на колени стать. Сижу вот один, пью и за погубленного красавца оленя переживаю. Понимаю, что плохо, кровавая охота, а пересилить себя не могу, руки к маузеру так и тянутся. Христианин! — Это слово он произнес с некоторой издевкой, тут же глянул на бутылку, резко перевернул ее над своим бокалом, так что вино плеснулось через край, и, бороду запрокинув, выпил до дна. На меня посмотрел: — Что не пьешь, студент?..
Я послушно выпил.
— Ну, а песню ты можешь, лесник? Должен уметь, раз красоте поклоняешься. — Он смотрел на Телеусова как-то иначе, чем до этого разговора. Уважительнее, что ли.
Алексей Власович не ответил, уселся поудобнее, подумал и тихо, словно для одного себя, запел. Чем дальше, тем проникновенней, от души:
Я рад тому, что сердце ясно
Во мраке светом расцвело,
Что весть о радости живую
Я всем живым с улыбкой шлю.
Я рад тому, что здесь живу я,
Что землю и тебя люблю…
Казаки подошли к егерю. И хотя мелодия была им знакома, слов они не знали, ждали, когда начнет другую, чтобы подхватить. Это была импровизация на стихи Семена Астрова, известные в Петербурге. Телеусов умолк, извинительно улыбнулся казакам и приятным тенорком запел казацкую песню о разлуке с невестой. Мы все подхватили, полковник тоже, песня вышла хорошая, за сердце берущая.
Ближе подтянулись кони. Их милые морды с влажными глазами, в которых плясало отраженное пламя, свесились, уши стояли торчком.
Кончили песню. Шильдер встал, и мы все встали. Хмельной, он подошел к Алексею Власовичу, молча похлопал его по плечу, словно отпуская грехи, молча отошел, снял кафтан и полез в свой шалаш.
Мы завернулись в бурки и мгновенно уснули.
3
Караван шел через густой туман. Влажный воздух ощущался лицом, руками. Одежда, оружие, лошадиная шерсть — все покрылось капельками воды. В тишине глухо цокали по камням копыта.Справа гремел Лабёнок, но мы его не видели. Было часов пять, не больше. Позади осталась прекрасная долина. Впереди стояли высокие Балканы. Тропа стала отходить от реки, шум воды стихал. Подъем делался все круче. По лошадиным бокам хлестали ветки густого и мокрого жасмина. Трудно в такую погоду понять, какой начинается день — ветреный или дождливый.
Лишь когда поднялись достаточно высоко, воздух стал очищаться. Туман пошел хвостами, впереди в небе проглянула белокаменная, почти доверху одетая в зелень гора. Она уходила по левую руку в далекую бескрайность, тогда как в правой стороне твердь вдруг обрывалась отвесной стеной. А в сотне саженей от обрыва, уже на другом берегу реки, почти так же отвесно в небо подымалась другая гора. Весь ее бок редкими пятнами покрывали сосенки и густолистый боярышник. Знаменитое ущелье на Малой Лабе, зеленая вода которой клокотала в бездне, скрытой ползучим туманом.
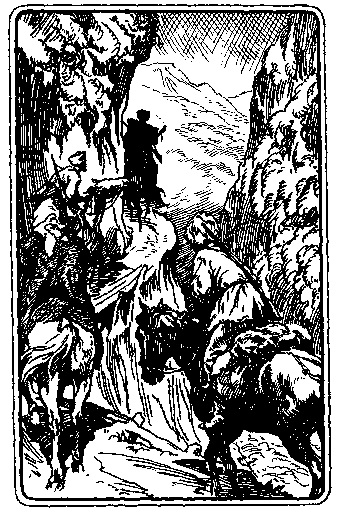
На самом верху спешились, дали коням отдышаться после затяжного подъема. Шильдер смотрел по сторонам, лицо у него было задумчивое. Потом уставился на Телеусова. Хотел понять, что ли…
Алексей Власович тем временем осмотрел подковы у лошадей, покачал головой. Стерлись не только шипы. От толстой ободины остались лишь блестящие тонюсенькие полосочки.
Спускались, ведя лошадей в поводу, скользили по мокрому камню, хватались за кусты. Кони похрапывали, боялись. Наконец тропа подвела к самой реке и стала мягче.
Впереди послышались голоса, из-за поворота резво выскочили два всадника на легких, озорных лошадях.
— Вот они! — радостно закричал передний.
Это были казаки из лагеря, посланные искать нашу группу. Перебросившись десятком слов и убедившись, что в помощи мы не нуждаемся, разведчики развернулись на узкой тропе и поскакали назад.
Шильдер приосанился в седле: представил себе, как его встретят на княжеском бивуаке. Караван пошел быстрей.
Через какое-то время сделали привал, чтобы наскоро поесть и дать передышку коням.
Ополаскивая лицо у Лабенка, я обратил внимание на тонкую полосу вдали над рекой.
— Что там? — спросил я у Телеусова.
— Висячий мостик для перехода. Мы через него на Белую ходим. Одна такая переправа, считай, на полсотни верст. Счас мы с тобой сходим до этого мостика.
Он попросил разрешения у полковника.
— Зачем? — поинтересовался тот и вынул из кармана часы, чтобы напомнить о времени. Он хотел успеть до вечера.
— Барса надо глянуть, ваше превосходительство.
— Глянуть? Может, стрельнуть собираешься?
Он спрашивал с затаенной надеждой. Еще бы! К оленю — да красивую шкуру дикой кошки…
— Ни в коем разе! — как-то даже испуганно ответил Телеусов. — Мы их сберегаем, барсов-то. Полезный хичник, волков убивает. На этом мостике ихний переход, переправа, значит. Они плавать не охочи, как и все кошки, да еще в такой реке. А на другой берег нужда есть переправиться, вот по этому мостику и ходят, даже следа человеческого не боятся. Тут злодеи ухитряются на барса ловушки ставить. Я не один раз капканы сбрасывал. Не токмо барс — наш брат егерь попасть может. Думаю, и теперь что-нибудь есть, давно не проверял.
— Изволь. Но скорей!
Когда мы вдвоем подошли к мостику, в кустах на той стороне кто-то шибко завозился. Телеусов остро глянул на меня:
— Попался зверь…
Мостик был из тех, какие заставляют подумать, прежде чем ступить на него. Да еще если опасный зверь на самом сходе. Тонкие поперечные доски в шесть четвертей длины неплотно были привязаны к двум железным канатам, покрытым густой черной ржавью. Выше настила — в пояс человеку — тянулись два более тонких каната, редко сплетенных смоляными веревками с самим мостом, нечто вроде перильцев. А внизу, на расстоянии семи или восьми саженей, под шатким переходом бесилась пенная вода, плевалась на береговые камни. Попасть в нее — все равно что сигануть в могилу.
Похожий на длинную люльку мост тихонько покачивался.
— Вот что, браток, — сказал Телеусов. — Вставай к тому камню и бери на мушку самой куст, а я буду переходить. Ежели что — сам понимаешь…
— А кто там может быть?
— Не видать отсюдова, на земле лежит. Какой-то зверь. Ладно, если волк или лиса. А ну как барс? Да пусть кто хошь. Выручать надо.
Повесив винтовку под руку, плотнее нахлобучив картуз, он ступил на шаткое сооружение.
Куст снова задергался. Я взял его на прицел.
Телеусов двигался осторожно, все время сбивал шаг чтобы не очень раскачивать мост, и обеими руками держался за поручни. Куст шевелился непрестанно. Я увидел, как Телеусов остановился, снял винтовку, положил ее, ненужную помеху в ближней схватке, на доски моста, вынул кинжал и одним прыжком очутился на том берегу немного правее куста. Никто не выскочил, не напал на него. Егерь медленно выпрямился, так же медленно сделал два шага назад и за ствол потянул к себе винтовку.
Махнул мне: иди сюда.
Не без страха переходил я реку. Кружилась голова, мостик раскачивался и, казалось, вот сейчас рухнет в пропасть. Последние две или три сажени я шел зажмурившись, до боли сжимая в ладонях холодное железо гибких перильцев.
Телеусов взял меня за рукав. Я открыл глаза. Вот тогда и раздался низкий басовитый рев, закончившийся жалобно-грозным высоким мяуканьем.
В поломанном кусту боярышника, странно изогнувшись, лежал барс.
Зверь, которого я видел впервые.
— Капкан, — сказал Телеусов. — И сколько он здеся мучается, бедолага, никто того не ведает. Однако силенка еще есть, вишь, как голос подает. Вовремя мы с тобой заявились!
Он говорил, а сам уже готовился к действиям. Кинжалом срубил тесину в руку толщиной и аршина на два по длине. Потом свалил сосенку чуть тоньше, обрезал ветки, и получился шест еще более длинный.
Я стоял и смотрел на поверженного барса.
Железные зубья капкана, привязанного к пеньку прямо на сходе с моста, захватили левую переднюю лапу барса. Пытаясь вырваться, зверь кружился вокруг капкана, изломал и изгрыз все ветки, бесконечно падал, вставал и сейчас лежал свернутым комом, не спуская с нас круглых желтых, беспощадно ярких глаз, готовый достойно принять смерть, которая была, как он понимал, уже рядом.

Светло-желтая на брюхе и по горлу шерсть его, мягкая даже на вид, коричневела по бокам, на спине, на длинном и сильном хвосте, который резко ходил из стороны в сторону. И всюду по телу — где рядками, где безо всякого порядка — чернели кружочки, напоминая две толстенькие, сведенные вместе запятые. Мелкие и крупные пятна эти на коричневом фоне так удачно сливались с землей, покрытой листом, хвоей, мелкозёмом, что, лежи барс тихо, упрячь глаза, — и можно было пройти мимо, даже переступить.
Мускулистое, крепкое тело ощущалось под пятнистой шкурой. Короткие ноги казались толстыми и щетинились отполированными вершковыми когтями. Круглая, сверху приплюснутая голова с ощеренной пастью, в которой скалились два ряда разновеликих клыков, олицетворяла собой ярость, зло, готовность к бою, беспощадность. Звериное выражали и глаза и прижатые уши. Барс тяжело дышал, тело его напряженно подрагивало. Не дешево отдаст свою жизнь!
— Значит, так, — сказал Телеусов, передавая мне длинную сосновую жердь. — Заходи отселева, становись за кустом. Видишь ту железяку? Там сбоку в ней замок, во-он планочка долгонькая. Я буду отвлекать его, чтоб тебе не помешал, а ты упрись шестом в эту планочку и со всей силы нажми. Зубья разойдутся на момент, и зверь вытащит ногу.
— На тебя бросится…
— Ну и ладно. У меня тоже дрын. Закроюсь, не достанет. Ежели что, ты на подмогу ко мне с шестом. А там видно будет. Он все-таки ослабел, нога-то занемела, не больно прыток.
Телеусов крепче запахнул на себе кафтан, поплевал на ладошки, как перед работой, и далеко обошел зверя с другой стороны. Барс косил глазом на меня, полускрытого кустом, и в то же время пристально наблюдал за Телеусовым, щерил усатый рот и шипел по-змеиному.
Алексей Власович подошел ближе, протянул шест прямо к пасти. Барс цапнул по дереву свободной лапой и, вцепившись зубами, с остервенением начал грызть, брызгая слюной и давясь.
Я нащупывал планку замка. Шест скользил по ней. Пришлось подвинуться ближе. Барс вскинулся, ударил лапой по шесту, и я едва удержался.
— Спокойно, Андрей. — Телеусов опять отвлек барса, ширнув его по шее.
Острые зубы впились в дерево, полетели щепки.
Изо всей силы я нажал наконец на шест; почувствовал, как планка подалась, затем палка опять скользнула. Но в это мгновение зубья капкана все-таки ослабли, лапа барса выскочила. Зверь, привыкший тянуть ее, от неожиданности упал на спину, перевернулся и, ловко оттолкнувшись от земли, подскочил к Телеусову. Тот успел выставить палку перед лицом. Правая лапа зверя лишь слегка коснулась уха и щеки егеря. В следующую секунду барс и сам повалился на землю — больная лапа подвела его. И снова, уже лежа, он обратился к нам оскаленной пастью. Добивайте…
Прошло несколько безмолвных секунд. Мы не спускали взгляда с готового к броску зверя. Желтыми глазами он гипнотизировал нас.
— Царапнул все же, глупый, — тихонько сказал Телеусов и ладонью вытер кровь, закапавшую из разодранного уха. — Ну, беги, ловкач, никто тебя не держит. Беги куда хошь и помолись своему богу, что первыми сюда пришли не хозяева капкана.
Барс не трогался с места. И шипеть перестал. Телеусов сел на камень, достал из кармана платок и приложил к уху. Барс сообразил, что эта поза менее угрожающая, и лег поудобнее, скосив глаза на левую лапу, все еще чужую, непослушную.
— Ты глянь, уже догадался, что мы плохого ему не сделаем, — зашептал Телеусов. — Не торопится, бродяга.
Освобожденный зверь вдруг закрыл глаза. Морда его упала на лапы. Мгновение темноты, слабость. Он сейчас же очнулся, лизнул больную лапу, глянул на нас другими, не бешеными, а просто настороженными глазами и стал пятиться.
— Иди, гуляй шибче, милок. Не тронем, — спокойно промолвил Алексей Власович и засмеялся. — Вставай на лапы, не страшись. Чего брюхом землю скоблишь? Топай смелей!
Барс словно понял эти слова, осторожно встал, но левую переднюю тут же поджал. Болит. Или вывихнута. Посмотрел на нас выжидательно. Еще попятился, теперь только на трех ногах, ушел сажени на четыре, постоял, оценивая обстановку, и пошел на гору так, чтобы все время держать нас в поле зрения.
Мы смотрели на него и — ей-богу! — нам обоим показалось, что барс все понимает. Он несколько раз останавливался, как-то раздумчиво глядел в нашу сторону. Уж не собирался ли вернуться и лизнуть руку Алексея Власовича, поблагодарив за освобождение, а заодно и выразив сочувствие по поводу оцарапанных щеки и уха?.. Нет, не вернулся. Но ушел без боязни.
Телеусов хмыкнул:
— Теперь ляжет недалече зализывать рану. А заодно и нас высматривать, пока не уйдем за реку да с глаз долой. Но и тогда не перестанет следить.
— А как он смотрел, Алексей Власович!
— Понятие у зверя есть. Сперва решил, что убивать пришли, а оно вишь как обернулось.
— Только вот лапа у него…
— Да-а… Так и на трех могёт остаться. Ну, я думаю, и на трех не пропадет. Ловок в охоте. Он ведь не очень бегает за другим зверем. Все больше скрадывает, подкарауливает, чтоб наверняка. Заберется на дерево, вытянется над тропочкой, где косули ходят или волки бегают, и будет ждать хоть бы всю ночь. Молнией упадет сверху — и все. Конечно же, на трех-то хужее, но прожить проживет. Семью он не признает, сам себя кормит. Проще ему жить.
