Страница:
Наконец, до слуха моего доходило, что меня кличут. Матушка выходила к обеду к двум часам. Обед подавался из свежей провизии, но, изготовленный неумелыми руками, очень неаппетитно. Начатый прежде разговор продолжался и за обедом, но я, конечно, участия в нем не принимал. Иногда матушка была весела, и это означало, что Могильцев ухитрился придумать какую-нибудь «штучку».
– Вот-то глаза вытаращит! – говорила она оживленно, – да постой! и у меня в голове штучка в том же роде вертится; только надо ее обдумать. Ужо, может быть, и расскажу.
– Случается, сударыня, такую бумажку напишешь, что и к делу она совсем не подходит, – смотришь, ан польза! – хвалился, с своей стороны, Могильцев. – Ведь противник-то как в лесу бродит. Читает и думает: «Это недаром! наверное, он куда-нибудь далеко крючок закинул». – И начнет паутину кругом себя путать. Путает-путает, да в собственной путанице и застрянет. А мы в это время и еще загадку ему загадаем.
– Бесподобно!
Но бывало, что матушка садилась за стол недовольная. Очевидно, Могильцев на чем-нибудь не согласился с нею, или она, с свойственной ей мнительностью, заподозрела его. Тогда обед проходил молча. Напрасно Могильцев уверял:
– Да будьте без сомнения, доверьтесь мне, сударыня! сами после увидите…
– Я и теперь вижу, – резко возражала матушка, – вижу я, что ты богослов, да не однослов… А ты что фордыбачишь! – придиралась она и ко мне, – что надулся, не ешь! Здесь, голубчик, суфлеев да кремов не полагается. Ешь, что дают, а не то и из-за стола прогоню.
Затем все молчали, и обед живо приходил к концу.
После обеда матушка удалялась в спальню, а Могильцев – в свою комнату, и в доме наступало сонное царство. Агаша продолжала сидеть на низенькой скамеечке у дверей матушкиной комнаты и тоже дремала. Я, по-прежнему, оставался один и решительно не знал, что с собой делать. «Чем лучше быть: генералом или архиереем?» – мелькало у меня в голове; но вопрос этот уже бесчисленное множество раз разрешался мною то в том, то в другом смысле, а потом и он перестал интересовать. Скука, скука, скука! Во сто раз веселее вон тем сельским мальчишкам, которые играют в бабки среди опустелой площади, не зная, что значит на свете одиночество…
Понятно, с каким нетерпением я отсчитывал интервалы (обед, вечерний чай, ужин), которые отделяли утро от ночи.
Вечер снова посвящался делам. Около вечернего чая являлся повар за приказаниями насчет завтрашнего обеда. Но матушка, зная, что в Заболотье она, в кулинарном отношении, зависит от случайности, неизменно давала один и тот же ответ:
– Что мне приказывать, голубчик! Чем бог пошлет, тем и покормишь! Будем сыты – слава богу!
– Говядинки сегодня не достали, так не угодно ли щи с солониной приказать. Солонина хорошая.
– Ну, щец с солониной свари.
– А на жареное – молодых тетеревей принесли…
– Ну, вот и будет с нас. Щец похлебаем, жарковца поедим. И сытехоньки.
Замечательно, что хотя Уголок (бывшая усадьба тетенек-сестриц) находился всего в пяти верстах от Заболотья и там домашнее хозяйство шло своим чередом, но матушка никогда не посылала туда за провизией, под тем предлогом, что разновременными требованиями она может произвести путаницу в отчетности. Поэтому зерно и молочные скопы продавались на месте прасолам, а живность зимой полностью перевозилась в Малиновец.
Довольно часто по вечерам матушку приглашали богатые крестьяне чайку испить, заедочков покушать. В этих случаях я был ее неизменным спутником. Матушка, так сказать, по природе льнула к капиталу и потому была очень ласкова с Заболотскими богатеями. Некоторым она даже давала деньги для оборотов, конечно, за высокие проценты. С течением времени, когда она окончательно оперилась, это составило тоже значительную статью дохода.
Церемониал приема в крестьянских домах был очень сложен.
Встречали матушку всем домом у ворот (при первом посещении хозяин стоял впереди с хлебом-солью); затем пропускали ее вперед и усаживали под образа. Но из хозяев никто, даже старики, не садились, как ни настаивала матушка.
– Не купленные ноги-то – и постоим! – слышалось в ответ.
Комната, в которой нас принимали, была, конечно, самая просторная в доме; ее заранее мыли и чистили и перед образами затепляли лампады. Стол, накрытый пестрою ярославскою скатертью, был уставлен тарелками с заедочками. Так назывались лавочные лакомства, о которых я говорил выше. Затем подавалось белое вино в рюмках, иногда даже водка, и чай. Беспрестанно слышалось:
– Не обессудьте!
– Не обидьте!
– Приневольтесь!
Разговор шел деловой: о торгах, о подрядах, о ценах на товары. Некоторые из крестьян поставляли в казну полотна, кожи, солдатское сукно и проч. и рассказывали, на какие нужно подниматься фортели, чтоб подряд исправно сошел с рук. Время проходило довольно оживленно, только душно в комнате было, потому что вся семья хозяйская считала долгом присутствовать при приеме. Даже на улице скоплялась перед окнами значительная толпа любопытных.
К десяти часам мы уже были дома, и я ложился спать, утомленный, почти расслабленный.
Так длилось три-четыре дня (матушка редко приезжала на более продолжительный срок); наконец, после раннего обеда, к крыльцу подъезжала пароконная телега, в которую усаживали Могильцева, а на другой день, с рассветом, покидали Заболотье и мы,
– Что, нравится тебе в Заболотье? весело? – спрашивала меня матушка-
– Ах, маменька! – восклицал я в ответ, стараясь изобразить на лице восхищение note 20.
X. ТЕТЕНЬКА СЛАСТЕНА
– Вот-то глаза вытаращит! – говорила она оживленно, – да постой! и у меня в голове штучка в том же роде вертится; только надо ее обдумать. Ужо, может быть, и расскажу.
– Случается, сударыня, такую бумажку напишешь, что и к делу она совсем не подходит, – смотришь, ан польза! – хвалился, с своей стороны, Могильцев. – Ведь противник-то как в лесу бродит. Читает и думает: «Это недаром! наверное, он куда-нибудь далеко крючок закинул». – И начнет паутину кругом себя путать. Путает-путает, да в собственной путанице и застрянет. А мы в это время и еще загадку ему загадаем.
– Бесподобно!
Но бывало, что матушка садилась за стол недовольная. Очевидно, Могильцев на чем-нибудь не согласился с нею, или она, с свойственной ей мнительностью, заподозрела его. Тогда обед проходил молча. Напрасно Могильцев уверял:
– Да будьте без сомнения, доверьтесь мне, сударыня! сами после увидите…
– Я и теперь вижу, – резко возражала матушка, – вижу я, что ты богослов, да не однослов… А ты что фордыбачишь! – придиралась она и ко мне, – что надулся, не ешь! Здесь, голубчик, суфлеев да кремов не полагается. Ешь, что дают, а не то и из-за стола прогоню.
Затем все молчали, и обед живо приходил к концу.
После обеда матушка удалялась в спальню, а Могильцев – в свою комнату, и в доме наступало сонное царство. Агаша продолжала сидеть на низенькой скамеечке у дверей матушкиной комнаты и тоже дремала. Я, по-прежнему, оставался один и решительно не знал, что с собой делать. «Чем лучше быть: генералом или архиереем?» – мелькало у меня в голове; но вопрос этот уже бесчисленное множество раз разрешался мною то в том, то в другом смысле, а потом и он перестал интересовать. Скука, скука, скука! Во сто раз веселее вон тем сельским мальчишкам, которые играют в бабки среди опустелой площади, не зная, что значит на свете одиночество…
Понятно, с каким нетерпением я отсчитывал интервалы (обед, вечерний чай, ужин), которые отделяли утро от ночи.
Вечер снова посвящался делам. Около вечернего чая являлся повар за приказаниями насчет завтрашнего обеда. Но матушка, зная, что в Заболотье она, в кулинарном отношении, зависит от случайности, неизменно давала один и тот же ответ:
– Что мне приказывать, голубчик! Чем бог пошлет, тем и покормишь! Будем сыты – слава богу!
– Говядинки сегодня не достали, так не угодно ли щи с солониной приказать. Солонина хорошая.
– Ну, щец с солониной свари.
– А на жареное – молодых тетеревей принесли…
– Ну, вот и будет с нас. Щец похлебаем, жарковца поедим. И сытехоньки.
Замечательно, что хотя Уголок (бывшая усадьба тетенек-сестриц) находился всего в пяти верстах от Заболотья и там домашнее хозяйство шло своим чередом, но матушка никогда не посылала туда за провизией, под тем предлогом, что разновременными требованиями она может произвести путаницу в отчетности. Поэтому зерно и молочные скопы продавались на месте прасолам, а живность зимой полностью перевозилась в Малиновец.
Довольно часто по вечерам матушку приглашали богатые крестьяне чайку испить, заедочков покушать. В этих случаях я был ее неизменным спутником. Матушка, так сказать, по природе льнула к капиталу и потому была очень ласкова с Заболотскими богатеями. Некоторым она даже давала деньги для оборотов, конечно, за высокие проценты. С течением времени, когда она окончательно оперилась, это составило тоже значительную статью дохода.
Церемониал приема в крестьянских домах был очень сложен.
Встречали матушку всем домом у ворот (при первом посещении хозяин стоял впереди с хлебом-солью); затем пропускали ее вперед и усаживали под образа. Но из хозяев никто, даже старики, не садились, как ни настаивала матушка.
– Не купленные ноги-то – и постоим! – слышалось в ответ.
Комната, в которой нас принимали, была, конечно, самая просторная в доме; ее заранее мыли и чистили и перед образами затепляли лампады. Стол, накрытый пестрою ярославскою скатертью, был уставлен тарелками с заедочками. Так назывались лавочные лакомства, о которых я говорил выше. Затем подавалось белое вино в рюмках, иногда даже водка, и чай. Беспрестанно слышалось:
– Не обессудьте!
– Не обидьте!
– Приневольтесь!
Разговор шел деловой: о торгах, о подрядах, о ценах на товары. Некоторые из крестьян поставляли в казну полотна, кожи, солдатское сукно и проч. и рассказывали, на какие нужно подниматься фортели, чтоб подряд исправно сошел с рук. Время проходило довольно оживленно, только душно в комнате было, потому что вся семья хозяйская считала долгом присутствовать при приеме. Даже на улице скоплялась перед окнами значительная толпа любопытных.
К десяти часам мы уже были дома, и я ложился спать, утомленный, почти расслабленный.
Так длилось три-четыре дня (матушка редко приезжала на более продолжительный срок); наконец, после раннего обеда, к крыльцу подъезжала пароконная телега, в которую усаживали Могильцева, а на другой день, с рассветом, покидали Заболотье и мы,
– Что, нравится тебе в Заболотье? весело? – спрашивала меня матушка-
– Ах, маменька! – восклицал я в ответ, стараясь изобразить на лице восхищение note 20.
X. ТЕТЕНЬКА СЛАСТЕНА
Так звали тетеньку Раису Порфирьевну Ахлопину за ее гостеприимство и любовь к лакомому куску. Жила она от нас далеко, в Р., с лишком в полутораста вёрстах, вследствие чего мы очень редко видались. Старушка, однако ж, не забывала нас и ко дню ангелов и рождений аккуратно присылала братцу и сестрице поздравительные письма. Разумеется, ей отвечали тем же.
Раичку выдали замуж очень рано, невступно шестнадцати лет, за Р-ского городничего. Девушка она была смирная, добрая, покорная и довольно красивая, но, еще будучи отроковицей, уже любила покушать. Суженому ее стукнуло уже под пятьдесят лет, и вместо правой ноги, которую оторвало ядром в походе под турка, он ходил на деревяшке, действуя ею, впрочем, очень проворно. За всем тем, партия эта считалась завидною, благодаря служебному положению майора. Р. был большой торговый город на судоходной реке, которая летом загромождалась барками, обыкновенно остававшимися там и на зимовку. Много было в Р. значительных капиталистов, достаточное количество раскольников, а главное, вместе с судами приходила целая громада рабочего люда с паспортами и без паспортов. Словом сказать, круглый год в городе царствовала та хлопотливая неурядица, около которой можно было греть руки, зная наперед, что тут черт ногу сломит, прежде чем до чего-нибудь доищется.
По-видимому, этой сладкой уверенностью согревалось и майорское сердце. С утра до вечера, зимой и летом, Петр Спиридоныч ковылял, постукивая деревяшкой, по базару, гостиному двору, набережной, заходил к толстосумам, искал, нюхал и, конечно, доискивался и донюхивался. Лет через десять деятельного городничества, когда он задумал жениться на Раичке, у него был уже очень хороший капитал, хотя по службе он не слыл притязательным. Ласков он был и брал не зря, а за дело. Купцы дарили его даже «за любовь», за то, что он крестил у них детей, за то, что он не забывал именин, а часто и запросто заходил чаю откушать. Каждомесячно посылали ему «положение» (не за страх, а за совесть), и ежели встречалась нужда, то за нее дарили особо. Но не по условию, а столько, сколько бог на душу положит, чтоб не обидно было. И он никогда не имел повода обижаться и даже убедился, что ласка действует гораздо сильнее, нежели грубое вымогательство. Только с рабочим людом он обходился несколько проще, ну, да ведь на то он и рабочий люд, чтобы с ним недолго «разговаривать». – Есть пачпорт? – вот тебе такса, вынимай четвертак! – Нет пачпорта – плати целковый-рубль, а не то и острог недалеко! – И опять-таки без вымогательства, а «по правилу».
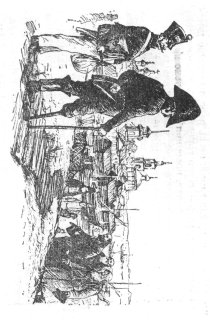
Лет через двадцать после женитьбы он умер, оплакиваемый гражданами, оставив жене значительный капитал (под конец его считали в четырехстах тысячах ассигнациями) и дочку пяти лет. Раиса Порфирьевна за ничтожную сумму купила на выгоне десятин десять земли, возле самой городской черты, и устроилась там. Выстроила просторный дом, развела огород и фруктовый сад, наполнила холостые постройки домашним скотом и всякой птицей и зажила, как в деревне. Усадьба была почти идеальная, потому что соединяла сельские удобства с городскими. Базар под руками, церквей не перечесть, знакомых сколько угодно, а когда Леночка начала подрастать, то и в учителях недостатка не было.
Откормив Леночку в меру пышной русской красавицы, она берегла ее дома до осьмнадцати лет и тогда только решила выдать замуж за поручика Красавина, человека смирного и тоже достаточного. Но молодых от себя не отпустила, а поселила вместе с собой. Всем было там хорошо; всякая комната имела свой аппетитный характер и внушала аппетитные мысли, так что не только домашние с утра до вечера кушали, лакомились и добрели, но и всякий пришлый человек чувствовал себя расположенным хоть чего-нибудь да отведать. Прислуга собралась веселая, бойкая, какая бывает только у действительно добрых господ. В передней то и дело раздавался звонок и слышались голоса:
– Дома?
– Пожалуйте! только что кушать сели.
Входил гость, за ним прибывал другой, и никогда не случалось, чтобы кому-нибудь чего-нибудь недостало. Всего было вдоволь: индейка так индейка, гусь так гусь. Кушайте на здоровье, а ежели мало, так и цыпленочка можно велеть зажарить. В четверть часа готов будет. Не то что в Малиновце, где один гусиный полоток на всю семью мелкими кусочками изрежут, да еще норовят, как бы и на другой день осталось.
Но через год случилось несчастье. Леночка умерла родами, оставив на руках пятидесятилетней матери новорожденную дочь Сашеньку. А недолго спустя после смерти жены скончался и поручик Красавин.
Это было великое горе, и тетенька долгое время не осушала глаз. Вспомнилось, что ей уж пятьдесят лет, что скоро наступит старость, а может быть, и смерть – на кого она оставит Сашеньку? Правда, что она до сих пор не знала ни малейшей хворости, но ведь бог в смерти и животе волен. Здорова, здорова – и вдруг больна. Шея-то у нее вон какая короткая, долго ли до греха! Списывалась было она с сестрицей Ольгой Порфирьевной, приглашала ее к себе на житье, но, во-первых, Ольга Порфирьевна была еще старше ее, во-вторых, она в то время хозяйствовала в Малиновце и, главное, никак не соглашалась оставить сестрицу Машу. А жить с Марьей Порфирьевной тетенька не желала, зная ее проказливость и чудачества, благодаря которым ее благоустроенный дом мог бы в один месяц перевернуться вверх дном. Других сестер Раиса Порфирьевна тоже не жаловала, да и разбрелись они по дальним губерниям, так что и не отыщешь, пожалуй. Что же касается до мужниной родни, то ее хоть и много было, но покойный майор никогда не жил с нею в ладах и даже, умирая, предостерегал от нее жену.
– Смотри, после моей смерти братцы, пожалуй, наедут, – говорил он, – услуги предлагать будут, так ты их от себя гони!
Наконец, тяжелое горе отошло-таки на задний план, и тетенька всею силою старческой нежности привязалась к Сашеньке. Лелеяла ее, холила, запрещала прислуге ходить мимо ее комнаты, когда она спала, и исподволь подкармливала. Главною ее мечтой, об осуществлении которой она ежедневно молилась, было дожить до того времени, когда Сашеньке минет шестнадцать лет.
– Выдам ее за хорошего человека замуж и умру, – говорила она себе, но втайне прибавляла, – а может быть, бог пошлет, и поживу еще с ними.
С своей стороны, и Сашенька отвечала бабушке такой же горячей привязанностью. И старая и малая не надышались друг на друга, так что бабушка, по делам оставшегося от покойного зятя имения, даже советовалась с внучкой, и когда ей замечали, что Сашенька еще мала, не смыслит, то старушка уверенно отвечала:
– Она-то не смыслит! да вы ее о чем угодно спросите, она на все ответ даст! И обед заказать, и по саду распорядиться… вот она у меня какова!
Одним словом, это был один из тех редких домов, где всем жилось привольно: и господам, и прислуге. Все любили друг друга и в особенности лелеяли Сашеньку, признавая ее хозяйкой, не только наравне с бабушкой, но даже, пожалуй, повыше. И чем дольше жили, тем жизнь становилась приятнее. Гнездо окончательно устроилось, сад разросся и был преисполнен всякою сластью, коровы давали молока не в пример прочим, даже четыре овцы, которых бабушка завела в угоду внучке, ягнились два раза в год и приносили не по одному, а по два ягненка зараз.
– Вот и день сошел! да еще как сошел-то – и не заметили! Тихо, мирно! – говаривала бабушка, отпуская внучку спать. – Молись, Сашенька, проси милости, чтобы и завтрашний день был такой же!
Именно только повторение одного и того же дня и требовалось.
Я уже сказал выше, что наше семейство почти совсем не виделось с Ахлопиными. Но однажды, когда я приехал в Малиновец на каникулы из Москвы, где я только что начал ученье, матушка вспомнила, что 28-го июня предстоят именины Раисы Порфирьевны. Самой ехать в Р. ей было недосужно, поэтому она решилась послать кого-нибудь из детей. К счастью, выбор пал на меня.
Ехал я на своих, целых два дня с половиной, один без прислуги, только в сопровождении кучера Алемпия. Останавливались через каждые тридцать верст в деревенских избах, потому что с проселка на столбовой тракт выезжали только верст за сорок от Р. Наконец за два дня до семейного праздника достигли мы цели путешествия. Был уже седьмой час вечера, когда наша бричка, миновав пыльный город, остановилась перед крыльцом ахлопинского дома, но солнце еще стояло довольно высоко. Дом был одноэтажный, с мезонином, один из тех форменных домов, которые сплошь и рядом встречались в помещичьих усадьбах; разница заключалась только в том, что помещичьи дома были большею частью некрашеные, почернелые от старости и недостатка ремонта, а тут даже снаружи все глядело светло и чисто, точно сейчас ремонтированное. С одной стороны дома расположены были хозяйственные постройки; с другой, из-за выкрашенного тына, выглядывал сад, кругом обсаженный липами, которые начинали уже зацветать. В воздухе чувствовался наступающий вечер с его прохладой; липа далеко распространяла сладкое благоухание. Меня сразу обняло чувство отрады и покоя, особливо после продолжительного пути и душного города, который только что обдал нас вонью и пылью.
Нас встретила молодая горничная, никогда меня не видавшая, но как будто почуявшая, что я здесь буду желанным гостем.
– Пожалуйте! пожалуйте! – звонко приглашала она, – они в баньку ушли, сейчас воротятся, а потом чай будут кушать. Как об вас доложить?
Я назвал себя.
– Ах ты, господи! Затрапезные! А барыня точно чуяли. Еще давеча утром только и говорили: «Вот кабы братец Василий Порфирьич вспомнил!» Пожалуйте! пожалуйте! Сейчас придут! сейчас!
Она живо скрылась, сдав меня на руки старику слуге, который, узнав, что приехал молодой Затрапезный, тоже чему-то обрадовался и заспешил.
– Пожалуйте, пожалуйте, – говорил он, – тетенька еще давеча словно чуяли: «Вот, мол, кабы братец Василий Порфирьич обо дне ангела моего вспомнил!»
Он провел меня через длинную, в четыре окна, залу в гостиную и затем в небольшую столовую, где другая горничная накрывала стол для чая и тоже обрадовалась и подтвердила, что сердце тетеньки «чуяло».
Не прошло и десяти минут, как я уже стоял лицом к лицу с тетенькой и кузиной.
Тетенька, толстенькая, небольшого роста старушка, еще бодро несла свой седьмой десяток лет. Лицо ее, круглое, пухлое, с щеками, покрытыми старческим румянцем, лоснилось после бани; глаза порядочно-таки заплыли, но еще живо светились в своих щелочках; губы, сочные и розовые, улыбались, на подбородке играла ямочка, зубы были все целы. На голове ее был белый старушечий чепчик, несколько влажный после мытья; на плечах свободно висел темненький шерстяной капот, без всякого намека на талию. Была ли она когда-нибудь красива – этого нельзя было угадать, но, во всяком случае, и теперь смотреть на нее было очень приятно.
Сашенька была в полном смысле двенадцатилетняя русская красотка. Коли хотите, она напоминала собой бабушку, но так, как напоминает развертывающаяся розовая распуколка свою соседку, облетающую розу. Белое, с чуть-чуть заметною желтизною, как у густых сливок, лицо, румянец во всю щеку, алые губы, ямочка посреди подбородка, большие черные глаза, густая прядь черных волос на голове – все обещало, что в недалеком будущем она развернется в настоящую красавицу. Как и у бабушки, на голове ее был чепчик, несколько, впрочем, пофасонистее, а одета она была в такой же темный шерстяной капот без талии.
– Никаша? – угадывала тетенька, пристально вглядываясь в меня.
– Он самый-с.
– Ах, милый! ах, родной! да какой же ты большой! – восклицала она, обнимая меня своими коротенькими руками, – да никак ты уж в ученье, что на тебе мундирчик надет! А вот и Сашенька моя. Ишь ведь старушкой оделась, а все оттого, что уж очень навстречу спешила… Поцелуйтесь, родные! племянница ведь она твоя… Поиграйте вместе, побегайте ужо, дядюшка с племянницей.
Мы поцеловались, и мне показалось даже, что Сашенька сделала книксен.
– Ах, дяденька, мне так давно хотелось познакомиться с вами! – сказала она, – и какой на вас мундирчик славный!
– Как же! дам я ему у тетки родной в мундире ходить! – подхватила тетенька, – ужо по саду бегать будете, в земле вываляетесь – на что мундирчик похож будет! Вот я тебе кацавейку старую дам, и ходи в ней на здоровье! а в праздник к обедне, коли захочешь, во всем парате в церковь поедешь!
Мне шел тогда двенадцатый год. Это самый несносный возраст в детстве, тот возраст, когда мальчик начинает воображать себя взрослым. Он становится очень чуток ко всякой шутке, будь она самая безобидная; старается говорить басом, щегольнуть, неохотно принимает участие в играх, серьезничает, надувается. Вообще, как говорится, кобенится. Кобенился и я. На этом основании я на последней станции переменил свою куртку на мундир; на этом же основании двукратное упоминовение о мундире – как будто я им хвастаюсь! – ив особенности обещание заменить его кацавейкой задели меня за живое.
– Я своим мундиром горжусь! – ответил я; но, вероятно, выражение моего лица было при этом настолько глупо, что тетенька угадала нанесенную мне обиду и расхохоталась.
– Вздор! вздор, голубчик! – шутила она, – мундирчик твой мы уважаем, а все-таки спрячем, а тебе кацавейку дадим! Бегай в ней, веселись… что надуваться-то! Да вот еще что! не хочешь ли в баньку сходить с дорожки? мы только что отмылись… Ах, хорошо в баньке! Старуха Акуля живо тебя вымоет, а мы с чаем подождем!
– Сходите, дяденька, в баньку! – с своей стороны, умильным голоском, упрашивала меня Сашенька.
Это была вторая обида. Позволить себя, взрослого юношу, мыть женщине… это уж ни на что не похоже!
– Покорно благодарю, тетушка! я в баню идти не желаю! – сказал я холодно и даже с примесью гадливости в голосе.
– Ах, да ты, верно, старой Акули застыдился! так ведь ей, голубчик, за семьдесят! И мастерица уж она мыть! еще папеньку твоего мывала, когда в Малиновце жила. Вздор, сударь, вздор! Иди-ка в баньку и мойся! в чужой монастырь с своим уставом не ходят! Настюша! скажи Акулине, да проведи его в баню!
Словом сказать, меня и в баньке вымыли, и в тот же вечер облачили в кацавейку.
– Вот и прекрасно! и свободно тебе, и не простудишься после баньки! – воскликнула тетенька, увидев меня в новом костюме. – Кушай-ка чай на здоровье, а потом клубнички со сливочками поедим. Нет худа без добра: покуда ты мылся, а мы и ягодок успели набрать. Мало их еще, только что поспевать начали, мы сами в первый раз едим.
Чай был вкусный, сдобные булки – удивительно вкусные, сливки – еще того вкуснее. Я убирал за обе щеки, а тетенька, смотря на меня, тихо радовалась. Затем пришла очередь и для клубники; тетенька разделила набранное на две части: мне и Сашеньке, а себе взяла только одну ягодку.
– Разговеюсь, и будет с меня! в другой раз я, пожалуй, и побольше вас съем, – молвила она.
Чай кончился к осьми часам. Солнце было уж на исходе. Мы хотели идти в сад, но тетенька отсоветовала: неравно роса будет, после бани и простудиться не в редкость.
– Лучше сядем, да на солнышко посмотрим, чисто ли оно, батюшко, сядет!
Солнце садилось великолепно. Наполовину его уж не было видно, и на краю запада разлилась широкая золотая полоса. Небо было совсем чистое, синее; только немногие облака, легкие и перистые, плыли вразброд, тоже пронизанные золотом. Тетенька сидела в креслах прямо против исчезающего светила, крестилась и старческим голоском напевала: «Свете тихий…»
– Кабы не Сашенька – кажется бы… – молвила она, но, не докончив, продолжала: – Хороший день будет завтра, ведреный; косить уж около дворов начали – работа в ведрышко спорее пойдет. Что говорить!
Потрудятся мужички, умаются, день-то деньской косою махавши, да потом и порадуются, что из ихнего отягощения, по крайности, хоть прок вышел. Травы нынче отличные, яровые тоже хорошо уродились. И сенца и соломки – всего вдоволь будет. Мужичок-то и вздохнет. Вот мы и не сеем и не жнем, а нам хорошо живется, – пусть и трудящимся будет хорошо. В десять часов подали ужин, и в заключение на столе опять явилось… блюдо клубники!
– Это еще что! – изумилась тетенька, – ведь таким манером вы меня в праздник без ягод оставите! Приедут гости, и потчевать нечем будет.
– Это, сударыня, Иван Михайлыч прислали!
– Ах, кум дорогой! Все-то он так! Сосед это наш, – обратилась тетенька ко мне, – тут же о бок живет, тоже садами занимается. Служил он у покойного Петра Спиридоныча в частных приставах, – ну, и скопил праведными трудами копеечку про черный день. Да, хорошо при покойном было, тихо, смирно, ни кляуз, ни жалоб – ничего такого! Ходит, бывало, сердечный друг, по городу, деревяжкой постукивает, и всякому-то он ласковое слово скажет. Постучится в окно к какому-нибудь куму – у всего города он детей крестил, – спросит: «Самовар на столе?» – «Готов, сударь». Взойдет, выпьет стакан и опять пошел постукивать. И представь себе, как хорошо у нас выходило: 28-го я именинница, а 29-го – он. Так два дня сряду, бывало, и идет у нас пир горой.
Тетенька умилилась и отерла слезинку.
– Впрочем, и теперь пожаловаться не могу, – продолжала она, – кругом живет народ тихий, благонравный, на бога не ропщет, смотрит весело, словно и огорчений на свете нет. Ах, да и не люблю я этих… задумчивых! Я и прислугу держу веселую; люблю, чтоб около меня с довольными лицами ходили, разговаривали, песни пели. А ежели кто недоволен мной, того я силком не держу. Хоть и крепостные они мои, а я все-таки помню, что человеку иногда трудно себя переломить. Каждый божий день те же да те же комнаты, да с посудой возись – хоть кому шею намозолит! Понимаю я это, мой друг, и ценю, когда прислуга с веселием труд свой приемлет. Вот только Акуля с Родивоном – из мужской прислуги он один в доме и есть, а прочие всё девушки – всё что-то про себя мурлыкают. Ну, да это уж от старости. Подумай, ведь Акуле-то уж годов восемьдесят. Нянчила она меня еще вот Эконькую и до сих пор про Малиновец вспоминает. Ах, да и хорошо было там при маменьке Надежде Гавриловне! Когда дошла очередь до блюда с клубникой, тетенька расфилософствовалась.
– Вот, – говорила она, – как бог-то премудро устроил. Нет чтобы в саду все разом поспело, а всякой ягоде, всякому фрукту свой черед определен. К Петрову дню – клубника, к Казанской – малина, к Ильину дню – вишенье, ко Второму спасу – яблоки, груши, сливы. А в промежутках – смородина, крыжовник. На целых два месяца лакомства хватит. Глядя на это, и мы в своих делах стараемся подражать. У меня во дворе четыре коровушки, и никогда не бывало, чтобы все разом телились. Одна в Филипповки телится, другая – великим постом, третья – в Петровки, а остатняя – в Спожинки. Круглый год у нас и молочко, и сливочки, и маслице – все свое. А к празднику и свой теленочек есть. Вот послезавтра увидишь, какого мы бычка ко дню моего ангела выпоили! Сама сегодня утром ходила глядеть на него: лежит, глаза закрывши, не шевельнется. Жаль бедненького, а приходится резать. Ну, да ведь и то сказать: не человек, а скотина!
Раичку выдали замуж очень рано, невступно шестнадцати лет, за Р-ского городничего. Девушка она была смирная, добрая, покорная и довольно красивая, но, еще будучи отроковицей, уже любила покушать. Суженому ее стукнуло уже под пятьдесят лет, и вместо правой ноги, которую оторвало ядром в походе под турка, он ходил на деревяшке, действуя ею, впрочем, очень проворно. За всем тем, партия эта считалась завидною, благодаря служебному положению майора. Р. был большой торговый город на судоходной реке, которая летом загромождалась барками, обыкновенно остававшимися там и на зимовку. Много было в Р. значительных капиталистов, достаточное количество раскольников, а главное, вместе с судами приходила целая громада рабочего люда с паспортами и без паспортов. Словом сказать, круглый год в городе царствовала та хлопотливая неурядица, около которой можно было греть руки, зная наперед, что тут черт ногу сломит, прежде чем до чего-нибудь доищется.
По-видимому, этой сладкой уверенностью согревалось и майорское сердце. С утра до вечера, зимой и летом, Петр Спиридоныч ковылял, постукивая деревяшкой, по базару, гостиному двору, набережной, заходил к толстосумам, искал, нюхал и, конечно, доискивался и донюхивался. Лет через десять деятельного городничества, когда он задумал жениться на Раичке, у него был уже очень хороший капитал, хотя по службе он не слыл притязательным. Ласков он был и брал не зря, а за дело. Купцы дарили его даже «за любовь», за то, что он крестил у них детей, за то, что он не забывал именин, а часто и запросто заходил чаю откушать. Каждомесячно посылали ему «положение» (не за страх, а за совесть), и ежели встречалась нужда, то за нее дарили особо. Но не по условию, а столько, сколько бог на душу положит, чтоб не обидно было. И он никогда не имел повода обижаться и даже убедился, что ласка действует гораздо сильнее, нежели грубое вымогательство. Только с рабочим людом он обходился несколько проще, ну, да ведь на то он и рабочий люд, чтобы с ним недолго «разговаривать». – Есть пачпорт? – вот тебе такса, вынимай четвертак! – Нет пачпорта – плати целковый-рубль, а не то и острог недалеко! – И опять-таки без вымогательства, а «по правилу».
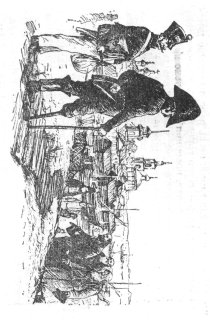
Лет через двадцать после женитьбы он умер, оплакиваемый гражданами, оставив жене значительный капитал (под конец его считали в четырехстах тысячах ассигнациями) и дочку пяти лет. Раиса Порфирьевна за ничтожную сумму купила на выгоне десятин десять земли, возле самой городской черты, и устроилась там. Выстроила просторный дом, развела огород и фруктовый сад, наполнила холостые постройки домашним скотом и всякой птицей и зажила, как в деревне. Усадьба была почти идеальная, потому что соединяла сельские удобства с городскими. Базар под руками, церквей не перечесть, знакомых сколько угодно, а когда Леночка начала подрастать, то и в учителях недостатка не было.
Откормив Леночку в меру пышной русской красавицы, она берегла ее дома до осьмнадцати лет и тогда только решила выдать замуж за поручика Красавина, человека смирного и тоже достаточного. Но молодых от себя не отпустила, а поселила вместе с собой. Всем было там хорошо; всякая комната имела свой аппетитный характер и внушала аппетитные мысли, так что не только домашние с утра до вечера кушали, лакомились и добрели, но и всякий пришлый человек чувствовал себя расположенным хоть чего-нибудь да отведать. Прислуга собралась веселая, бойкая, какая бывает только у действительно добрых господ. В передней то и дело раздавался звонок и слышались голоса:
– Дома?
– Пожалуйте! только что кушать сели.
Входил гость, за ним прибывал другой, и никогда не случалось, чтобы кому-нибудь чего-нибудь недостало. Всего было вдоволь: индейка так индейка, гусь так гусь. Кушайте на здоровье, а ежели мало, так и цыпленочка можно велеть зажарить. В четверть часа готов будет. Не то что в Малиновце, где один гусиный полоток на всю семью мелкими кусочками изрежут, да еще норовят, как бы и на другой день осталось.
Но через год случилось несчастье. Леночка умерла родами, оставив на руках пятидесятилетней матери новорожденную дочь Сашеньку. А недолго спустя после смерти жены скончался и поручик Красавин.
Это было великое горе, и тетенька долгое время не осушала глаз. Вспомнилось, что ей уж пятьдесят лет, что скоро наступит старость, а может быть, и смерть – на кого она оставит Сашеньку? Правда, что она до сих пор не знала ни малейшей хворости, но ведь бог в смерти и животе волен. Здорова, здорова – и вдруг больна. Шея-то у нее вон какая короткая, долго ли до греха! Списывалась было она с сестрицей Ольгой Порфирьевной, приглашала ее к себе на житье, но, во-первых, Ольга Порфирьевна была еще старше ее, во-вторых, она в то время хозяйствовала в Малиновце и, главное, никак не соглашалась оставить сестрицу Машу. А жить с Марьей Порфирьевной тетенька не желала, зная ее проказливость и чудачества, благодаря которым ее благоустроенный дом мог бы в один месяц перевернуться вверх дном. Других сестер Раиса Порфирьевна тоже не жаловала, да и разбрелись они по дальним губерниям, так что и не отыщешь, пожалуй. Что же касается до мужниной родни, то ее хоть и много было, но покойный майор никогда не жил с нею в ладах и даже, умирая, предостерегал от нее жену.
– Смотри, после моей смерти братцы, пожалуй, наедут, – говорил он, – услуги предлагать будут, так ты их от себя гони!
Наконец, тяжелое горе отошло-таки на задний план, и тетенька всею силою старческой нежности привязалась к Сашеньке. Лелеяла ее, холила, запрещала прислуге ходить мимо ее комнаты, когда она спала, и исподволь подкармливала. Главною ее мечтой, об осуществлении которой она ежедневно молилась, было дожить до того времени, когда Сашеньке минет шестнадцать лет.
– Выдам ее за хорошего человека замуж и умру, – говорила она себе, но втайне прибавляла, – а может быть, бог пошлет, и поживу еще с ними.
С своей стороны, и Сашенька отвечала бабушке такой же горячей привязанностью. И старая и малая не надышались друг на друга, так что бабушка, по делам оставшегося от покойного зятя имения, даже советовалась с внучкой, и когда ей замечали, что Сашенька еще мала, не смыслит, то старушка уверенно отвечала:
– Она-то не смыслит! да вы ее о чем угодно спросите, она на все ответ даст! И обед заказать, и по саду распорядиться… вот она у меня какова!
Одним словом, это был один из тех редких домов, где всем жилось привольно: и господам, и прислуге. Все любили друг друга и в особенности лелеяли Сашеньку, признавая ее хозяйкой, не только наравне с бабушкой, но даже, пожалуй, повыше. И чем дольше жили, тем жизнь становилась приятнее. Гнездо окончательно устроилось, сад разросся и был преисполнен всякою сластью, коровы давали молока не в пример прочим, даже четыре овцы, которых бабушка завела в угоду внучке, ягнились два раза в год и приносили не по одному, а по два ягненка зараз.
– Вот и день сошел! да еще как сошел-то – и не заметили! Тихо, мирно! – говаривала бабушка, отпуская внучку спать. – Молись, Сашенька, проси милости, чтобы и завтрашний день был такой же!
Именно только повторение одного и того же дня и требовалось.
Я уже сказал выше, что наше семейство почти совсем не виделось с Ахлопиными. Но однажды, когда я приехал в Малиновец на каникулы из Москвы, где я только что начал ученье, матушка вспомнила, что 28-го июня предстоят именины Раисы Порфирьевны. Самой ехать в Р. ей было недосужно, поэтому она решилась послать кого-нибудь из детей. К счастью, выбор пал на меня.
Ехал я на своих, целых два дня с половиной, один без прислуги, только в сопровождении кучера Алемпия. Останавливались через каждые тридцать верст в деревенских избах, потому что с проселка на столбовой тракт выезжали только верст за сорок от Р. Наконец за два дня до семейного праздника достигли мы цели путешествия. Был уже седьмой час вечера, когда наша бричка, миновав пыльный город, остановилась перед крыльцом ахлопинского дома, но солнце еще стояло довольно высоко. Дом был одноэтажный, с мезонином, один из тех форменных домов, которые сплошь и рядом встречались в помещичьих усадьбах; разница заключалась только в том, что помещичьи дома были большею частью некрашеные, почернелые от старости и недостатка ремонта, а тут даже снаружи все глядело светло и чисто, точно сейчас ремонтированное. С одной стороны дома расположены были хозяйственные постройки; с другой, из-за выкрашенного тына, выглядывал сад, кругом обсаженный липами, которые начинали уже зацветать. В воздухе чувствовался наступающий вечер с его прохладой; липа далеко распространяла сладкое благоухание. Меня сразу обняло чувство отрады и покоя, особливо после продолжительного пути и душного города, который только что обдал нас вонью и пылью.
Нас встретила молодая горничная, никогда меня не видавшая, но как будто почуявшая, что я здесь буду желанным гостем.
– Пожалуйте! пожалуйте! – звонко приглашала она, – они в баньку ушли, сейчас воротятся, а потом чай будут кушать. Как об вас доложить?
Я назвал себя.
– Ах ты, господи! Затрапезные! А барыня точно чуяли. Еще давеча утром только и говорили: «Вот кабы братец Василий Порфирьич вспомнил!» Пожалуйте! пожалуйте! Сейчас придут! сейчас!
Она живо скрылась, сдав меня на руки старику слуге, который, узнав, что приехал молодой Затрапезный, тоже чему-то обрадовался и заспешил.
– Пожалуйте, пожалуйте, – говорил он, – тетенька еще давеча словно чуяли: «Вот, мол, кабы братец Василий Порфирьич обо дне ангела моего вспомнил!»
Он провел меня через длинную, в четыре окна, залу в гостиную и затем в небольшую столовую, где другая горничная накрывала стол для чая и тоже обрадовалась и подтвердила, что сердце тетеньки «чуяло».
Не прошло и десяти минут, как я уже стоял лицом к лицу с тетенькой и кузиной.
Тетенька, толстенькая, небольшого роста старушка, еще бодро несла свой седьмой десяток лет. Лицо ее, круглое, пухлое, с щеками, покрытыми старческим румянцем, лоснилось после бани; глаза порядочно-таки заплыли, но еще живо светились в своих щелочках; губы, сочные и розовые, улыбались, на подбородке играла ямочка, зубы были все целы. На голове ее был белый старушечий чепчик, несколько влажный после мытья; на плечах свободно висел темненький шерстяной капот, без всякого намека на талию. Была ли она когда-нибудь красива – этого нельзя было угадать, но, во всяком случае, и теперь смотреть на нее было очень приятно.
Сашенька была в полном смысле двенадцатилетняя русская красотка. Коли хотите, она напоминала собой бабушку, но так, как напоминает развертывающаяся розовая распуколка свою соседку, облетающую розу. Белое, с чуть-чуть заметною желтизною, как у густых сливок, лицо, румянец во всю щеку, алые губы, ямочка посреди подбородка, большие черные глаза, густая прядь черных волос на голове – все обещало, что в недалеком будущем она развернется в настоящую красавицу. Как и у бабушки, на голове ее был чепчик, несколько, впрочем, пофасонистее, а одета она была в такой же темный шерстяной капот без талии.
– Никаша? – угадывала тетенька, пристально вглядываясь в меня.
– Он самый-с.
– Ах, милый! ах, родной! да какой же ты большой! – восклицала она, обнимая меня своими коротенькими руками, – да никак ты уж в ученье, что на тебе мундирчик надет! А вот и Сашенька моя. Ишь ведь старушкой оделась, а все оттого, что уж очень навстречу спешила… Поцелуйтесь, родные! племянница ведь она твоя… Поиграйте вместе, побегайте ужо, дядюшка с племянницей.
Мы поцеловались, и мне показалось даже, что Сашенька сделала книксен.
– Ах, дяденька, мне так давно хотелось познакомиться с вами! – сказала она, – и какой на вас мундирчик славный!
– Как же! дам я ему у тетки родной в мундире ходить! – подхватила тетенька, – ужо по саду бегать будете, в земле вываляетесь – на что мундирчик похож будет! Вот я тебе кацавейку старую дам, и ходи в ней на здоровье! а в праздник к обедне, коли захочешь, во всем парате в церковь поедешь!
Мне шел тогда двенадцатый год. Это самый несносный возраст в детстве, тот возраст, когда мальчик начинает воображать себя взрослым. Он становится очень чуток ко всякой шутке, будь она самая безобидная; старается говорить басом, щегольнуть, неохотно принимает участие в играх, серьезничает, надувается. Вообще, как говорится, кобенится. Кобенился и я. На этом основании я на последней станции переменил свою куртку на мундир; на этом же основании двукратное упоминовение о мундире – как будто я им хвастаюсь! – ив особенности обещание заменить его кацавейкой задели меня за живое.
– Я своим мундиром горжусь! – ответил я; но, вероятно, выражение моего лица было при этом настолько глупо, что тетенька угадала нанесенную мне обиду и расхохоталась.
– Вздор! вздор, голубчик! – шутила она, – мундирчик твой мы уважаем, а все-таки спрячем, а тебе кацавейку дадим! Бегай в ней, веселись… что надуваться-то! Да вот еще что! не хочешь ли в баньку сходить с дорожки? мы только что отмылись… Ах, хорошо в баньке! Старуха Акуля живо тебя вымоет, а мы с чаем подождем!
– Сходите, дяденька, в баньку! – с своей стороны, умильным голоском, упрашивала меня Сашенька.
Это была вторая обида. Позволить себя, взрослого юношу, мыть женщине… это уж ни на что не похоже!
– Покорно благодарю, тетушка! я в баню идти не желаю! – сказал я холодно и даже с примесью гадливости в голосе.
– Ах, да ты, верно, старой Акули застыдился! так ведь ей, голубчик, за семьдесят! И мастерица уж она мыть! еще папеньку твоего мывала, когда в Малиновце жила. Вздор, сударь, вздор! Иди-ка в баньку и мойся! в чужой монастырь с своим уставом не ходят! Настюша! скажи Акулине, да проведи его в баню!
Словом сказать, меня и в баньке вымыли, и в тот же вечер облачили в кацавейку.
– Вот и прекрасно! и свободно тебе, и не простудишься после баньки! – воскликнула тетенька, увидев меня в новом костюме. – Кушай-ка чай на здоровье, а потом клубнички со сливочками поедим. Нет худа без добра: покуда ты мылся, а мы и ягодок успели набрать. Мало их еще, только что поспевать начали, мы сами в первый раз едим.
Чай был вкусный, сдобные булки – удивительно вкусные, сливки – еще того вкуснее. Я убирал за обе щеки, а тетенька, смотря на меня, тихо радовалась. Затем пришла очередь и для клубники; тетенька разделила набранное на две части: мне и Сашеньке, а себе взяла только одну ягодку.
– Разговеюсь, и будет с меня! в другой раз я, пожалуй, и побольше вас съем, – молвила она.
Чай кончился к осьми часам. Солнце было уж на исходе. Мы хотели идти в сад, но тетенька отсоветовала: неравно роса будет, после бани и простудиться не в редкость.
– Лучше сядем, да на солнышко посмотрим, чисто ли оно, батюшко, сядет!
Солнце садилось великолепно. Наполовину его уж не было видно, и на краю запада разлилась широкая золотая полоса. Небо было совсем чистое, синее; только немногие облака, легкие и перистые, плыли вразброд, тоже пронизанные золотом. Тетенька сидела в креслах прямо против исчезающего светила, крестилась и старческим голоском напевала: «Свете тихий…»
– Кабы не Сашенька – кажется бы… – молвила она, но, не докончив, продолжала: – Хороший день будет завтра, ведреный; косить уж около дворов начали – работа в ведрышко спорее пойдет. Что говорить!
Потрудятся мужички, умаются, день-то деньской косою махавши, да потом и порадуются, что из ихнего отягощения, по крайности, хоть прок вышел. Травы нынче отличные, яровые тоже хорошо уродились. И сенца и соломки – всего вдоволь будет. Мужичок-то и вздохнет. Вот мы и не сеем и не жнем, а нам хорошо живется, – пусть и трудящимся будет хорошо. В десять часов подали ужин, и в заключение на столе опять явилось… блюдо клубники!
– Это еще что! – изумилась тетенька, – ведь таким манером вы меня в праздник без ягод оставите! Приедут гости, и потчевать нечем будет.
– Это, сударыня, Иван Михайлыч прислали!
– Ах, кум дорогой! Все-то он так! Сосед это наш, – обратилась тетенька ко мне, – тут же о бок живет, тоже садами занимается. Служил он у покойного Петра Спиридоныча в частных приставах, – ну, и скопил праведными трудами копеечку про черный день. Да, хорошо при покойном было, тихо, смирно, ни кляуз, ни жалоб – ничего такого! Ходит, бывало, сердечный друг, по городу, деревяжкой постукивает, и всякому-то он ласковое слово скажет. Постучится в окно к какому-нибудь куму – у всего города он детей крестил, – спросит: «Самовар на столе?» – «Готов, сударь». Взойдет, выпьет стакан и опять пошел постукивать. И представь себе, как хорошо у нас выходило: 28-го я именинница, а 29-го – он. Так два дня сряду, бывало, и идет у нас пир горой.
Тетенька умилилась и отерла слезинку.
– Впрочем, и теперь пожаловаться не могу, – продолжала она, – кругом живет народ тихий, благонравный, на бога не ропщет, смотрит весело, словно и огорчений на свете нет. Ах, да и не люблю я этих… задумчивых! Я и прислугу держу веселую; люблю, чтоб около меня с довольными лицами ходили, разговаривали, песни пели. А ежели кто недоволен мной, того я силком не держу. Хоть и крепостные они мои, а я все-таки помню, что человеку иногда трудно себя переломить. Каждый божий день те же да те же комнаты, да с посудой возись – хоть кому шею намозолит! Понимаю я это, мой друг, и ценю, когда прислуга с веселием труд свой приемлет. Вот только Акуля с Родивоном – из мужской прислуги он один в доме и есть, а прочие всё девушки – всё что-то про себя мурлыкают. Ну, да это уж от старости. Подумай, ведь Акуле-то уж годов восемьдесят. Нянчила она меня еще вот Эконькую и до сих пор про Малиновец вспоминает. Ах, да и хорошо было там при маменьке Надежде Гавриловне! Когда дошла очередь до блюда с клубникой, тетенька расфилософствовалась.
– Вот, – говорила она, – как бог-то премудро устроил. Нет чтобы в саду все разом поспело, а всякой ягоде, всякому фрукту свой черед определен. К Петрову дню – клубника, к Казанской – малина, к Ильину дню – вишенье, ко Второму спасу – яблоки, груши, сливы. А в промежутках – смородина, крыжовник. На целых два месяца лакомства хватит. Глядя на это, и мы в своих делах стараемся подражать. У меня во дворе четыре коровушки, и никогда не бывало, чтобы все разом телились. Одна в Филипповки телится, другая – великим постом, третья – в Петровки, а остатняя – в Спожинки. Круглый год у нас и молочко, и сливочки, и маслице – все свое. А к празднику и свой теленочек есть. Вот послезавтра увидишь, какого мы бычка ко дню моего ангела выпоили! Сама сегодня утром ходила глядеть на него: лежит, глаза закрывши, не шевельнется. Жаль бедненького, а приходится резать. Ну, да ведь и то сказать: не человек, а скотина!
